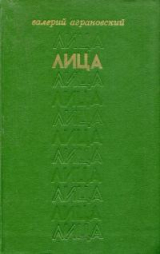
Текст книги "Лица"
Автор книги: Валерий Аграновский
Жанр:
Периодические издания
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 33 страниц)
В эту среду и попал Андрей Малахов.
Вскоре он как новичок «получил» от Бонифация три телефона-автомата с точным указанием, где какой находится. По поручению главаря Шмарь за один сеанс научил Андрея с помощью нехитрых приспособлений «брать выручку», а условием было оставлять себе сорок копеек с каждого рубля, и с этим «не шутить», как сказал Бонифаций, взглянув на Андрея остановившимися глазами.
Пока что жизнь вполне устраивала нашего героя. В классе его защищал Шмарь, теперь регулярно получавший свои «полхруста» в день, а в «сходняке» Андрей определенно пользовался покровительством самого Бонифации, который скоро заметил сметку мальчишки, его выдержку и расчетливую осторожность и, самое главное, его устойчивость как «кадра «сходняка». После всех выплат у Андрея еще оставалось немного денег на мороженое и на игру в «трясучку», и, откровенно говоря, он не рвался на более серьезные «подвиги», которым было суждено попасть если не в историю, то в уголовное дело. Бонифаций это обстоятельство очень тонко учитывал и тоже не торопился. Он давал возможность новичкам осмотреться, освоиться, набраться ума и опыта, он как бы берег наиболее перспективных ребят и с этой точки зрения воспитывал подростков куда внимательнее и тоньше, нежели педагоги в школе: уж у него-то наверняка был строго индивидуальный подход!
Однако ход событий был неожиданно ускорен непредвиденным обстоятельством, в какой-то мере независимым от Бонифация. Когда Андрей после летних каникул, проведенных в деревне с бабушкой, вернулся домой, Шмарь потребовал у него сорок рублей, то есть свою «зарплату» за весь летний период, не желая мириться с вынужденным простоем. Несправедливость требования была очевидна, но Малахов смертельно боялся своего защитника, человека отчаянного, сильного и способного пырнуть ножом даже без всякой причины. Попросить у Бонифация серьезную «работу» Андрей не решался, потому что, во-первых, все лето не посещал «сходняк» и в какой-то степени вышел из доверия, и, во-вторых, чтобы заработать чистыми сорок рублей, надо было украсть, по крайней мере, на двести, учитывая проценты Бонифация.
А Шмарь уже назначил последний срок.
Наступили трудные времена. Хочу напомнить читателю, что ни родители, ни школьные педагоги понятия не имели о заботах, свалившихся на голову тринадцатилетнего парня. Не только его внутренний мир был недоступен взрослым, но даже внешние поступки совершались как бы в ином измерении, хотя и в тех же пространственных и временных объемах. Андрей был один на один со своими маленькими и большими трагедиями, причем к а к о й он был один! С исковерканными представлениями о добре и зле, издерганный, злой, агрессивный, ощущающий одиночество, враждующий со школьным коллективом, неспособный дать самому себе добрый совет и предостеречь себя от недобрых поступков.
Кончилось дело тем, что выход из положения он, конечно, нашел, совершив первое в своей жизни разбойное нападение, но я временно приостановлю развитие сюжета, чтобы закончить рассказ о нравах и образе мышления ребят, входящих в «сходняк».
ВОРОН С ВОРОНОМ. В колонии у меня состоялся с Андреем такой разговор (передаю его в стенографической записи).
– Андрей, были в твоем окружении люди, перед которыми ты хотел бы выглядеть лучше, чем был на самом деле?
– Нет.
– Могу ли я понимать так, что тебе все равно, что о твоей персоне подумают?
– Правильно.
– А как ты считаешь, есть у тебя качества, от которых следует избавляться?
– У меня все нормально.
– И с честностью тоже?
– А я честных людей вообще не встречал. Вот у нас сосед по дому, а у него жена – продавщица в молочном. Я сам относил ее записку какой-то Наде, ну и по дороге прочитал: «Надя, не разбавляй молоко, я уже разбавила».
– Андрей, это из старого анекдота.
– Правильно. Ну и что из того? А шоферы такси не дают сдачи, говорят, что у них нет мелочи, – тоже из анекдота?
Короче говоря, его главной социальной установкой была убежденность в том, что «все воруют», что «никто не живет на одну зарплату», а он поступает всего лишь «как все». В подтверждение этого тезиса Андрей обрушил на меня каскад жизненных примеров, свидетельствующих, с его точки зрения, о всеобщей нечестности. Начал он, как я и предполагал, с собственной семьи, с отца, который «только и думает, как бы прожить на дармовщину». Затем вспомнил некую Розу, директора магазина, которой Бонифаций перепродавал краденые товары, но Роза в суде, конечно, не призналась, «что она, дура, что ли?». Потом посмеялся от души над «Актом об уничтожении вещественных доказательств», составленным и подписанным судьей и секретарем после процесса над Малаховым я его компанией. А «вещественными доказательствами» были десять плиток шоколада «Цирк», шестнадцать банок «Завтрака туриста», семь банок какао и прочая снедь. «Как же они их «уничтожили»? – смеялся Андрей. – Да просто съели! А были бы честными, отдали бы лучше детскому саду!» – «Может, отдали, – сказал я, – откуда ты знаешь?» – «Дак ведь написано в акте: у-ни-что-жи-ли! Мне адвокат показывал!» И задавал риторические вопросы типа: «Кто из людей, если найдет десятку, отнесет в милицию? А найдется дурак, так разве в милиции эту десятку не зажулят?» И даже бабушку свою Анну Егоровну, известную кристальной честностью, не пожалел, и это было единственный раз, когда Малахов говорил не со злорадством, а с сочувствием: «А баба Аня после войны работала в столовке и носила домой котлеты». Как поется в песне, которую я слышал в исполнении долговязого гитариста: «А если взять и все окрасить в черный цвет: деревья – черные, цветы – чернее нет, передо мной машины черные бегут, они меня куда-то манят и зовут…»
В науке есть такое понятие: криминогенная мораль. Я откровенно говорил с ребятами из «сходняка» и понял, что они, как и предсказывали ученые, делятся на три четкие категории. Первая считала, что красть нельзя, однако все же воровала и никаких противоречий при этом с собственной совестью не испытывала; группа, прямо скажу, самая малочисленная. Большинство полагало, что красть можно, и убеждений, удерживающих от воровства, у этих ребят не было. К их числу относился Кляров-Скоба, который по моей просьбе однажды мучительно долго вспоминал, почему он ограбил маленький ларек, хотя вроде бы грабить его не собирался. Потом вспомнил: «Ах да, там на дверях замка не было! Одна пломба торчала!» Наконец, третья категория считала, что красть не только можно, а даже нужно, необходимо, иначе нельзя, и шла на воровство осознанно, с убеждениями, прямо толкающими на преступление. К этой последней категории в чистом виде относился Бонифаций, а затем, пройдя его «школу», стал относиться и наш Андрей.
Но кто мне ответит на вопрос: зачем они крали? Давайте рассуждать по-житейски: нелегальность доходов мешала им «нормально» использовать награбленное и обогатиться. Ворованные деньги и вещи «пролетали», «профукивались», ни на что полезное не обращались. Андрей заметил как-то, что очень обидно с таким трудом добытые деньги тратить на мороженое, на пирожные и на вино, которое он, кстати, «не уважал». Один-единственный раз Андрей купил бабушке Анне Егоровне косынку и, как сказал мне, едва «отбрехался», соврав, что нашел. «А я что-то хожу, – сказала баба Аня подозрительно, – и, как слепая, ничего не нахожу». После этого случая Андрей, у которого были спрятаны наличными двадцать рублей, немедленно купил две облигации трехпроцентного займа, – но зачем? Ему было тогда четырнадцать лет, и, возможно, он надеялся, став взрослым и независимым, найти достойное применение ворованному? Значит, воровать – и откладывать, копить на будущее? Кто-нибудь знает таких воров с «дальним прицелом», особенно среди подростков?
Итак, какова же была цель преступлений и каков мотив? – иными словами, чего добивались ребята и чем при этом руководствовались? Володя Скоба, украв из ларька с пломбой сладости, продал их товарищам, а на вырученные деньги купил три бутылки портвейна. Цель в данном случае была: выпивка, хотя я все равно не верю в страстное алкоголическое желание четырнадцатилетнего парня. Но предположим. А мотив? Быть может, Скоба хотел продемонстрировать «взрослость»? Или превосходство над другими? Или это было озорство? Он, может, просто развлекался? Как я ни выспрашивал парня, ничего вразумительного от него не добился. То ли Володя сам не знал собственных мотивов, то ли не умел выразить их словами, то ли мотивов вообще не было.
Криминологи утверждают, что устойчивую мотивацию имеют в среднем не более половины всех преступников из числа несовершеннолетних, причем потолок мотивации с каждым годом становится все ниже и ниже. Я не исключаю, что Володя Скоба, который в этом смысле мало отличается от Малахова, «безмотивен». И даже Бонифаций, как мне известно, не был принципиален в своих действиях: он мог на краденые деньги купить водку, а через неделю, «взяв» в продуктовом магазине несколько бутылок коньяка, продать их и получить в виде прибыли те же «хрусты».
Вероятно, читателю покажется не только странной, но и страшной эта исковерканная психология, глупость целей и бессмысленность мотивов, эта мрачная убежденность во всеобщей нечестности, однако так выглядит картина с нашей здоровой точки зрения. Они же сами, разлагаясь, дурного запаха собственного разложения не ощущали. Бонифаций был для Андрея «самым настоящим» человеком, и Скоба «настоящим», и даже Шмарь, этот наемный защитник и шантажист, и тот был «что надо».
«Ну хорошо, – попробовал я разобраться, исходя из того, что личностные качества преступников сами по себе могут и не содержать ничего порочного. – Что ты, Андрей, понимаешь под словом «настоящий»?» – «Ха! – вырвалось у Малахова. – Скоба, знаете, какой веселый? Когда нас везли в суд, он в машине так давал, что мы рты не закрывали!» – «Немного же тебе надо, чтобы считать человека настоящим, – сказал я. – А между прочим, Скоба тебя же и предал. Или забыл?»
(Дело в том, что Володя, как и Андрей, «получил» в свое время от Бонифация телефоны-автоматы, но очень скоро попался. В первом же разговоре с милицейским следователем он спокойно выдал Малахова, желая всего-навсего доказать, что его автоматы не столь прибыльны, как, например, малаховские. Расчет оказался верным, и, когда ребята предстали перед комиссией по делам несовершеннолетних, Скоба ушел на второй план и отделался легче, нежели его друг.)
Андрей, выслушав меня, отреагировал весьма неожиданно. «Это точно! – почему-то с восторгом произнес он. – Скоба хи-и-и-трый! Он тогда здорово себя прикрыл!» – «Еще бы, – сказал я, – за твой счет!» – «Ну дак и что? – невозмутимо заметил Андрей. – И я бы так сделал». – «Вот тебе и на! А как же «принцип д’Артаньяна»?» – «Когда прижмет, – сказал Андрей, – принципы могут погулять. Лично я к Скобе ничего не имею».
Ворон ворону, говорят, глаз не выклюет.
КРАЙНЯЯ МЕРА. Читателю, полагаю, ясно, какую школу безнравственности прошел Малахов у Бонифация и какого «ума» набрался в «сходняке». Но это было позже, а к тому времени, когда Шмарь потребовал у него сорок рублей, когда тринадцатилетний Малахов один на один остался со своей первой серьезной трудностью, он был еще «салажонком». Правда, другой мальчишка на его месте, воспитанный в нормальной семье, не отторгнутый школьным коллективом и имеющий дело с умным и знающим педагогом, нашел бы достойный выход из положения, если, конечно, допустить, что он в это положение попал бы. Шмарь был львом, но среди зайцев, и не так уж трудно было нейтрализовать его и осилить – то ли с помощью взрослых, то ли при поддержке верных школьных товарищей. Увы, в том моральном и нравственном одиночестве, в котором находился наш герой, при том дефиците защиты, который он постоянно испытывал, при тех искаженных представлениях о добре и зле, что он усвоил с младенчества, он, конечно, не мог не драматизировать ситуацию.
Срок, установленный Шмарем, приближался, он был приурочен ко дню рождения Бонифация, на котором все они должны были встретиться.
Андрей совсем забросил учебу. Несколько дней с затравленным видом он бродил по городу, думая о том, как достать деньги, и прокручивая варианты, один фантастичнее другого. Мимо него деловыми и праздными походками шли люди, и в каждом кармане пальто или костюма Андрей угадывал «бесполезно» лежащие сорок рублей, так ему необходимые. Он глядел на витрины магазинов с выставленным на обозрение богатством, ему недоступным, и душа его наполнялась ненавистью ко всему чужому. Пусть не подумает читатель, что вышеизложенные чувства Андрея – плод моего воображения, я исхожу из того, что говорил он мне, вспоминая те дни: «Знаете, я очень злился: у них есть все, а у меня ничего нету!»
Однажды он остановился у окна квартиры, находящейся в полуподвальном помещении. Фрамуга была на уровне его головы. В комнате на столе лежала дамская сумка. Была поздняя осень, уже летали снежные мухи, быстро темнело. Преступная мысль не то чтобы вдруг пришла Андрею, она сидела в нем у самого выхода и только ждала реализации. Где-то рядом, во дворе, он нашел кусок проволоки и веревку. Из проволоки сделал длинный крючок, затем осторожно приподнял фрамугу, закрепил ее веревкой, чтобы не сорвалась, и все это делал неторопливо, тщательно обдумывая каждое движение, дыша ровно и спокойно, не озираясь трусливо по сторонам, а редко и зло оглядываясь, напоминая в эти минуты Бонифация с его отработанной выдержкой.
Потом, несмотря на жгучее нетерпение, Андрей спрятал сумку под пальто, сделал несколько шагов от окна и вдруг почувствовал, что ноги его обмякли и отнялись, – он сказал мне: «Понимаете, как будто их отрезали». А когда они вновь обрели способность двигаться, побежал. По дороге он успел все: мысленно расплатился со Шмарем, получив от него долгожданную свободу, отложил часть денег на «трясучку», часть надежно спрятал в свой тайничок возле котельной, который давным-давно нашел в собственном дворе и тщательно замаскировал, а на все остальные деньги досыта наелся пирожных. Дома, закрывшись в уборной, он наконец-то щелкнул замком.
Хочу предупредить читателя, что, если его живо интересует содержимое сумки и если он способен так же разочароваться, как Андрей, это будет означать, что он сопереживает моему герою вовсе не в том, в чем нужно, – между прочим, «нужно» и самому читателю. Я надеюсь на другое: на тревогу за судьбу Малахова, на горькое предчувствие его последующих шагов, на искреннее желание остановить Андрея и спасти его, пока не поздно, было бы это только в наших силах.
А в сумке что? В сумке были: пара заколок, круглое зеркальце и три рубля денег. Лихорадочно проверив все закоулки и отделения, Андрей спустил воду в туалете и громко заплакал под аккомпанемент бачка. «Обидно было», – сказал он. И тогда же, в уборной, он решился на крайнюю меру – в ту пору эта мера еще была для него крайней – напасть на живого человека.
Но, прежде чем осуществить задуманное, он все же сделал самую последнюю попытку: пришел к своей матери. Не называя ей имени Шмаря, но находясь в наивысшей степени отчаяния, он рассказал Зинаиде Ильиничне всю историю, связанную с сорока рублями. Мать потрясенно слушала сына и, как сказала мне потом, «сердцем поняла, что он не врет». Однако денег у нее не было, и пришлось обращаться к Роману Сергеевичу. Первый его вопрос был: «Зачем?» Получив от жены невразумительный ответ, но почувствовав, что мать с сыном о чем-то сговорились, Роман Сергеевич «стал трясти Зинаиду, как грушу», и, конечно же, вытряс тайну Андрея. Реакция его была «естественной»: не защищать и не выручать сына, а наказывать его за то, что он «целый год, оказывается, ежедневно платил какому-то гаду по полтиннику, и все из моего кармана».
Порка еще более укрепила Андрея в принятом решении, он сказал мне: «Теперь из принципа!» Последующие три дня он исправно ходил в школу, но вовсе не для того, чтобы учиться. Андрей откровенно тренировался: сильным ударом кулака выбивал из рук школьников портфели. В дневнике Евдокии Федоровны появилась тогда следующая запись, вопиющая по своей формальности и педагогической беспомощности: «Малахов безобразничает на переменах, оторвал ручки от четырех портфелей. Провести беседу о бережном отношении к вещам». Ровно за день до сбора у Бонифация, вечером, Андрей достал из чулана черную каракулевую шапку, некогда купленную по дешевке отцом, положил на всякий случай в карман отвертку и пошел на улицу, бросив матери: «Я прошвырнусь!»
Не буду утомлять читателя подробным описанием преступления. Ограничусь деталями, характеризующими «метод» Малахова, которому он с того первого раза остался верен до конца. Прежде всего Андрей заранее, еще днем, присмотрел место, где должно было все состояться, чтобы удобно было и нападать, и давать деру. Затем он сделал себе бумажную маску, но, примерив, отказался от нее, потому что она не обеспечивала, как он выразился, нужного «кругозора». Шапка оказалась лучше. Перед зеркалом он нашел для козырька оптимальное положение, позволяющее ему видеть лицо жертвы, а собственное лицо скрыть. Одновременно с этим он тут же решил, что днем никогда не выйдет в этой шапке на улицу, чтобы его случайно не опознали. Наконец, заняв пост, он тщательно подбирал объект для нападения. Когда он выбил из рук пожилой женщины сумку, и сумка упала на землю, и женщина, не издав ни единого звука, вдруг встала на колени и закрыла руками лицо, Андрей – нет, не испугался, не удивился, не испытал ни жалости, ни раскаяния – он задрожал от ненависти к этому слабому, поверженному им человеку и несколько лишних секунд простоял, торжествуя, с отверткой в приготовленной для удара руке.
Ночью он спал спокойно. Кошмары его не мучили. Сумку он не выбросил, а спрятал в тайник. Утром, проснувшись, первым делом нащупал под подушкой десятку и золотое кольцо, с помощью которых надеялся откупиться от Шмаря. Но это был не конец, а начало бурной грабительской деятельности: к моменту ареста в тайнике Андрея скопилось шестьдесят дамских сумок.
Однако в ту пору еще можно было выйти на самый оживленный перекресток города, сложить ладони рупором и крикнуть: «Остановите Малахова, пока не поздно!» – и его действительно еще не поздно было остановить. Но, во-первых, кто-то должен был для этого выйти на перекресток, и, во-вторых, кто-то должен был услышать и откликнуться.
VII. ОСТАНОВИТЕ МАЛАХОВА!
ДЕТСКАЯ КОМНАТА МИЛИЦИИ. Примерно через месяц после описанных событий в школу неожиданно явился офицер милиции Олег Павлович Шуров. Он зашел к директору Шеповаловой, а затем вместе с нею – прямо в 5-й «Б». Ученики встали, урок прервался, и Шуров, безошибочно глядя на Андрея, произнес: «Малахов?» Андрей, как он потом рассказывал, подумал: «Здрасьте!» – и мгновенно прокрутил в голове пленку: Шмарь, наверное, засыпался с золотым кольцом, и потянулась ниточка. Размышляя так, Андрей тем не менее собрал тетради, пригладил волосы и на глазах потрясенного, но вполне довольного развитием событий класса пошел вслед за офицером. Они выехали со школьного двора на мотоцикле с коляской. О чем говорили дорогой, ни Андрей, ни Олег Павлович сегодня не помнят, а я не хочу выдумывать. Но ход мыслей каждого, исходя из последующих с ними бесед, я, кажется, позволю себе изложить.
Шуров прежде всего мог искоса посмотреть на Андрея и припомнить, откуда ему знакомо это лицо: четыре года назад Зинаида Ильинична Малахова приносила в милицию фотографию сына, прося помочь в розыске беглеца. Припомнив, Олег Павлович мог бы казниться: почему он еще четыре года назад не вник в причины, толкнувшие ребенка на побег, почему не занялся им серьезно? И тут же успокоил бы себя, потому что, пожелай он серьезно вникать в каждого, оказавшегося на его пути, ему пришлось бы работать по сорок восемь часов в сутки.
Затем Олег Павлович мог прикинуть, много или мало ему предстоит маяться с этим парнем, и даже перебрать варианты «маеты». Правда, сколько бы их ни было, этих вариантов, главного Олег Павлович все равно не знал: что кардинально следует сделать, чтобы вернуть Андрея на путь истинный? Передать его совету общественности при детской комнате милиции? Но это будет означать, что, получив Андрея, теперь уже совет станет ломать голову, что с ним делать. Побеседовать с Малаховым лично? Но этих бесед «по душам» едва хватает ребятам до порога милицейской комнаты. Отправить злое письмо на работу родителей? Но подобные письма, как хорошо знал Олег Павлович, «без обратного адреса». Обратиться за помощью к шефам-комсомольцам, кстати, работающим на том же заводе, где и Малаховы, и попросить их приглядеть за Андреем? Но очень уж нескорые по своей отдаче результаты у этой шефской работы, не всегда их сразу и видишь. Стало быть, остается последняя мера: поставить Андрея перед комиссией по делам несовершеннолетних.
Тут Олег Павлович мог еще раз взглянуть на Андрея, задумчиво сидящего в мотоциклетной коляске, и решить, что, судя по всему, обойдется беседой. Во-первых, Малахов не рецидивист, а со «свеженькими» было принято не торопиться. Во-вторых, его родители – люди грамотные, не алкоголики, никогда не судимые, то есть семья, слава богу, благополучная. Наверное, избаловали сына, приучили к деньгам, да еще «улица» повлияла, – типичный случай.
Короче говоря, в результате вышеизложенных размышлений Олег Павлович мог нарисовать себе облегченную картину, не требующую принятия радикальных мер, которыми он, к слову сказать, все равно не располагал.
Теперь оставим Шурова и обратимся к Андрею Малахову. Мне доподлинно известно, что по дороге в милицию он целиком находился во власти страха и нехороших предчувствий. Они еще более подтвердились и усилились, когда Шуров, введя Андрея к себе в кабинет, будто бы между прочим спросил: «У тебя есть черная шапка с таким козырьком?» В отличие от других, умеющих сознаваться сразу, Андрей обладал привычкой сначала отрицать любую свою вину, «пока не докажут». Вроде бы для достоверности, он переспросил Шурова: «С козырьком? Черная?», а затем, посмотрев на потолок и перебрав в уме «полторы тысячи» своих зимних шапок, твердо сказал: «Нет, нету». И, как в счастливом сне, Олег Павлович удовлетворился таким ответом, сказав: «Ну и бог с ней», – и больше к шапке не возвращался. Оказывается, это был не нацеленный, а дежурный вопрос, который Шуров задавал каждому подростку, вошедшему в кабинет: на отделении милиции «висело» нераскрытым преступление, совершенное, по словам потерпевшей, «мальчиком в черной шапке с длинным козырьком». И только тут Андрей в виде подарка узнал причину, по которой его привезли в отделение. «Про телефоны-автоматы сам будешь рассказывать? – спросил Шуров. – Или прочитать тебе показания Клярова?»
С этого момента Олег Павлович, как «детектив», прекратил для Андрея свое существование. Десятки раз впоследствии, направляясь к Шурову в кабинет то ли по вызову – то есть своими ногами, то ли приводом – в сопровождении работника милиции, Андрей был безмятежно спокоен.
Образ Шурова как воспитателя сложился у меня после бесед с людьми, имевшими с ним дело. Клавдия Ивановна Шеповалова: «Откровенно слабый товарищ, но его слабости есть продолжение несовершенств в работе нашей комнаты милиции по воспитанию подростков и профилактике преступлений». Зинаида Ильинична: «Душевный и чуткий человек! Раз в месяц, но обязательно позвонит по телефону и спросит: «Где ваш сын?» Я даже испугаюсь, скажу: «Ой, Олег Павлович, не знаю. Что случилось?» А он: «Надо бы знать, тогда ничего и не случится!» Володя Кляров: «Какой он, понятия не имею, никогда лично им не интересовался. Придет, бывало, в «сходняк», остановится возле беседки, поманит пальцем любого на выбор – и к себе, в кабинет». Роман Сергеевич Малахов: «Я его один раз всего-то и видел и ничего сказать не могу. А детская комната милиции – это чушь. Как жалобная книга: в нее пиши, не пиши, а толку мало». Андрей Малахов: «Олег Павлович – мужик безвредный, с ним жить можно, особенно не приставал. Вызовет и говорит: «Садись, Малахов, сейчас буду тебя воспитывать!» И начнет свою ду-ду. Здесь главное – слушать и поддакивать, и тогда он оставит тебя в покое».
Наконец, мои собственные впечатления. Однажды, в очередной раз вернувшись из колонии, я направился к Олегу Павловичу, совершенно серьезно относясь к тому обстоятельству, что детская комната милиции – одно из главных звеньев в системе раннего предупреждения подростковой преступности. Комнату я нашел довольно быстро, хотя ничего детского в ней не было: ни книг, ни игрушек, ни даже телевизора, – и, по всей вероятности, быть не должно, аналогия с детсадом по меньшей мере наивна. Я увидел два казенных стола, несколько стульев, тяжелый сейф, пепельницу для курящих, корзину для бумаг, шкаф, заваленный папками, и решетку на единственном окне, так как этаж был первым. Суровость внешнего вида давала более правильное представление о целях и задачах детской комнаты, нежели ее инфантильное название.
Олег Павлович сидел за одним из письменных столов, несмотря на субботу или, может быть, благодаря ей: по субботам и воскресеньям милиция, как известно, трудится с удвоенной нагрузкой. Быстрый и энергичный, он успевал одновременно говорить со мной, писать какую-то бумагу, перелистывать чье-то «дело», отвечать на телефонные звонки и еще сам звонить.
Когда я спросил Шурова, помнит ли он Андрея Малахова, многозначительный взгляд Олега Павловича, обращенный на шкаф с папками, дал мне понять, что каждого запомнить невозможно. В шкафу у Шурова в день моего прихода было шестьдесят семь папок: двадцать подростков в разное время вернулись из колонии, за ними был нужен глаз да глаз, а остальные сорок семь находились на профилактическом учете: «И они в заботах, и я», – сказал Шуров. Это были в основном мальчишки, девочек очень мало, в примерной пропорции одна к двенадцати, хотя Шуров заметил, что «ставить на путь» женский пол в те же двенадцать раз труднее, чем мужской, и потому в итоге получается «так на так».
Мы прервали разговор, поскольку ответил наконец абонент, до которого настойчиво дозванивался Шуров. Олег Павлович стал уговаривать неизвестного мне человека и даже умолять его куда-то пойти и дать на что-то согласие. Абонент упорствовал, разговор явно затягивался, и тогда Шуров, прикрыв ладонью трубку, объяснил мне, в чем дело:
– Легче отправить человека в космос, чем алкоголика на лечение. Принцип добровольности! Я из-за этого принципа третью неделю не могу получить анализы и начисто зашился с документацией. Ну и тип! Плюнуть? Бросить? Совесть не позволяет, у него сын – мой кадр, пропадает мальчишка…
Потом, когда они все же о чем-то договорились, Олег Павлович вытер платком вспотевший лоб и полностью сосредоточился на моем вопросе.
– Андрей, стало быть, Малахов, – сказал он. – Рыжий такой.
– Шатен.
– Ну шатен. Помню! По его делу проходили, значит, Шмарь и Кляров, точно? Точно. Отпетые. На путь не встали и не встанут, хотя Клярова как малолетку уже выпустили. А главарем у них был Бонифаций, он здорово нас поводил, но ничего – отсвистелся. Что же касается Малахова, то до суда он прошел всю нашу районную «мясорубку», а все же не уберегся. С моего учета снят по причине осуждения. Когда вернется… Ему лет пять дали?
– Совершенно верно.
– Вот видите. Когда вернется, будет в разряде взрослых.
«Мясорубкой» Олег Павлович называл систему ранней профилактики подростковой преступности.
КОМИССИЯ. Когда Андрея поставили на учет в детской комнате милиции, наступило какое-то странное всеобщее равновесие. Казалось бы, сейчас-то и возьмутся все за Малахова, но в действительности произошел резкий спад внимания к нему. Олег Павлович Шуров, поговорив с Андреем «по душам», посчитал свою миссию на данном этапе законченной и не то, чтобы успокоился, а временно застыл. Школа, приобретя в лице Шурова надежного соответчика за дальнейшую судьбу парня, тоже удовлетворилась. Испугались и затаили дыхание родители, впервые узнав, какие «веселые дела» числятся за их сыном, но скоро поняли, что сам факт постановки на учет, кажется, и есть высшая мера воздействия на Андрея, стало быть, и на них. Что же касается нашего героя, то прямо от Шурова он поспешил к Бонифацию, летя на крыльях если не приобретенной, то, по крайней мере, не потерянной свободы. Бонифаций внимательно выслушал его и мудро сказал: «Бог не фраер, он все простит. Но теперь будь осторожней!» Воспользовавшись советом, Андрей тоже не нарушал всеобщего равновесия.
И только через год, учась в шестом классе, он предстал перед комиссией по делам несовершеннолетних. Официальным поводом послужила непрекращающаяся эпопея с телефонами-автоматами: Андрей, уже вовсю промышляющий грабежами и кражами в составе шайки и самостоятельно, не отказался между тем от этого небольшого, но весьма надежного источника дохода. Подвел его все тот же Скоба, человек невезучий и часто «подгорающий», однако Андрей винил себя самого, поскольку вовремя не «отшился» от Скобы, нарушив мудрый совет Бонифация.
Воспоминания Малахова о процедуре разбора дела на комиссии чрезвычайно скупы, потому что, собственно, вспоминать ему нечего. «Завели нас, – рассказывал он, – сразу двоих. Такая комната. Они – за столом, человек пять, кто да кто – не знаю. Спросили, зачем мне деньги. Я ответил: на мороженое и на кино. А разве родители не дают? Я на мать посмотрел и сказал: почему не дают? Просто просить неудобно. Они покивали головами. Тут я извинился: больше, сказал, не буду. Кто-то из них: дело, мол, ясное, давайте, товарищи, закруглять, у нас там очередь. Нам сказали выйти, а потом объявили: Скобе штраф, мне – год условно. И все».
Рассказ Андрея могу дополнить не менее скупыми воспоминаниями классного руководителя Евдокии Федоровны: «Я Малахова не выгораживала, но мои слова произвели на комиссию не такое впечатление, как слезы Зинаиды Ильиничны, она очень вовремя заплакала. Кто-то заикнулся о спецшколе, но предложение отвергли, даже не обсуждая. В районе у нас спецшколы нет, а посылать «на чужбину» вроде бы жалко. Вся процедура уложилась в минуты. Считаю, что это был конвейер, исключающий глубокое проникновение вглубь». – «В чужом глазу, – сказал я, – Евдокия Федоровна, и соломинка…» – «Пожалуй, – перебила она. – Со стороны действительно виднее».
Итак, год испытательного срока. Не только шокового состояния, даже испуга не было у Андрея. «После комиссии, – сказал он мне, – я решил ходить только на такие дела, которые имеют сто процентов гарантии». – «И скоро представился случай?» – «Нет, не скоро, – ответил он. – Через неделю». По статистике каждый четвертый подросток, осужденный судом за преступления, ранее рассматривался комиссией по делам несовершеннолетних. Малая эффективность мер, принимаемых иными комиссиями, очевидна. Давайте не пожалеем времени, чтобы разобраться в причинах.








