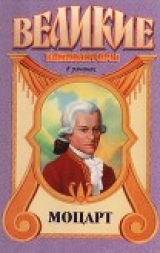
Текст книги "Вольфганг Амадей. Моцарт"
Автор книги: Валериан Торниус
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 27 страниц)
VII
Лету в этом году, похоже, не будет конца. На прощанье сентябрь дарит целую неделю, насквозь прогретую солнцем. До того жарко, что Моцарт, который любит прогуляться по аллеям сада, вслушиваясь в мелодии своей фантазии, а потом сесть в беседке или на веранде и спокойно перенести их на нотную бумагу, сбрасывает камзол и работает, подвернув рукава рубашки.
Время от времени Бабетта приносит ему прохладительные напитки. Он весь в поту не только из-за жары, но и ввиду усилий, которые приходится прилагать, чтобы подниматься всё ближе к вершине. Сделанное и готовое его почему-то не удовлетворяет. Светлая и приятная обстановка, окружающая Моцарта, никак не гармонирует с мрачным, предсмертным настроением последних сцен либретто. Комическая струя оперы, получившая по желанию самого композитора явное предпочтение в предыдущих сценах, должна теперь, повинуясь внутренним законам драмы и в полном соответствии с мрачной интродукцией, отступить перед трагическим финалом. Месть должна восторжествовать над происками соблазнителя, потому что, несмотря на все побочные комические ситуации, «Дон-Жуан» всё-таки трагедия.
Никогда прежде, работая над оперным материалом, у Моцарта не было случая отразить в музыкальной форме те муки, что исторгаются из его души.
Начиная с его опытов в области оперы-сериа, он всегда имел дело с внешними характеристиками бескровных бумажных героев. А сейчас он чувствует их горячее, прерывистое дыхание, которое опаляет его самого. Он оказался перед чем-то непривычным, неизведанным, но захватывающим. То, что он придумывает и быстро записывает, его не устраивает и отбрасывается; он весь во власти честолюбивого желания создать в этих последних сценах нечто особенное, никогда доселе не существовавшее, и он предъявляет к себе высочайшие требования. За всем происходящим маячит тень неумолимого «ты должен!» – он обязан сдать эту работу к назначенному сроку.
Он близок к полному отчаянию, когда видит, что все его наброски и эскизы далеки от желаемого. Неужели ему не дано справиться с этой задачей? И опере не суждено явиться на свет Божий такой, как он задумал? Впереди провал?
Им овладевает безнадёжная меланхолия, которая только усугубляется давящей духотой. Тоскуя, он бесцельно бродит по саду. Оказавшись наконец в беседке, он садится за стол, опускает голову на руки и пытается подремать. И неожиданно проваливается в глубокий сон. Просыпается он, вдруг напуганный глухими раскатами грома. В небе висят тяжёлые тёмные тучи, которые, кажется, опускаются на верхушки деревьев.
Вот из скопления туч вырывается яркая молния и ударяет где-то за домом, так что Моцарт испуганно вздрагивает, а в следующее мгновение раздаётся оглушительный разряд, как будто со страшным грохотом обрушивается сам дом.
Он торопливо подбирает разлетевшиеся нотные листы и бежит на веранду. Несколько секунд стоит под её спасительной крышей, не в силах сдвинуться с места. Но молнии одна за другой оставляют на небе свои росчерки, а за ними то вдали, то вблизи следуют удары грома, и он спешит в свой рабочий кабинет.
Появляются управляющий имением и его дочь, лица у обоих испуганные. Спрашивают, не желает ли он чего?
Моцарт их вопроса не слышит, до того он во власти пережитого. Только когда Бабетта приносит зажжённую лампу и закрывает оконные ставни, он понемногу возвращается к действительности, но слова управляющего доносятся до него словно из-за перегородки:
– Два раза ударило совсем рядом – сначала в дуб на холме, а потом в беседку.
Моцарт вскакивает с места.
– Как вы сказали? – переспрашивает он дрожащим голосом. – В беседку?
– Да, но удары были холодными. И вообще, по-моему, все удары были холодными. Гроза случалась на моём веку не раз, но такой силы – да ещё в такое время года! – я не упомню. Но скоро всё кончится. Не желает ли господин придворный капельмейстер отдохнуть?
– Нет, нет, мне не уснуть. Но я буду очень благодарен, если мадемуазель Бабетта приготовит мне пунш. Да покрепче!
– С удовольствием, – кивает та и удаляется на кухню.
Моцарт сидит при свете лампы за пуншем один, и понемногу сердце его начинает биться ровно. Отголоски грома доносятся из далёкого далёка. Но зато в стёкла окон начинает хлестать дождь. Да с такой силой, будто кто-то швыряется пригоршнями мелких камешков. Постепенно свинцовое оцепенение отпускает его, зато фантазия начинает расправлять свои крылья.
Наводящая ужас сцена на церковном погосте с оскорблениями статуи командора, который вырастает в полнолуние в гигантскую фигуру и предостерегает насмешника: «Ribaldo! Audace lascia ai morte la расе!» («Изыди, дерзновенный, дай мёртвому покой!»), словно сама ложится на бумагу.
Напряжение драматической линии всё обостряется. Бесстрашный Дон-Жуан приглашает Командора на пир. Здесь буффонное начало в музыке сопровождения должно отступить перед предвосхищением трагедии, что особенно следует подчеркнуть партиями духовых инструментов, всё более восходящих на первый план к концу оперы. Сейчас демоническое начало как бы раскрепощает композитора. Оторвав перо от бумаги, Моцарт вслушивается в тишину. Она кажется ему бездыханной. После громового возмущения природы гробовая тишина действует на него не умиротворяюще, а, наоборот, пугает его.
«Как невыносимо душно в комнате!» – думает он, подходит к окну и распахивает ставни настежь. Сад словно спит в своём неподвижном покое, лишь там и сям видны матово-светлые пятна – это сквозь неплотный облачный покров пробиваются лунные лучи.
Беседка невольно привлекает к себе взгляд Моцарта. В ночи очертания её неразличимы, размыты. Но чем дольше Моцарт в них вглядывается, тем отчётливее, как ему кажется, они становятся. Ему чудится, будто изнутри беседки светится слабый огонёк. Откуда он там взялся? Может быть, там кто-то прячется? Он не сводит глаз с беседки и чем пристальнее вглядывается, тем больше ему кажется, что полукруглая стена её расступается и он явственно – да, да! – видит, как медленно поднимается, всё вырастая, смертельно бледный человек с гривой седых волос и горящими глазами... «Мой отец!» – шепчут его губы в страшном испуге, он закрывает глаза, не зная, что его ждёт в следующую секунду. Когда он вновь открывает их, беседку проглотила тьма.
Моцарт затворяет окно дрожащими руками, возвращается к столу, едва передвигая ноги, как существо, сломленное ударом судьбы, и без сил падает в кресло. Его душа не столько потрясена появлением призрака умершего отца, сколько видением смерти. «Это знак судьбы, – говорит он себе. – Мои дни сочтены. Может быть, эти сцены из оперы – моя лебединая песня...»
Но, как бы напитавшись неукротимой жаждой жизни у своего героя, финальная сцена для которого – увы! – не написана, он допивает единым духом остывший пунш и, взяв звучный аккорд, приступает к созданию сцены пиршества. Его любовь к чувственным наслаждениям находит выход в музыке застолья, которую Дон-Жуан велит играть для поднятия собственного настроения. При этом Моцарт не чуждается самопародии, вплетая в неё мелодии из своего «Фигаро».
Всё предвещает неотвратимость появления приглашённого Каменного гостя. Природа подчёркивает ужас этого мгновения конвульсиями молний и громовыми раскатами, когда вступают тромбоны, предвещая, подобно небесному трубному гласу, неминуемую беду.
Галантным жестом приглашает Дон-Жуан Командора к столу. Но тот отвечает отказом. Вибрато скрипок и тремоло басов придают его отказу нимб сверхчеловеческого. Теперь его очередь пригласить: пусть хозяин застолья пройдёт с ним по тому долгому пути, который он проделал, идя сюда. Долгий путь? Новые приключения? Дон-Жуан соглашается не раздумывая.
Однако Каменный гость предлагает скрепить согласие рукопожатием и первым протягивает свою руку – этот решающий, судьбоносный момент выделяется ре-минорным аккордом с сильнейшим фортиссимо.
Прикосновение к холодной как лёд мраморной руке заставляет Дон-Жуана содрогнуться: он прикоснулся к смерти!
Начинается борьба с неумолимым душителем, борьба чудовищная, которую оркестр в полном составе воссоздаёт всеми мыслимыми средствами музыкальной выразительности – страстно, увлекательно, потрясающе! Это борьба не человека против человека, а демона против демона, в которой никто не хочет уступать.
Не знающий снисхождения Командор настаивает на своём «Pentiti, sederato!» («Смири свой дух, нечестивец!»), а в ответ слышит только непреклонное «No!» («Никогда»).
Здесь Дон-Жуан вырастает до гигантских размеров, здесь легкомысленный совратитель становится прообразом ненасытно-чувственного любовного влечения, необоримого стремления к жизни. Он слышит из уст Командора проникновенно-простые и страшные в своей безысходности слова: «Ah tempo piu non v’e!» («Уж близок Божий суд!»). Командор размыкает железное рукопожатие, отпуская строптивца, и пропадает.
Дон-Жуана впервые охватывает отчаяние, он ощущает шевеление совести, смешанное с обыкновенным страхом, перед его воспалённым воображением разверзаются адские пропасти немыслимой глубины, ему слышатся мрачные голоса духов смерти, в жилах дико бурлит кровь, а буря, гром и молнии, словно подчёркивающие ужас происходящего, до предела обостряют его муки.
И вот он сам падает замертво, и крыша дома над ним обрушивается. А дрожащий от страха и стенающий Лепорелло спасается бегством.
Моцарт создаёт эту грандиозную финальную сцену в состоянии крайнего возбуждения и самозабвения. Он едва ощущает гусиное перо в своей руке – оно словно само по себе, влекомое неведомой силой, бежит по бумаге. Но когда появляются чёрные нотные головки заключительных аккордов, царственно-мужественных, неслыханное напряжение, в котором он пребывал несколько часов подряд, собрав всю свою волю в кулак, сменяется полнейшим измождением, он вот-вот потеряет сознание...
Когда Бабетта ранним утром заходит в комнату Моцарта, он спит за столом, уронив голову на скрещённые руки. Она бежит за отцом, и тот пытается разбудить спящего, нашёптывая ему что-то на ухо. Ничего не выходит. Тогда он мягко треплет его по плечу. Вольфганг Амадей поднимает голову и непонимающе смотрит на возмутителя спокойствия, который обеспокоенно говорит:
– Маэстро! Господин Моцарт! Вы так бледны... у вас такой усталый вид... Позвольте, я провожу вас в спальню?
Моцарт качает головой и абсолютно безучастно произносит:
– Кофе... крепкий кофе... И велите заложить коляску.
Голова его валится набок, на плечо, и он снова засыпает. Отец с дочерью выходят из кабинета на цыпочках. В коридоре отец шепчет, пожимая плечами:
– Я думаю, он перетрудился! Странный он человек...
VIII
Начинаются репетиции «Дон-Жуана». Моцарт сдал Бондини партитуру к сроку, если не считать увертюры. Разучивание оперы, которой будет дирижировать сам автор, идёт не совсем гладко. Труппа здесь не столь многоопытная, как в Вене, и некоторые сцены приходится повторять несколько раз. Пока они не устроят композитора. Например, как госпожа Бондини ни старается, у неё никак не выходит в финале первого акта зов Церлины о помощи. Моцарт покидает дирижёрский пульт, пробирается на сцену, незаметно подкрадывается к певице и так крепко обхватывает её сзади, что она испускает испуганный вопль.
– Вот! Примерно так! – радуется он.
В другой раз Басси, исполнитель роли Дон-Жуана, долго и нудно жалуется, что в первом акте у него, помимо «арии с шампанским», нет ни одного стоящего сольного номера; Моцарту приходится уступить и трижды переписать дуэт своего героя с Церлиной, пока он не получает одобрения Басси. Особые трудности у него с Миселли в роли Эльвиры, она никак не может попасть в нужную итальянскую произносительную норму. Он не успокаивается, пока певица, и без того раздосадованная его постоянными поучениями, не справляется с артикуляцией так, как ему хочется слышать.
С исполнителями одни трудности, с оркестрантами – другие. Ни с того ни с сего тромбонисты объявляют ему, что не смогут «выдуть» то место, где Командор предостерегает подлого совратителя; приходится Моцарту, чтобы выдержать эту сцену в мрачных тонах, переписать их партии для деревянных инструментов.
Вообще-то Моцарт не имеет оснований жаловаться ни на певцов и певиц, ни на оркестрантов – они делают, что могут. Но всё же от композитора, режиссёра и приехавшего из Вены либреттиста требуется немало терпения и сил, чтобы объяснить им все тонкости сценического поведения, потому что артисты столкнулись с трудностями, совершенно незнакомыми для них. Бондини сокрушается: «Дон-Жуана» никак нельзя давать в назначенный день, то есть к приезду молодой высококняжеской четы. Необходимо отложить премьеру хотя бы на две недели. И в тот самый торжественный вечер Моцарт вместо «Дон-Жуана» дирижирует своим «Фигаро».
Двадцать восьмого октября генеральная репетиций, несмотря ни на что, проходит успешно – Да Понте к тому времени возвращается в Вену, чтобы присутствовать на репетициях оперы Сальери «Аксур», – и даже декорации получают одобрение. Перед самым её началом Бондини подводит к Моцарту пожилого господина высокого роста и представляет ему месье Джакомо Казанову, шевалье де Сентгальта, дворцового библиотекаря рейхсграфа Йозефа фон Вальдштайна. Тот отдаёт Моцарту суховатый почтительный поклон и говорит по-французски:
– Я приехал из своего деревенского заточения в Прагу, ибо возможность побывать на премьере оперы, содержание которой меня живо интересует, показалось мне очень заманчивой. Тем более что либретто написал мой земляк Да Понте. Позволите ли вы мне, месье, присутствовать и на генеральной репетиции?
– Прошу вас, с удовольствием... – отвечает Моцарт несколько смущённый. – Я рад, что такой знаменитый гость оказывает мне честь...
В его глазах светится вполне понятное любопытство. Кто не слышал приятнейших историй о Казанове, галантном авантюристе? Это имя давно на слуху у Моцарта. Он припоминает, что во время работы над текстом Да Понте не раз упоминал о нём, повторяя, что если кто из современников и напоминает прообраз Дон-Жуана, то это, конечно, Казанова.
Правда, Моцарт представлял себе его другим – более молодым, порывистым, обольстительным, воплощением демонической мужской красоты, кавалером с головы до пят, а не стариком с изборождённым морщинами лицом, маленькими колючими глазами и беззубым ртом. Ну и одет он – ни дать ни взять престарелый Вольтер. Но пусть сейчас мало что осталось от прежнего, искателя счастья, Казанова производит на Моцарта сильное впечатление. Дирижируя оперой, он нет-нет, а бросит взгляд в сторону ложи, где сидит этот необычный гость, который с интересом наблюдает за развитием сценического действия.
Оркестр играет с подъёмом, как на настоящей премьере, солисты тоже не берегут голосовые связки. Когда после финальной сцены занавес опускается, его тут же поднимают вновь, все участники спектакля подбегают к рампе и хором скандируют: «Да здравствует маэстро! Да здравствует Моцарт!» Оркестр играет туш. Дон-Жуан и Лепорелло выводят композитора на сцену, где его сразу подхватывают под руки Эльвира с Церлиной, а красавица донна Анна бросается ему на шею и целует. Одинокий зритель из ложи тоже поднимается и аплодирует. Бондини и Гуардазони вне себя от радости.
Пожав руку всем без исключения, вплоть до рабочих сцены, Моцарт покидает театр. У артистического входа его поджидает Казанова. Снова отдав суховато-важный поклон, спрашивает, не окажет ли ему Моцарт честь пообедать вместе. Моцарт с удовольствием соглашается и добавляет, что знает неподалёку одну приятную тратторию, где подают отличное кьянти и вообще угощают на славу. Оказавшийся рядом Бондини не упускает случая напомнить маэстро, что увертюры-то пока нет как нет.
– Не тревожьтесь. К завтрашнему утру она будет готова. Пришлите ко мне к семи часам копииста.
– Твёрдо обещаете?..
Но Моцарт уже удаляется вместе со своим новым знакомым.
– Странная публика эти директора театров, – обращается он к Казанове. – Считают, что если они сами горазды на обещания и скупятся, когда доходит до оплаты счетов, то и мы, музыканты, люди ненадёжные.
Несколько минут спустя они сходят по ступенькам в погребок, который Моцарт высокопарно назвал приятной тратторией и который, по мнению избалованного гурмана Казановы, не более чем дешёвая харчевня с сомнительным интерьером. Однако, когда хозяин выражает полную готовность удовлетворить гостей, заказавших весьма обильную и изысканную трапезу, да и вино, принесённое им на пробу, оказывается превосходным, недовольная мина исчезает с лица Казановы.
– Я восхищен вашей музыкой, месье Моцарт, – вступает он в разговор. – За свою долгую жизнь я слышал много опер в разных городах Европы. Но никогда не встречал композитора, способного описать эротические прелести прекрасного пола с такой очаровательной лёгкостью языком звуков, как это сделали вы. Извините меня за дерзкое предположение: вы много любили.
Слегка ошеломлённый его обезоруживающей откровенностью, Моцарт усмехается.
– Вы не обязаны подтверждать правоту моих слов, – продолжает Казанова. – «Ария с шампанским» вашего героя и великолепная «ария со списком» его слуги Лепорелло, который напоминает мне моего слугу, шельмеца Косту, открыли мне глаза на многое. Такую музыку способен сочинить лишь тот, кто часто освежался любовным напитком.
– Не забывайте, что любовный напиток не всегда сладкий; нередко у него очень горький привкус.
– О-о, тут вы правы! Мне кажется, что это болезненное разочарование я не раз и не два распознал в вашей музыке. Вы не бойтесь, я не пытаюсь разгадать тайны вашего сердца. Подобно Лепорелло я удовлетворюсь одним общим покаянием и хочу вместе с вами поднять бокалы за прекрасных дам!
Моцарт рад присоединиться к такому тосту.
– Я тем более восхищен вашим мастерством и творческим воображением, что сам текст подспорьем для вас был слабым. Бондини дал мне либретто для прочтения...
Моцарт настораживается. Этот странный человек с его быстро убегающим назад лбом и удивительно живой мимикой невольно разжигал любопытство. Какая убеждённость сквозит в суждениях венецианца, какое ощущение внутренней правоты от них исходит! А что он скажет о Дон-Жуане?
– Только что вы, месье Казанова, высказали мысль, которую я не совсем понял. Не сочтёте ли возможным уточнить её?
– Я утверждаю: Дон-Жуан у Да Понте не такой, каким мы видим его, благодаря вашей музыке. Он у него всего лишь искатель приключений и совратитель, но отнюдь не человек нашего просвещённого века. Хотя подобные ему люди, безусловно, жили задолго до нас.
– А каков же, по-вашему, сегодняшний Дон-Жуан?
– Он такой, каким и должен быть, живя сегодня с нами и среди нас: он вовсе не безрассудный разрушитель и погубитель, а эпикуреец в наряде кавалера, он вовсе не враг женскому полу, а друг, способный мудро наслаждаться его прелестями, – словом, человек, умеющий жить как следует! Человека таких достоинств никакой дьявол никуда не унесёт, даже после смертельного рукопожатия Каменного гостя. Вокруг его мёртвого тела не будут в сатанинской злобе прыгать мерзкие лемуры, красивые женщины спустятся с райских полей и возложат розы на его чело!
Казанова умолкает. Он настолько распалился, что даже забыл о еде.
– Проклятый трактирщик! – выкрикивает он вдруг. – Обещал угостить по-царски, а подал остывшую пулярку.
– Моя была с пылу с жару, – улыбается Моцарт. – И поглощал я её с удвоенным удовольствием: ваша лекция послужила вкуснейшей приправой к ней.
– Да, эта тема меня интересует чрезвычайно.
– А я тем не менее стою теперь перед печальным фактом: выходит, я зря написал такой финал. Ведь, по-вашему, она должна была завершиться героическим апофеозом?
– Оставим божественное в покое и займёмся земными заботами. Опера должна восхищать зрение и околдовывать слух. К чему устрашать публику разными призраками и чудовищами? Это ей не по нраву, от этого у неё портится настроение. А ей хочется вернуться домой в хорошем настроении, как после званого обеда. Ваша музыка, блистательный маэстро, удовлетворит самый взыскательный вкус. Тут нет и не может быть сомнений. Но не подавайте на десерт тяжёлое для пищеварения рагу, даже с самой пикантной подливкой, а велите принести устрицы и шампанское, и вы увидите, что зрители покинут театр, причмокивая и прищёлкивая языком. Вот почему я не смог отказать себе в удовольствии переписать для вас текст секстета из второго акта. – Он протягивает Моцарту лист нотной бумаги. – Взгляните и скажите, что вы об этом думаете.
Теперь, когда Моцарт углубляется в рукопись, Казанова приступает к остывшей пулярке. Почерк у него мелкий, неразборчивый, и Моцарту приходится потрудиться, чтобы разобраться в нём. Он возвращает стихи Казанове со словами:
– Ваша мысль о том, что истинный совратитель – это женский пол, околдовавший сердце и душу Дон-Жуана, прелестна и неожиданна, она придала бы нашему герою совершенно иной облик. Ну почему не вы написали либретто, месье Казанова?
– Хотя бы потому, что тогда бы получилась не трагедия, а комедия. И, поверьте, я оказался бы прав: жизнь, как ни крути, комедия, а не трагедия. А те, кто относится к ней как к трагедии, сами виноваты.
– Но тогда и мне пришлось бы написать другую музыку.
– Почему же? Я вам уже говорил: ваша музыка – это язык сегодняшнего Дон-Жуана. Только из-за неё и забываешь о жалком тексте Да Понте. Да, она пронизана чувственной силой, она дышит духовностью – что и заставляет забыть слова, на которые, слава Богу, публика почти не обращает внимания.
Уже за полночь, и Моцарт, как бы он ни был увлечён разговором, собирается покинуть собеседника: ему, увы, пора домой, самое время дописывать увертюру. Слов нет, дело срочное, признает Казанова, но всё-таки предлагает проводить Моцарта до гостиницы. Моцарт догадывается, что рассказам его словоохотливого библиотекаря, который тем временем доходит до рассказов о своих победах над примадоннами и другими театральными красотками, конца не будет, почему и отказывается, учтиво поблагодарив конечно, от этого предложения, и прощается.
– Ты куда запропастился? – упрекает мужа Констанца. – Два раза приходил Гуардазони, справлялся о тебе.
– Ага! Значит, это моя увертюра ему спать не даёт! – восклицает Моцарт. – Оба всемогущих хозяина сцены не верят, что я её осилю. Но я успею, Штанцерль! Этот занятный старик библиотекарь из Дукса мне совсем голову заморочил. Представляешь, сказал, что Да Понте написал совсем не того Дон-Жуана.
– В своём ли он уме?! – испуганно перебивает его Констанца.
– Да не волнуйся ты, жёнушка. Мой Дон-Жуан останется таким, как есть. А сейчас приготовь мне поскорее пунш. И рассказывай при этом сказку о волшебной лампе Аладдина.
Подогревая пунш, Констанца вступает в свою роль домашней Шехерезады. И это возымело действие почти чудесное: на бумаге возникает такт за тактом, сначала они летят легко и быстро, потом появляются через некоторые промежутки времени, пока наконец не отказываются приходить совсем. Перо как застревает на одном месте, так его и не сдвинешь. Ровное дыхание говорит о том, что композитор переместился из царства звуков в царство сна.
Констанце жаль будить его, а приходится.
– Муженёк, увертюра!
– Гром и молния! – вскакивает он с места. – Проклятое вино!
Жена уговаривает Вольфганга Амадея поспать часок на диване, она его разбудит. Но этот часок растягивается на два, потому что у Констанцы от усталости тоже слиплись ресницы.
Однако короткий сон освежает Моцарта, и работается ему хорошо. На рассвете появляется камердинер и докладывает о приходе копииста. А сразу после полудня Моцарт встаёт за дирижёрский пульт и проходит с оркестром увертюру. После второго повторения он говорит оркестрантам:
– Благодарю вас, господа. Я доволен!
Бондини и Гуардазони, сидевшие в зрительном зале, подходят к нему и горячо пожимают руку.
– На ваше слово, маэстро, действительно можно положиться! – поздравляет Моцарта директор театра. – Дай Бог, чтобы успех вознаградил вас за ваши усилия! Все билеты на премьеру проданы. Несколько сот мы уже продали и на следующее представление.
Тем же вечером, двадцать пятого октября, «Дон-Жуан», как пишет Моцарт своему другу Жакену, впервые поставлен на сцене – и аплодисментам нет конца!! Этот триумф навсегда останется для Моцарта одним из самых великих мгновений его жизни. Обычно достаточно осторожный в своих суждениях, Гуардазони не может в данном случае скрыть своего восторга:
– Все импресарио, все певцы и певицы должны превозносить вас с Да Понте до седьмого неба! Пока живы такие люди, как вы, об упадке в оперном искусстве не может быть и речи!
Моцарту любопытно узнать, где Казанова.
– Да он сидел в одной из лож с молодой, очень красивой дамой, – объясняет режиссёр. – Но незадолго до финала они вместе поднялись и покинули театр.





