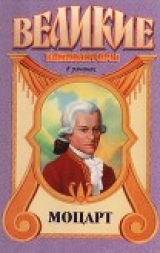
Текст книги "Вольфганг Амадей. Моцарт"
Автор книги: Валериан Торниус
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)
VIII
Да, домой он торопится не слишком. Похоже, ему жаль расставаться со свободой – ведь впереди его ждёт та же барщина! На несколько недель останавливается в Страсбурге. Правда, без видимого результата. Его влечёт в Мангейм, хотя он знает, что семейство Веберов давно переместилось в Мюнхен, потому что Алоизию приняли в тамошнюю оперную труппу: после смерти двоюродного брата Максимилиана курфюрст Карл Теодор, взошедший на трон, перевёл туда весь двор – ну и оперу заодно. Так что непосредственной точки притяжения как будто нет. Но он от мысли своей не отказывается и едет не на Изар, а на Рейн, где его тепло принимают госпожа Каннабих и её дочери. Он цепляется за любую возможность продлить своё пребывание здесь из одного только страха перед возвращением в Зальцбург, пока не получает письмо от отца, в котором тот строго требует незамедлительно ехать домой. Ничего не попишешь; он с грустью прощается с людьми, оказавшими ему сердечное гостеприимство, и едет в Мюнхен, куда прибывает в первый день рождественских праздников и поселяется в доме старого знакомого, флейтиста Бекке.
Скрепя сердце он на другой день вечером отправляется к Веберам. Фридолин Вебер обнимает Вольфганга и целует в обе щеки. А потом ведёт за собой в длинную и узкую гостиную, в которой собралась вся семья за исключением Алоизии. Однако здесь приём, к его удивлению, оказывается куда прохладнее, нежели он ожидал. Он нервничает. И хотя пытается развлечь Веберов рассказом о разных забавных происшествиях, случившихся за время долгих странствий, сам замечает, что нить повествования то и дело ускользает – здесь нет той, ради которой стоило бы огород городить.
Примерно через час, когда он почти совсем иссяк, появляется Алоизия, разодетая в пух и прах. При виде столь долго отсутствующего Моцарта на её лице не появилось даже тени радости.
– Выходит, вы сдержали своё слово и не засели надолго в Париже? – говорит она, протягивая ему руку для поцелуя.
– А вы решили, что я способен нарушить слово?
– Ну, куда Мангейму, Мюнхену или Зальцбургу до Парижа! Я бы на вашем месте оттуда не уехала, – продолжает она, снимая шляпку и пальто, и поворачивается к матери: – Не нальют ли мне чашечку кофе? Умираю, как пить хочется.
Йозефа выходит на кухню. Алоизия садится за стол напротив гостя. Некоторое время испытующе смотрит на него с кривой улыбкой на губах. Её сбивает с толку красный фрак с чёрными пуговицами.
– Какой на вас занятный лакейский наряд.
– Вас, наверное, смущают чёрные пуговицы? В Париже они знак траура.
– По кому же вы горюете?
– Умерла моя матушка.
Все подавленно молчат. Фридолин Вебер поднимается и от имени всей семьи выражает Вольфгангу соболезнование; за ним все остальные молча пожимают ему руку. Несколько погодя, когда они усаживаются на места, Алоизия продолжает прерванный разговор:
– Выходит, в Париже вас ждали одни неприятности, месье Моцарт? В ваших письмах ни о чём таком не упоминалось.
– К чему отягощать других своими бедами? Надеюсь, что вам, мадемуазель, во всём сопутствовала удача.
– Да! Как вам известно, меня приняли на оперную сцену и положили гонорар в тысячу гульденов. Немного, правда, но для начала сойдёт.
– Не будь такой нескромной, Лизль, – возмущается отец. – Я в жизни столько не получал. Ведь это...
– Но ты ведь и не был певицей милостью Божьей, – перебивает мадам Вебер мужа. – Ты всего лишь второразрядный музыкант...
– Что правда, то правда. Но ты, Лизль, оказалась в таком фаворе исключительно благодаря усилиям нашего уважаемого маэстро.
– Это всем известно, Фридолин, – машет на него рукой жена, – и Лизль, конечно, благодарна ему от всей души...
– Которой у неё не было и нет, – вмешивается Констанца.
– Закрыла бы ты свой рот! – прикрикивает на неё мать.
Вот-вот вспыхнет серьёзная семейная ссора, что, конечно, претит Моцарту. Он примирительным тоном говорит:
– Прошу не переоценивать моих заслуг. У кого такой замечательный голос, тот пробьётся и без посторонней помощи.
– А что вы намерены предпринять теперь? – переводит разговор на другое Алоизия.
– Возвращаюсь в Зальцбург. Соборным органистом. С годовым содержанием в пятьсот гульденов.
– Ужасно! С вашим-то талантом!
– Таково желание моего отца.
– Печально. Но каждый вынужден идти путём, предназначенным судьбой. Что до меня, то я, конечно, останусь в Мюнхене, пока не подыщу что-то получше.
Входит Йозефа с чашечкой кофе на подносе, который Алоизия пьёт с жадностью, торопливо.
– Ах, Боже мой, я совсем забыла, мне пора на репетицию в оперу! – вдруг восклицает она, быстро поднимается, надевает шляпку, набрасывает пальто на плечи и, протянув руку гостю, с кокетливой улыбкой прощается: – Если нам не суждено увидеться в ближайшее время, счастливого пути, синьор Вольфганго Амадео! Ваша ария по-прежнему остаётся моей лучшей сольной партией...
Никогда ещё Моцарт не испытывал такой острой сердечной муки, как во время этого свидания, продлившегося какие-то пятнадцать минут. На какой-то миг им овладело желание броситься ей вслед, поговорить с ней начистоту, спросить прямо, зачем она так притворялась, почему затевает рискованные игры с их чувством? Но уже в следующее мгновение внутренний голос подсказывает ему: это было не притворство, не маска, это была она сама! Овладев собой, он ещё некоторое время проводит с Веберами, коротко и сухо отвечает на обращённые к нему вопросы, а потом, когда ситуация становится для него невыносимой, откланивается. Фридолин Вебер и Констанца провожают его до двери. В коридоре Констанца шепчет ему на ухо:
– Мне жаль вас. Моя сестра вела с вами нечестную игру. Не принимайте этого близко к сердцу! – При этом она крепко пожимает ему руку.
«Хоть одно человеческое существо, которое мне сочувствует», – думает Моцарт, оказавшись на улице под снегопадом. Этот бесконечный танец снежных хлопьев кажется Вольфгангу знамением, которое посылает ему небо: вот ведь, корчат ему рожицы, будто насмехаясь над его глупостью и доверчивостью.
С пепельно-серым лицом и посиневшими губами возвращается он к Бекке, который при виде его испуганно отстраняется: в тусклом свете свечи Моцарт – ни дать ни взять привидение! На вопрос, не заболел ли он, Вольфганг отрицательно мотает головой. С тяжёлым вздохом опускается в кресло и сидит некоторое время, уставившись в пустоту. А потом вдруг прячет лицо в ладонях и едва слышно всхлипывает.
Бекке стоит рядом, не зная, что и подумать. Он понимает, что Моцарт испытал какое-то потрясение, и не хочет задавать никаких неуместных вопросов. Он молча ждёт, когда пролитые слёзы облегчат измученную душу и Моцарт сам всё объяснит.
Несколько минут спустя Моцарт сжимает руку друга и поднимает на него влажные ещё от слёз глаза: он просит прощения за свою слабость и хочет обо всём рассказать, но сначала надо выпить что-нибудь согревающее – холод пронизывает его до мозга костей.
Бекке удаляется и вскоре приносит горячий пунш в глиняных кружках. Моцарт греет о толстые стенки свои иззябшие пальцы, а потом опустошает кружку глоток за глотком, от удовольствия он даже причмокивает. А потом несколько рассеянно, отрывистыми фразами, иногда произвольно перескакивая с пятого на десятое, подогревая себя всё новыми порциями пунша, излагает другу историю своей любви, столь счастливо начавшуюся и столь печально завершившуюся. Чем ближе к концу эта история продвигается, тем более заметно, что состояние его – может быть, тому способствует крепкий пунш? – приближается к той грани, когда неизвестно, разрыдается человек или захохочет во всё горло. В конце концов он разражается смехом, но смеётся он как бы сам над собой:
– Что вы хотите, Бекке, всякой комедии приходит конец! Милая девушка-простушка на деле оказывается лгуньей и притворщицей. А я, влюблённый музыкант, остался в дураках, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля! – Покачиваясь, подходит к инструменту, отбрасывает крышку, берёт несколько аккордов, а потом некоторое время импровизирует, варьируя основную мелодию, и подпевает плаксивым голосом:
– Если кто меня не хочет, пусть поцелует меня в ж...!
Но вот он вскакивает, бросается на грудь к Бекке и бормочет, сотрясаемый рыданиями:
– У меня, чёрта пропащего, сердце разорвётся!
Бекке успокаивает его:
– Ложитесь отдохнуть, Моцарт. Проснётесь другим человеком.
– Сон?.. А мои мечты?
– Вы освободитесь из западни и вернётесь к своим мечтам, в мир чистых и светлых звуков.
– Не верю! Я вообще больше ни во что не верю – ни в любовь, ни в справедливость, ни в счастье. Я блудный сын! Мой отец прав, когда ругает и отвергает меня.
– Вы ошибаетесь, дорогой друг. Ваш отец ждёт вас не дождётся. Мне это доподлинно известно. Да и могло ли быть иначе! Кто способен укорять достойнейшего и талантливейшего из людей только за то, что он, без вины виноватый, попался в самую банальную ловушку.
– О Бекке, меня страшит Зальцбург, меня страшит мой отец, меня страшит всё моё будущее!
– И напрасно, Моцарт. На то нет никаких причин.
– Есть, есть! Я никому не нужен ни в Вене, ни в Мюнхене, ни в Мангейме, ни в Париже. Остаётся только этот жалкий Зальцбург, который я ненавижу, как ад! Моя звезда закатывается...
– Чтобы взойти с новым блеском. Положитесь, Моцарт, на Бога и на вашу гениальность.
– Да вы прирождённый утешитель, Бекке, вы воздвигаете заново рухнувшие стены замков! Да... а теперь я пойду спать. А то я перестану что-либо соображать...
IX
Пребывание Моцарта в Мюнхене угнетает его волю. Ни трогательная забота о нём Бекке, ни попытки развеселить и отвлечь, предпринимаемые мангеймскими друзьями Каннабихом и Вендлингом, не в силах разорвать тёмных пут, которыми связывает Вольфганга судьба. Он по-прежнему откладывает возвращение домой. Почему же?..
Тревога, поселившаяся в сердце, заставляет его написать письмо «сестрице» и попросить её приехать в Мюнхен. Он словно надеется подпитаться от этой весёлой девушки её жизнерадостностью, прежде чем переступит порог отцовского дома. И что же – она действительно появляется, и её приезд действует на Моцарта как глоток живой воды.
Едва увидев при встрече постную мину Вольфганга, она весело смеётся и обзывает его «грустилищем», «печалящем» и «страдалищем», и он весело смеётся вместе с ней. Он изливает ей всю свою тоску, и тут выясняется, что «сестрица» способна не только разделить часы веселья, пошутить и подурачиться, но и исповедница не из последних. Она сразу берёт быка за рога, когда говорит:
– Глупости! Разве можно из-за лопнувшей любовной истории сразу вешать нос, дорогой кузен? Когда женщина отвечает отказом, самый пылкий любовник теряет на неё всякие права. Как быть? Плюнуть и сказать себе: «Ничего, найду себе другое сокровище; зачем мне эта высокомерная надутая индюшка, в саду нашего Господа Бога достаточно красивых цыплят – верных, послушных и добрых».
Моцарт подходит к клавиру и наигрывает Марианне свои вариации к песенке «Оставлю я девчонку, коль я не нравлюсь ей» на новые, дерзкие и вызывающие слова – собственного, надо сказать, сочинения.
– Так-то оно лучше. Теперь я узнаю моего кузена!
Когда «сестрица» Марианна соглашается поехать в Зальцбург вместе с ним, чтобы разгладить там морщины печали на челе Леопольда Моцарта, настроение Вольфганга сразу улучшается.
Со слов Вольфганга Марианна представляла себе его отца настоящим домашним тираном, по меньшей мере вечным ворчуном, и удивилась, когда тот тепло, даже сердечно принял её. Наннерль, по виду которой сразу можно сказать, что, живя вместе с отцом, она не в одних солнечных лучах купается, тоже рада. И не только возвращению брата, но и гостье, которая, несомненно, скрасит её буднично-монотонную жизнь.
Несколько недель, которые Марианна проведёт в Зальцбурге, складываются в цепочку приятных дней и вечеров. Дурного настроения нет и в помине, о чём постоянно заботится эта весёлая и разбитная девушка, гораздая на шутку и острое словцо. В её присутствии Вольфгангу легче, чем он предполагал, заново привыкнуть к атмосфере Зальцбурга. Неудивительно, что её отъезд огорчает всё семейство Моцартов.
Несмотря на свою природную жизнерадостность, Марианна покидает родственников не без печали. То место, которое со времени первого знакомства занимает в сердце Марианны её сумасбродный кузен, после пребывания в Зальцбурге стало заметнее. Но она совершенно отчётливо понимает, что её невысказанному желанию вряд ли суждено исполниться. По крайней мере, до тех пор, пока другая, недостойная Вольфганга и безразличная к нему, владеет всеми его мыслями и чувствами, как бы он ни уверял, будто не желает и слышать о ней.
Лишь в одном она находит для себя утешение: безответная любовь похожа на болезнь и со временем излечивается. И тогда сердце снова свободно и открыто для нового чувства даже больше, чем прежде. Если ей не суждено стать избранницей Вольфганга, значит, нет на то Божьей воли. Чему быть, того не миновать.
X
Тем временем Моцарт осваивает новое для себя поле деятельности соборного органиста. Официальный визит к «кормильцу» – архиепископу продлился очень недолго. В беседе с ним тот почти не коснулся длительной творческой поездки композитора. Заметил лишь: он надеется, что вернувшийся домой зальцбургский музыкант воспользуется в своей будущей деятельности обретённым на чужбине опытом. А вообще он надеется, что Моцарт будет достойным продолжателем дела ушедшего из жизни соборного органиста.
Виды на скромное вознаграждение ни в коей мере не могут удовлетворить молодого композитора, обуреваемого страстным желанием творить, – это ясно всякому. Но недавние разочарования с такой силой давят на него, что он послушно занимает указанное ему место. Единственным утешением при этом возвращении на барщину служит ему одна мысль: творить музыку, звучащую в душе, ему никто и никогда не запретит! Он отдался ей с таким же упоением, как в годы перед своей парижской поездкой. Церковные обязанности заставляют Вольфганга особое внимание уделять духовной музыке. Так рождаются композиции, в которых главенствует орган, основной теперь его инструмент. Один за другим ложатся на нотную бумагу опусы церковной музыки небольшого размера: вечерни, литании, органные прелюдии, а наряду с ними так называемая «коронная» месса, исполнение которой было приурочено к большому церковному празднику.
Он пробует свои силы в написании одноактных опер на тексты немецких авторов, либретто одной из них написал Шахтнер. Однако видов на их постановку нет. Можно представить себе радость двадцатичетырёхлетнего композитора, когда после бесплодных попыток обрести творческую свободу он получает от мюнхенского двора заказ на оперу к карнавалу, – ему представляется возможность хоть на несколько месяцев вырваться из удушающих объятий родного города, о чём он давно мечтает. Да, за полтора года прозябания в роли органиста архиепископа он окончательно решил для себя: для его творческих планов Зальцбург только препятствие. Однако он не смиряется с этим обстоятельством с прежней покорностью, а даёт выход своим чувствам при встречах с ближайшими друзьями, Шахтнером и Гайдном. Из глубины оскорблённой души вырываются страшные, пугающие слова – говорить так может только человек, оказавшийся на грани отчаяния. В подобных случаях друзьям не просто сдерживать Вольфганга, для этого требуются терпение, обходительность и такт.
В это время Моцарт напоминает больного, который едва-едва выздоравливает и поэтому особенно раздражителен. Любая мелочь, любой внешний повод способен привести его в плохое настроение; но тем, кто умеет с ним обращаться, удаётся довольно быстро восстановить утрачиваемое им духовное равновесие. Игра в кегли или вечернее застолье – верное средство на какое-то время излечить Вольфганга от меланхолии. А Наннерль владеет искусством более долговременного влияния на настроение брата: ей удаётся вырвать из Вольфганга признание о том, что его беспокоит больше всего в данный момент, прогнать демонов раздражительности простыми и доходчивыми советами.
– Надо было тебе поехать со мной в Мюнхен, Наннерль, – говорит ей брат, когда она в очередной раз развеяла его печали. – По крайней мере, рядом был бы человек, выбивавший из меня дурь. Сестрица Марианна умеет рассмешить и растормошить меня, а у тебя другое лекарство – сестринская любовь.
Но Наннерль отрицательно качает головой: на кого ей оставить отца?
– Ты что, хочешь провести здесь все свои молодые годы и закончить жизнь наподобие «танцмейстерши Митцерль»? В старые девы записалась?
– Если так Господу угодно, мне ничего другого не остаётся, – силится улыбнуться Наннерль. – Когда тебе около тридцати, трудно найти подходящего мужа.
– Бедная моя Наннерль! Жертвуешь собой ради всех нас, а о себе совсем не думаешь! Твои подруги, сёстры Баризани, оказались поумнее, все пошли под венец. Довольны они своим выбором?
– Тони и Зефа да, а вот Резль – нет.
– Да? И чем же она недовольна?
– Ей в семейной жизни любви не хватает. Она вышла замуж по настоянию матери, а не по велению сердца.
– Вот как? Нашла себе, наверное, знатного господина?
– Да, высокопоставленного чиновника из Инсбрука. Он старше её на тридцать лет.
– Жаль её! Она была достойна лучшей участи. Да ничего не попишешь! Путь судьбы не всегда проложен там, где хотелось бы нам, смертным. Разве я не прав? Кто знает, что уготовано судьбой мне?
– За тебя, Вольферль, я не боюсь. Я только вот что тебе посоветую: не страдай душой, если тебе что не по нраву. Или даже если тебя обидят.
– Эх, если бы я был на это способен, душа-сестрица!
XI
С документом о шестинедельном отпуске в кармане Моцарт садится в начале ноября в почтовую карету и едет в Мюнхен. По договору, подписанному графом Зееау, он должен написать оперу «Идоменей». В основе её старый французский сюжет, впервые положенный на музыку ещё семьдесят лет назад. Зальцбургский придворный священник Джанбаттиста Вареско перевёл либретто на итальянский язык и дописал несколько сцен, чтобы придать ему более гибкую форму, но замысел его оказался бесплодным; итальянец был ловким стихоплётом, но вовсе не поэтом.
Итак, Моцарт в который раз получает малопривлекательный материал, обработка которого явно сужает его творческие возможности. Ему давным-давно надоели античные герои и боги, но волей-неволей приходится вернуться в чуждый ему мир мифологии. Он отнюдь не тот композитор, который раболепно придерживается предложенного либретто. Исходя из требований музыки, он требует внести целый ряд поправок, и возомнивший себя вторым Метастазио Вареско, скрежеща зубами, вынужден уступить.
Со времени создания первых юношеских опер Моцарт многое передумал и пережил. Уроки мастеров мангеймской школы тоже не прошли для него бесследно. Следуя в основном традиционному стилю итальянской оперы, он в увертюре и главным образом в хоровых сценах идёт по намеченному Глюком пути. Но по богатству и многокрасочности оркестровки, по изумительной отделке инструментальных партий Моцарт – явный сторонник принципов мангеймской школы. От юношеских опер «Идоменей», несмотря на всю традиционность и ходульность сюжета, отличается прежде всего разнообразием и глубокой драматичностью личных переживаний композитора, нашедших свой отзвук – да какой! – в музыке. Нет слов, «Идоменей» возвышается над всеми операми, созданными им до сих пор, и обещает ещё более пышный расцвет мастерства Моцарта.
Тем обиднее для композитора вялый в общем-то приём на премьере, что можно считать поражением. И всё-таки он не торопится с отъездом домой, хотя отпуск давно истёк. Что же удерживает его в Мюнхене? Разумеется, не семейство Веберов; в сердце ещё тлеют угольки былой любви, но предмет его прежней страсти с осени находится в Вене, где выступает на сцене национальной оперы в зингшпилях. Выходит, Вольфганга страшит возвращение само по себе.
И вот в начале марта 1781 года Моцарт получает письменное повеление архиепископа: немедленно явиться в Вену, куда князь церкви отбыл ещё в начале декабря на похороны императрицы Марии Терезии и где неизвестно по какой причине задержался до сих пор. Тон послания строгий, требования неукоснительные, неповиновение может иметь самые тяжёлые последствия. Моцарт испуган, – как и всегда, недобрые известия вырывают его из состояния внешней умиротворённости. На сей раз он не колеблется, едет в Вену и объявляется в «Немецком доме», где квартирует архиепископ со своей свитой. Проходит совсем немного времени, и он догадывается, что вызван лишь для того, чтобы вместе с кастратом Цесарелли и скрипачом Брунетти музицировать перед родственниками и друзьями архиепископа Колоредо. И нет ничего странного в том, что эта «дерьмовая музыка», как её называет сам Моцарт, призванная только развлекать, противна ему донельзя – тем более что из-за неё он вынужден отказываться от платных выступлений перед истинными знатоками и ценителями музыки.
Подстёгиваемый желанием увидеться с той, которую он любил, Моцарт восстанавливает отношения с семейством Веберов, живущих в доме «У Петра в глазе Господнем». Добродушный и привязанный к нему Фридолин Вебер умер, а Алоизия, ныне мадам Ланге, жена придворного артиста, из-за своего замужества тоже выпадает из семейного круга; но сама мамаша Вебер и три её незамужние дочери благодаря памяти о счастливых днях в Мангейме всё ещё притягивают Моцарта.
Вдове Цецилии Вебер непросто содержать семью из четырёх человек. Мысли её постоянно заняты тем, где бы найти средства для поддержания сносного существования; она сдаёт комнаты и держит стол для жильцов, а дочери ей в этом помогают. У старшей, Йозефы, небольшой, но очень приятный голос, и она поёт в оперном хоре, а младшие, Констанца и Софи, поддерживают порядок в доме, музицируют и рукодельничают. А ещё надо заметить, что вдова Вебер постоянно сплетает сети, чтобы изловить подходящих – выгодных! – женихов для своих дочерей. Согласие на брак Апоизии она даёт с условием, что господин Ланге будет выплачивать её семейству семьсот гульденов в год. И все свои расчёты она строит на том, что так же поступит и с будущими зятьями – лишь бы их заиметь!
По правде говоря, Моцарт появляется в доме «У Петра в глазе Господнем» почти исключительно с тайной надеждой увидеться с Апоизией. Чаще всего тщетно. Но иногда они встречаются. Она сильно изменилась, по крайней мере приобрела приятные манеры. Холодность и неприступность, так болезненно обидевшие Моцарта в Мюнхене, уступили место тёплому и дружелюбному обращению. Вольфганг чувствует это, и ему грустно: утерянного не вернёшь. Констанца, которой исполнилось девятнадцать, очень похорошела. Красотой она своей старшей сестре не уступает, а фигура у неё даже более стройная и гибкая. Словом, не только миловидна, но и соблазнительна. Человек она прямой и открытый, не в пример Алоизии, привыкшей скрывать свои чувства за стеной ледяной отчуждённости. Что и говорить, Констанца душа-человек, и Моцарт никогда не забывал её участливого рукопожатия в Мюнхене. Сейчас она становится ему небезразличной.
Но ему отпущено мало времени в Вене. У него появляется один из посыльных архиепископа и передаёт приказ князя церкви: тотчас же освободить комнату в «Немецком доме» и приготовиться к отъезду, день которого уже назначен. Однако Моцарт, обретший приют у мадам Вебер, к указанному сроку к свите архиепископа не присоединяется. Колоредо вызывает его к себе и сразу осыпает упрёками:
– Когда ты, молодой человек, намерен отправиться восвояси?
– Я собирался уехать сегодня ночью, – оправдывается Моцарт, – но все места в почтовой карете были заняты, ваша княжеская милость.
– Ложь! Надо было позаботиться об этом раньше! Что ты передо мной комедию ломаешь? Второго такого беспутного нахала я в жизни не встречал! – Архиепископ распаляется от собственного крика. – Нечего притворяться невинным ангелом! Я твоей наглостью сыт по горло. Шутки шутить со мной вздумал, глупец? Молокосос!
Моцарт оскорблён и унижен. С трудом сдерживая негодование, говорит:
– Я вижу, ваша высококняжеская милость мной недовольны?
– Недоволен? Я возмущён, и возмущению моему нет предела!
– Тогда, наверное, наши пути расходятся?
– Что? Этот скоморох мне ещё угрожает? Вот дверь! Убирайся к дьяволу! Не желаю иметь ничего общего с таким подлецом!
– Хорошо. Завтра ваша милость получит моё письменное прошение об отставке. – И Моцарт уходит с высоко поднятой головой.
Отношения прерваны. Обратного пути для него нет. На другой день он приносит рапорт об отставке; принимает его молодой граф Карл Арко, управляющий делами архиепископа.
– Вы хорошо обдумали свой шаг, господин соборный органист?
– После всего случившегося я иного выхода не вижу.
– Не стоит придавать большого значения словам, сказанным в минуту раздражения. В сущности, архиепископ относится к вам по-доброму.
– Что-то я не ощущаю.
– Но теперь он считает вас чересчур вспыльчивым человеком.
– Пусть. Как аукнется, так и откликнется. Я самый покладистый малый в мире, когда со мной обращаются по-хорошему. А когда я вижу, что меня втаптывают в грязь, я становлюсь в позу, как павиан.
На губах графа Арко появляется презрительная улыбка.
– Странное сравнение, – ухмыляется он. – Вы, люди искусства, чувствительны, как мимозы, а если вам что не по нраву, превращаетесь в колючий чертополох.
На том короткая аудиенция и завершается. Моцарт тщетно ждёт ответа. А положенные ему обязанности придворного музыканта тем не менее исполняет. И через несколько недель получает своё прошение обратно без наложенной резолюции. Он подозревает, что граф Арко вовсе не передавал его архиепископу. Не долго думая, пишет другое и идёт в «Немецкий дом».
– Ну, что вас ко мне привело, господин соборный органист? – сухо спрашивает граф Арко.
– Я пришёл за разъяснением: почему мне вернули прошение без собственноручной надписи его великокняжеской милости?
– Очень просто: архиепископ не соизволил принять эту бумагу.
– Это меня удивляет: ведь мне дали понять, чтобы я убирался ко всем чертям. Я сделал из этого соответствующие выводы. И менять своих намерений не собираюсь. Я передаю вам повторное прошение, желая соблюсти все приличия. И прошу вас передать его великокняжеской милости в собственные руки.
– Я нахожу ваше поведение назойливым, а ввиду вашего служебного положения при зальцбургском дворе – в высшей степени неуместным, господин Моцарт.
– Я понимаю, что вы этим хотите сказать. Нас, музыкантов, считают при дворе архиепископа чем-то вроде лакеев. И полагают, будто у нас нет ни чести, ни совести. Если кто-то из коллег позволяет обращаться с собой подобным образом – что же... А меня – увольте! Это противоречит моим житейским правилам и чести музыканта и композитора. Передайте вашему господину, что с сегодняшнего дня я себя в его услужении не числю.
– Неслыханно! Да что вы себе позволяете, какие слова! Архиепископ совершенно прав, обозвав вас беспутным нахалом и подлецом!
– Замолчите! – повышает Моцарт голос. – Мне противно выслушивать ещё и от вас грубости, которые позволяет себе ваш господин.
– Вон отсюда! – рявкает граф и даёт Моцарту такого пинка под зад, что тот чуть не падает. У порога он поворачивается и говорит:
– Не будь вы братом высокоуважаемой графини ван Эйк, я назвал бы вас грязной скотиной и самым последним олухом царя небесного. – И захлопывает за собой дверь.





