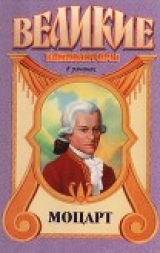
Текст книги "Вольфганг Амадей. Моцарт"
Автор книги: Валериан Торниус
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 27 страниц)
XV
Постепенно Моцарту легче дышится в Вене. Круг учениц становится шире. Это дамы из высшего общества: графини Румбек, Пальфи и Цихи, отнюдь не дилетантки, занимающиеся игрой на клавесине, потому что этого требуют правила хорошего тона, а довольно способные люди, искренне влюблённые в музыку. Самые талантливые из его прежних учениц, баронесса фон Вальдштеттен и Жозефина фон Аурнхаммер, тоже хранят ему верность. Насколько ему нравится баронесса, настолько же отпугивает его своей дурной внешностью другая, но её талант явно берёт верх над этим недостатком. «Она, правда, страшилище, но играет потрясающе», – любит повторять он. И что бы вы думали? Благодаря ему свершается то, о чём честолюбивая Жозефина могла только мечтать: он приглашает её играть партию второго клавира на своих академиях в городском театре, когда исполняет написанный ещё в Зальцбурге концерт для двух клавиров.
Молодой уроженец Регенсбурга по имени Якоб Мартин, восторженный поклонник музыки, который содержит небольшой оркестр, устраивает в недавно заложенном «луговом саду» в предместье Вены Леопольдштадте регулярные концерты. Они быстро завоёвывают популярность у слушателей из разных слоёв общества, а «луговой сад» превращается в настоящий парк для народных гуляний и увеселений. И здесь Моцарт получает возможность выступать с сольными концертами как угодно часто. Однако денег это приносит немного. Вот почему Моцарт, поначалу воспламенившийся идеей частых выступлений на публике, постепенно к ним охладевает.
За что он должен быть благодарен этим концертам в «луговом саду», так это за две серенады для труб – в Es-dur и в c-moll. В последней он как бы взорвал изнутри традиционный характер серенад. Это уже не обычные ночные серенады, это пронизанная пульсирующей страстью камерная музыка, требующая исполнения на открытом воздухе, с темами, которые взращены мрачным, иногда даже наводящим ужас настроением и завершающиеся безнадёжным самоотречением, – короче говоря, это признания в мучительном, подчас болезненном состоянии его души, в чём отчётливо отражаются духовные борения, испытанные им в период перед свадьбой.
В зимний пост 1783 года Алоизия Ланге планирует дать сольный концерт в городском театре. Ей известно, какой притягательной силой обладает имя её свояка. Не может же она не видеть, что Моцарт пользуется подчёркнутым уважением в самых разных кругах венской публики? Помимо всего прочего, Алоизия хочет показать, что она, признанная примадонна оперной сцены, благодарна человеку, первым открывшему её талант. Когда она делится с Моцартом своими планами и просит принять участие в концерте, он поначалу несколько растерян и говорит с горечью:
– Каким образом я, бедный музыкант, с моим скромным опытом смогу способствовать блистательному триумфу великолепной певицы?
– Не стоит преуменьшать своих заслуг, свояк. Любой человек, разбирающийся в музыке и пении, сразу скажет, что вы напрочь затмили Умлауфа, Сальери и остальных ваших соперников, всех фамилий сразу не упомнишь.
– Услышать эту похвалу из ваших уст – всё равно что поверить в себя заново. А какую из моих вещей вы собираетесь петь?
– Конечно «Non so d’onde».
– «Non so d’onde viene», – задумчиво повторяет Моцарт. – Да, много воды утекло с тех пор, как я написал эту арию. Но ничего, она мне удалась. А кто будет дирижировать?
– Не кто иной, как вы.
– Я?.. Это будет непросто. Но я согласен – в память о былом.
И он смотрит на Алоизию грустными глазами. А та отвечает ему улыбкой и с неожиданно мягкой интонацией произносит:
– Знайте же, дорогой Моцарт, что когда-то я... была очень-очень глупой. Но ничего изменить нельзя.
Бенефис Алоизии Ланге завершается полным торжеством как для певицы, так и для Моцарта. Её поклонники утверждают, что никогда прежде она так вдохновенно не пела, а арию «Non so d’onde viene» ей приходится бисировать дважды. А композитор исполняет один из трёх написанных в Вене и недавно изданных отдельной тетрадкой клавирных концертов, которые он сам считает «чем-то средним между тяжёлым и лёгким, весьма совершенным по форме и приятным для слуха, но, конечно, без падения в пустоту». Публика в восторге! Сам Глюк, присутствовавший на концерте, выходит из привычного ему состояния холодного равнодушия и созерцательности, не скупится на похвалу в адрес композитора и певицы и приглашает обе супружеские пары на обед столь же изысканный, сколь и обильный.
Семидесятилетний старец очень разговорчив, но всему, что он говорит, присуща суховатая важность, и это слышится даже в похвалах композитору и певице. Недостаёт теплоты и искренности чувств, что сразу отмечает про себя чуткий Моцарт. По сути дела, нашёптывает ему внутренний голос, несмотря на все напыщенные слова, он считает тебя посредственным умельцем, по сравнению с которым он сам – непревзойдённый мастер. Это для него обидно и лишает обычной в застолье жизнерадостности. Его не могут развеселить даже тонкие вина, на недостаток в которых никак нельзя пожаловаться. Он не разговорчив и с нетерпением ждёт завершения торжественного обеда.
– Странное дело, – обращается Глюк к своей жене, когда гости расходятся, – мне многие говорили, будто Моцарт душа общества и прелюбопытнейший собеседник, веселье которого столь заразительно. После оперы «Похищение» я тоже этого ожидал. Он меня разочаровал. Каждое слово из него пришлось вытаскивать чуть ли не клещами. А то, что он сказал, о большом уме не свидетельствует.
– Бог мой, Кристоффель, он, наверное, просто подавлен твоей гениальностью, – отвечает жена, пышная венская патрона.
– Гм. С какой стати ему быть удручённым? В конце концов, он многое умеет! Но ты права, до моего уровня ему не подняться...
Вернувшись домой, Моцарт говорит Констанце:
– Знаешь, Штанцерль, жратва у него была княжеская, у меня до сих пор брюхо вздуто. Да и вина у него – куда уж лучше! Но по мне – лучше сардельки с кислой капустой, лишь бы хозяин был добрым малым. Глюк не вызвал во мне чувства, будто мы с ним рыцари одного ордена.
Ободрённый бенефисом Алоизии, Моцарт с головой уходит в подготовку к собственной академии, которая состоится какие-то две недели спустя в том же городском театре. Разнёсся слух, что послушать Моцарта намерен сам император, и театр набит битком. Здесь же, естественно, всё светское общество. Концерт обещает стать первостатейным событием в жизни Вены.
Моцарт тщательно продумал всю программу. Главная, ударная вещь – написанная прошлым летом «Хаффнеровская симфония», названная так в честь бургомистра Зальцбурга Хаффнера и ему же посвящённая. Это произведение праздничное, нарядное, с блестящими находками и продуманное до мелочей. Оно доказывает, что Моцарт полностью овладел венским стилем. Адамбергер и певицы Тайбер и Алоизия Ланге исполняют арии из его ранних опер. Сам композитор услаждает слушателей клавирными фантазиями.
Император, который особенно ценит такие импровизации и вдобавок ко всему находится в наилучшем расположении духа, громко аплодирует Моцарту. За ним следуют, конечно, восторженные овации всего зала. Моцарт испытывает необычный подъём, он много раз повторяет на бис самые популярные свои вещи, а для импровизации выбирает тему арии «Глупый наш народ считает...» из оперы Глюка «Пилигрим в Мекке», чем вызывает бурное одобрение присутствующего в театре автора.
– А Моцарт всё-таки светлая головушка, – говорит Глюк сидящей рядом жене. – Такого фейерверка фигур в вариациях никому, кроме него, придумать не дано!
После «Похищения» эта академия – второй большой общественный успех композитора Моцарта в Вене. Доволен он и вознаграждением: он получает ровно тысячу шестьсот гульденов, так что после оплаты всевозможных счетов у него остаётся достаточно солидная сумма.
И нет ничего странного в том, что, когда Фортуна, далеко не всегда благосклонная к нему, подбрасывает Моцарту такой подарок, он, забыв о благих порывах, ощущает себя Крезом, тратит деньги налево и направо и вместе со своей Штанцерль наслаждается жизнью!
XVI
Вот одна из трогательных черт в характере Моцарта: несмотря на все расхождения с отцом, он постоянно доказывает свою привязанность к нему. Поэтому он ощущает острейшую необходимость примирить отца с фактом состоявшейся свадьбы и хочет коротко познакомить Констанцу с ним, чтобы снять существующие ещё предубеждения.
Однако запланированная поездка в Зальцбург постоянно откладывается из-за обязательств, взятых Моцартом на себя в Вене. Потом она откладывается надолго: Констанца в положении.
Младенец появляется на свет семнадцатого июня. Буквально накануне Моцарт пишет отцу письмо, в котором просит его стать восприемником: «Мне всё едино, будет ребёнок мужского или женского пола. Назовём его либо Леопольдом, либо Леопольдиной». Но когда ребёнок родился, ему пришлось идти на попятную, потому что мальчику при крещении было дано имя Раймунд. Единственно на том основании, что его прежний домохозяин, барон Раймунд фон Ветцлар, увидев дитя в колыбели, напросился ему в крестные.
Это маленькое происшествие – немаловажная деталь для портрета Моцарта. Его добродушие проявляется здесь в подобающем освещении. Только потому, что господин барон когда-то, предположим, отсрочил Моцарту оплату за квартиру, вложил деньги в его концерт или оказал ему какую-то другую любезность, он не в силах отказать барону в такой назойливой просьбе.
Теперь как будто никаких препятствий для поездки к отцу больше нет. Или всё-таки?..
Да, он боится гнева архиепископа. Бывший соборный органист опасается, что в Зальцбурге его посадят под арест: как-никак он оставил службу без письменного разрешения князя церкви. Лишь после того, как отец его страхи рассеивает, он в конце июля садится с Констанцей в почтовую карету и едет в Зальцбург.
К городу своего детства Моцарт приближается с сильно бьющимся сердцем. Как и четыре года назад, при возвращении из Парижа его беспокоит предстоящая встреча с отцом, хотя теперь, после успеха «Похищения из сераля» и благодаря завоёванному в Вене положению, он уже не тот...
Приём ему оказывают сердечный, а вот Констанце – скорее формальный; Моцарту это прохладное отношение к жене неприятно, но он утешается тем, что, когда отец и сестра поближе познакомятся с невесткой, они своё мнение переменят.
Он весел и разговорчив, без конца развлекает отца рассказами о разных забавных случаях в Вене, и неистощим на выдумки, играя с детьми директора Мюнхенской оперы Маршана Маргаритой, Генрихом и девятилетней Иоганной. Они живут у отца как в пансионе, и Леопольд Моцарт, в зависимости от способностей детей, учит их пению, игре на клавесине и скрипке.
В первые дни пребывания в Зальцбурге Моцарт показывает город Констанце, а иногда бродит по улочкам и закоулкам один. Как он и ожидал, Зальцбург действует на него отрезвляюще, после Вены ему здесь неуютно. И даже воспоминания о проведённом здесь детстве, обычно подернутые сентиментальным флёром, не в силах согреть его души. Что с каменными зданиями, то и с людьми. Он навещает добрых старых знакомых, бывших коллег из оркестра, но всякий раз одно и то же: он ни с кем не находит контакта. Они для него всё равно что персонажи из давным-давно прошедшего времени, раздавленные узостью провинциального быта. Даже Андреас Шахтнер, встречу с которым он заранее предвкушал, с точки зрения Моцарта очень изменился.
Да, он всё тот же добродушный весельчак, который живо интересуется всеми поворотами судьбы своего любимца, но это больше не дружеские отношения – Шахтнер смотрит на него снизу вверх, как простой музыкант на большого мастера.
Один Михаэль Гайдн не разочаровывает Моцарта. Он по-прежнему строг и последователен в своих суждениях, честен и неподкупен. Если похвалит, то за дело, а если не понравится – разругает так, что небу жарко станет. Встречаясь с ним, бывший ученик не видит той стены, которая отгораживает его от других старых знакомых. Он озабочен внешним видом Гайдна: тяжёлый недуг подтачивает его здоровье. Это впечатление ещё усиливается во время их оживлённой беседы. Моцарт замечает, как приступы слабости делают речь друга невнятной и маловыразительной.
– Бог свидетель, ты всё тот же, будто мы не расставались. Вот только твой цвет лица мне не нравится. Что с тобой? – спрашивает Моцарт.
– А что может быть? Царапается во мне какая-то зараза. Врачи ничего толком сказать не могут. Хожу ли, сижу ли – чувствую себя усталым и разбитым. Вот, к примеру, заказал мне архиепископ две сонаты для скрипки и альта́. Уже с полмесяца бьюсь над ними, а ничего не выходит.
Моцарту мгновенно приходит в голову спасительная мысль.
– Дай мне нотную бумагу, – просит он.
– Зачем тебе?
– Скоро узнаешь. Тут мне кое-что пришло в голову. Если не запишу – забуду! А ты пока полежи, отдохни.
Притворившись увлечённым внезапно пришедшей на ум мелодией, Моцарт принимается за работу, и ноты так и пляшут у него на бумаге. Через некоторое время появляется госпожа Мария Магдалена. Годы не прошли для неё совершенно бесследно, но это всё ещё достаточно интересная женщина, а улыбка у неё по-прежнему соблазнительная.
– Я вижу, господин Моцарт, воздух Зальцбурга для вас целителен, как и в былые времена. Собираетесь подарить нам новую оперу?
– Увы, увы. Никак не найду подходящего либретто.
– Какая досада! Я слышала, «Похищение из сераля» произвело в Вене фурор. По нашему театру прошёл слух, что в будущем сезоне мы тоже поставим его.
– В Зальцбурге? Да неужели?
– Совершенно серьёзно! Вчера мне об этом сказал сам Цесарелли. А он взял это из самого надёжного источника: от нашего нового капельмейстера Гатти.
– Значит, у меня теперь будет причина, чтобы помириться с Зальцбургом!
– А для меня роль в опере найдётся?
– Разумеется, мадам! Блондхен словно прямо для вас написана. Очаровательная плутовка, которая водит за нос неуклюжего стража гарема и соединяет двух влюблённых. Не сомневаюсь, вы затмите саму Тайбер!
– Звучит, конечно, многообещающе. Однако не стану вам больше мешать. Надеюсь, мы с вами ещё не раз увидимся.
Госпожа Мария Магдалена удаляется с той же окрылённой грацией в движениях и с той же загадочной улыбкой на губах, которые тринадцать лет назад околдовали сердце подростка. На несколько минут он погружается в сладкие мечты, но потом встряхивается и вновь обмакивает перо в чернила. Когда Гайдн просыпается и вновь переступает порог гостиной, он видит Моцарта сидящим в кресле и как будто тоже подремывающим.
– Славно я отдохнул, – говорит Гайдн и потягивается. – Я давно не чувствовал себя так хорошо. Однако и тебя, похоже, сморил сон. Что, муза тебя не навестила?
– Нет, я предпочёл работе полный покой.
Гайдн бросает взгляд на пульт для письма:
– А это у тебя что? Разве не исписанные нотами листы?
Он берёт несколько из них в руки.
– Наверное, это твой домовой потрудился, пока мы пребывали в объятиях Морфея.
– Не дури, я твой почерк знаю! Да ведь это два дуэта для скрипки и альта!
Он углубляется в рукопись; судя по тому, как он покачивает головой, удивлению его нет предела.
– Я бы никогда в такое не поверил, не будь всё написано чёрным по белому! И как ты проникся моим стилем, от точки до точки! Мыслимое ли дело? Ты как будто подслушал мои прихотливые фантазии, которым я пока не дал выхода. Видит Бог, ты кудесник!
– Всё куда проще! Я всего-навсего хотел развеселить тебя этой музыкальной шуткой. Обе вещицы, как видишь, совсем сырые – так, наброски, не больше. Допиши, обработай и отдай потом нашему архимуфтию...
– Это всё равно что птице летать в чужом оперенье.
– Да не выдумывай ты, Михаэль, не придирайся к словам! А я сколько раз украшал свой наряд твоими перьями? Считай, что эти сонаты – скромный подарок за то, чему я у тебя научился.
– Дай я обниму тебя, Вольфганг! Ты душа-человек! – И растроганный мастер обнимает своего бывшего ученика.
Как раз в этот момент на пороге появляется Мария Магдалена. Она так и застывает на пороге.
– Что я вижу! – вырывается у неё. – Ни дать ни взять театральные объятия.
– Забудь ты о своём театре, Маримагдль, – отмахивается её муж. – Это два боевых друга снова клянутся дружбой навек!
Они присаживаются к кофейному столику в самом приподнятом настроении. Гайдн бодр и то и дело отпускает солёные шуточки, гостю особенно приятно, что Михаэль словно под увеличительным стеклом разглядывает жизнь в Зальцбурге и посмеивается над общими знакомыми. Госпожа Мария Магдалена очень удивлена внезапной разговорчивости мужа.
– Как хотите, а я не узнаю его! Вы доктор-целитель, господин Моцарт. Сколько лекарств врачи ему ни прописывали, всё зря. А вы одним своим присутствием за полдня вылечили его!
– Понимаешь, Маримагдль, всей этой болтовне эскулапов насчёт зловредных червячков у меня в животе грош цена! Все болезни имеют обыкновение корениться в душе, и если за них хорошенько взяться, их можно вырвать с корнем. Вот он, наш кудесник и душа-человек, это умеет.
XVII
В этот свой приезд в Зальцбург Моцарт часто навещает Гайдна. Здесь он отдыхает душой, здесь для него как бы светит солнце, тогда как в остальное время небо либо затянуто облаками, либо идёт дождь. В атмосфере отцовского дома ему тяжело. Сколько бы он ни старался растопить лёд, который, похоже, сковал сердце отца, сколько бы раз, если так можно выразиться, ни протягивал ему своё, горячее и пульсирующее, ничего не получается. В отце глубоко укоренились предрассудки, недоверчивость и косность в том, что касается жизненных принципов, и Вольфгангу никак не удаётся восстановить былой близости.
Не меньше огорчает его и наступившее охлаждение в отношениях с Наннерль. Он всегда и обо всём говорил с ней как на духу, делился любой радостью и не утаивал горестей, а она всегда отвечала ему полным пониманием! Сейчас Наннерль напоминает ему улитку, с головой спрятавшуюся в собственном домике. Потом он с испугом начинает понимать, что причина отчуждённости Наннерль – их с Констанцей брак. И в этом отношении она даже более упряма, чем Леопольд Моцарт.
В конце июля к ним в Зальцбург приходит горестная весть: мадам Вебер сообщает, что маленький Раймундль, которого родители перед отъездом отдали в руки кормилицы, умер от «несварения желудка». От этой раны сердце Моцарта кровоточит.
Однако, будучи по природе своей стоиком, он привык считать жестокие удары судьбы испытаниями, ниспосланными самим Господом Богом. В отличие от него Констанца безутешна в своём горе и совершенно им подавлена. Наннерль готова сменить гнев на милость по отношению к жене брата, Леопольд Моцарт тоже пытается поддержать Констанцу, только это ни к чему не приводит. Она словно не слышит их слов, не замечает этих шагов к примирению.
Несколько дней она сидит, запёршись в спальне, и никого, кроме мужа, к себе не подпускает. Когда она немного успокаивается, Вольфганг, уверенный, что его ласковых слов будет достаточно, чтобы Констанца вновь обрела прежнее расположение духа, говорит ей:
– Штанцерль, тебе не оживить слезами нашего Раймунда, от них его маленькой душе только тяжелее.
Она вспыхивает:
– Знаю! Как я только могла отдать нашего малыша в чужие руки! Я виновата, но всё дело в этой поездке в Зальцбург, будь она проклята. Лучше бы ты один поехал к своим родственникам, которые делают вид, будто я невесть откуда взявшаяся бабёнка, поймавшая тебя в свои сети. И презирают меня за это!
Моцарт ошеломлён: ему ещё не приходилось видеть Констанцу в состоянии, близком к бешенству. Чтобы хоть немного утихомирить жену, он нежно поглаживает её по голове и уговаривает:
– Ты права, Штанцерль. Я вёл себя легкомысленно и безответственно. Прости меня, а то я с ума сойду от горя!
Констанца ничего не отвечает; она поднимает на него глаза и долго горько плачет.
XVIII
Несмотря на то что события в Зальцбурге как будто подстёгивают его к возвращению в Вену, Моцарт откладывает его с одной недели на другую. Может быть, надеется, что со временем отец и сестра найдут контакт с Констанцей? Да, он и впрямь надеется на это, пока одно происшествие в отцовском доме не доказывает Вольфгангу, что надежды эти беспочвенны.
Он просит отца показать Констанце дорогие подарки и подношения, полученные им во время поездок по разным странам. Расчёт прост: отец подарит Констанце какую-нибудь дорогую безделушку, та растает, а тогда... Но ничего подобного не происходит. Да, Констанца и броши примеряет, и надевает на палец то кольцо, то перстенёк, но стоит ей как следует разглядеть драгоценность, как отец снова укладывает её в коробочку и ставит на место в витрину. Вот эта отцовская нечуткость и стала последней каплей, переполнившей чашу терпения Моцарта, лишив его всяческих иллюзий. Теперь скорое возвращение в Вену – дело решённое.
За несколько дней до отъезда его навешает слепая венская пианистка Мария Терезия Парадиз. Он с ней познакомился в Париже, где её мастерство игры на клавесине произвело на Вольфганга глубокое впечатление. Приехав в Зальцбург к своим дальним родственникам, она узнает, что Моцарт здесь, и хочет непременно встретиться с ним и высказать своё уважение. Когда пианистка в сопровождении компаньонки входит в музыкальный салон «дома танцмейстера», Моцарт сидит за клавесином и импровизирует.
– Это Вольфганг Амадей, – шепчет она компаньонке, – так играть способен он один.
Наннерль хочет прервать игру брата и сказать, что гостья уже здесь, но та шёпотом просит её не делать этого. Она молча внимает его фантазиям, пока он, устав, не откидывается на спинку стула. Тогда она высоко поднимает свои красивые узкие руки и громко хлопает. Моцарт оглядывается, видит, кто ему аплодирует, торопливо подбегает к ней и целует её руки:
– Мадам, как я счастлив видеть вас вновь!
– А я ещё более счастлива слышать вашу игру, – отвечает она, и её одухотворённое лицо расцветает в улыбке.
Взяв её под локоть, Вольфганг подводит Парадиз к креслу:
– Я хочу, чтобы вы поподробнее рассказали мне о ваших триумфах в Париже.
– Ну что особенного я могу рассказать вам? Кто, подобно мне, воспринимает мир исключительно благодаря слуху, живёт в стороне от больших событий, которые радуют людей или сокрушают их. Только небольшой уголок души открыт для посторонних...
– Именно в этот уголок мне и не терпится заглянуть, ведь он, я знаю, бесконечно богат глубокими чувствами!
Она уступает просьбе Моцарта. Что сказать о последних событиях в Париже? Утешительного мало. Чреватое грозными переменами политическое развитие во Франции ничего хорошего любителям искусства не сулит. Сама она почти нигде не бывала, если не считать салона художницы Виже-Лебрен, которая прославилась своими натюрмортами и портретами; в её скромных апартаментах каждый вечер собирались десятка полтора художников и музыкантов, а также дамы, преклоняющиеся перед искусством, – вот там можно было познакомиться с самыми последними произведениями современных композиторов.
От мадам Виже-Лебрен она узнавала, что происходит в мире. Будучи заядлой театралкой, художница рассказала, как ей удалось попасть на премьеру небольшого домашнего театра одного вельможи, где впервые была поставлена на сцене ходившая до того в списках комедия Бомарше «Женитьба Фигаро, или Безумный день». Какая это всё-таки тонкая и остроумная пьеса!
– «Женитьба Фигаро», говорите? Возьму себе на заметку!
– Да, «Женитьба Фигаро». Но я заболталась и наверняка утомила вас, уважаемый маэстро. По сравнению с теми переживаниями, из которых вы черпаете вашу музыку, всё, о чём говорила я, сущие пустяки.
– О-о, мадам, не переоценивайте способностей, дарованных мне переменчивой судьбой. Мой путь вовсе не усыпан розами. Часто, очень часто мне приходится ступать босиком по колючему чертополоху. Но к чему нам с вами, мадам, изливать наши чувства в пресно звучащих словах, когда нам обоим знаком язык, способный поведать обо всём куда выразительнее? Сыграйте, прошу вас, любую сонату, на ваш выбор... или что хотите!
Пианистка рада исполнить его просьбу. С первых тактов Моцарт сразу узнает свою парижскую клавирную сонату a-mall и весь обращается в слух. Он стоит у клавесина, скрестив руки на груди, и не сводит глаз с её вдохновенного лица.
Это его любимая соната, в ней он подробно исповедуется и говорит о том, что заставляло его страдать в то время, когда он её писал: в ней его боль, связанная с уходом из жизни любимой матери, и мрачные мысли, вызванные отвергнутой любовью к Алоизии; а ещё – отчаяние по поводу преследующих его в Париже неудач.
Как же играет эта женщина! Она словно извлекает из клавиш все оттенки его тогдашних переживаний. Моцарт не в силах отвести взгляд от лица пианистки. Безжизненность глаз Парадиз его не смущает. То, о чём они сказали бы, будь она зрячей, написано у неё на лице: на прекрасно вылепленном лбу, в розоватой нежности щёк, в полуоткрытых губах тонко вырезанного рта, в лёгком подрагивании ноздрей. Всё богатство внутренней жизни, запечатлённое в этой сонате, сопереживается этим лицом. Едва отзвучали последние такты с их вибрирующим, отлетающим вдаль призывом, как Моцарт подходит к пианистке и берёт её руки в свои. Ни одного слова похвалы не срывается с его губ, он говорит только:
– Я напишу для вас клавирный концерт, мадам. И если Господь того пожелает, это будет самый удачный концерт из всех, что я написал.
Пианистка растроганно пожимает ему руку, поднимается и делает приглашающий жест в сторону стула. Он понимает её просьбу, садится и играет написанную в прошлом году фантазию d-moll. Начинает с прелюдирующих аккордов, которые переходят в жалобную песню без слов, её сменяет весёлое и грациозное allegretto, а завершается опус торжественной каденцией с повторяющимся жизнеутверждающим рефреном. Мадам Парадиз почтительно внимает этой простой и столь совершенной в своём мастерстве фантазии.
– Звучащая жемчужина! – говорит она. – Как вы богаты, маэстро! Все короли мира с их сокровищами не могут сравниться своим богатством с вами. – И оборачивается к компаньонке, молодой скромной девушке, всё это время простоявшей в молчаливом удивлении: – Запечатлейте этот день в вашей памяти, Марион. Он был одним из самых счастливых в моей жизни!
– Вы оказываете мне слишком большую честь, мадам.
– Да ниспошлют музы вам как можно больше таких перлов. Будьте счастливы, уважаемый маэстро. До встречи в Париже!
– Скорее всё-таки в Вене.
Он провожает пианистку до кареты и ещё раз растроганно благодарит за визит. Поднявшись наверх, видит в салоне отца, Наннерль и Констанцу, прислушивавшихся к их музицированию в соседней комнате вместе с детьми Маршана.
– Она и впрямь играет неподражаемо, – говорит Леопольд Моцарт.
– Да, ей удаётся то, чего я не слышал ни у Женома, ни у Клементи, ни у Игнаца фон Бэке: музыка превращается у неё в признание сердца, – подтверждает сын.
Прекрасная игра Парадиз на клавесине умиротворяет Моцарта, и в этом состоянии он пребывает до самого отъезда из Зальцбурга. Когда аббат Вареско, автор либретто «Идоменея», приносит первый акт заказанной ему оперы «L’oca del Cairo» – «Каирская гусыня» – никаких препятствий для возвращения в Вену больше нет.
Вольфганг с удовлетворением отмечает, что отец и сестра, – возможно, по причине предстоящей разлуки – выбирают более обходительный тон при общении с его женой. Он, человек по природе покладистый и уступчивый, готов им всё простить, но не такова Констанца.
Последние недели, проведённые в доме Леопольда Моцарта, были для неё пыткой, и она просто не могла дождаться отъезда.
В семье все расстроены, готовы в любую секунду расплакаться, одна она в хорошем настроении и даже всячески подчёркивает это, чтобы дать родственникам понять, до чего она рада с ними расстаться. Когда почтовая карета трогается с места, Констанца с торжеством в голосе говорит:
– Слава Богу, неприятный экзамен позади. Я знаю, я провалилась. А мне всё равно: больше в Зальцбург я ни ногой!
– Забудь об этом, Штанцерль. – Моцарт нежно гладит её руку. – Так уж устроена жизнь. То пирожным угостит, а то на стол солёную воду ставит. И приходится пить её, даром что вода невкусная.





