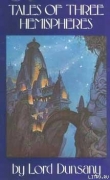Текст книги "Сказания не лгут (СИ)"
Автор книги: Татьяна Назаренко
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 22 страниц)
Рассказал, с трудом сглотнул и был рад, когда в разговор влез Готафрид Волчонок:
– Тейя Медведь, помнится, его ещё одёрнул – мол, зря он так расхохотался. Не к добру!
– Тейя Медведь сам не вернулся, – проворчал Ариульф Куница. – Хорошая сказочка, весёлая. Позабавил ты нас тогда, Венделл.
Атанарих виновато улыбнулся, потянулся за пивом. Подумал, что вряд ли стал бы сказки пустые рассказывать, не будь ему самому в ту ночь страшно.
– Дорого мы за неё заплатили, за ту вылазку, – ворчал Балдуин Сокол. – И лучшими воинами! Дюжину и восьмерых потеряли.
– Дюжину и четверых? – недоумённо посмотрел на него Атанарих.
– Четверых переярков что, не счёл? – поддакнул Фравита Сойка. – Они ведь тоже тогда погибли. Только в хардусе.
– Хватит, – огрызнулся Эврих, – Вы лучше скажите, кто видел, как пал Гэндзо Куница? Он ведь подпалил шатёр Геленчик–хоттын? Ариульф?
– Урсимана из Второго дома надо позвать, – заметил Куница, – Меня оттеснили, я только слышал, что Медведь ему на помощь рванул. Ревел, ревел, будто зверь, и враз умолк… Урсиман смерть обоих видел.
– Я схожу, – поднялся Атанарих. Ему стало совсем тяжело сидеть рядом с Эврихом. Он выскочил на улицу, рванул ворот рубашки. Попытался вздохнуть поглубже. Но воздух был густой и тяжёлый, застревал в горле и давил на виски.
– Гроза будет, Атанарих, – весело крикнул, пробегая мимо, Рагн, сын Гуннель. – Давно пора…
– Давно, – согласился Атанарих.
На четвертый день и живые, и мёртвые дождались радостной вести – прискакал с Белых холмов гонец. Все посланные поджечь стан хаков живы. Хаки переправились через Чегара–ки, что отделяет хакийские владения от земель, которые они сами почитают фрейскими. Значит, надолго ушли.
В тот же вечер начали рубить деревья для дома собравшихся на Полночь. Трудились и ночью, чтобы не мучить и без того заждавшихся мертвецов. Сруб делали возле кучи вязанок хвороста, вытащенных изо рва. Потом хворост, успевший подвялиться после недавнего ливня, сложили у стен и обильно полили одоакровым зельем. Стуку топоров и крикам строящих сруб людей вторил надсадный вой из хардусы – женщины прощались с убитыми, выкликая их имена. И над водой протяжно летело:
– Гэндзо, о, Гэндзо!
– Адхельм, зачем ты уходишь так рано?!
– Танкред! Прощай, могучий!
– Гилло, Гилло, Гилло! – голос Танки, которая весной сошлась с Годасгилом Кузнецом, звучал особенно пронзительно и надсадно, – Гилло, зачем уходишь ты? Зачем бросил меня, Гилло?!
– Убивается так, будто решила пойти следом за ним на костёр, – ворчали воины.
– Нам впору горше плакать, – заметил Аларих Куница. – Он делал хорошие стрелы. Теперь в нашем доме нет своего кузнеца.
А со стороны Вейхсхейма несётся наперебой:
– Ингвиомер!
– Бадвила!
– Гуальтер!
– Перхарм!
И другие имена, потому что каждого, кто покидаёт хардусу, надо было проводить с честью. И Эврих Песнопевец, сидя поодаль от строящих сруб мужей, поёт славу каждому воину, подробно описывая подвиги и гибель нового воина свирепого Кёмпе, супруга Холлы.
– О, Вальдило!
– Прощай, Хлодульф, славнейший из Туров.
– Сакерих!
– Амальгар!
– Хротстейн!
– Аутбодо! О–о–о, Аутбодо!
К рассвету сруб был построен. Делали наскоро, даже не вырубая в бревнах чаш и желобов. Широкие пазы забивали сухой соломой и берестой. Внутри сделали богато устланные еловыми лапами лежанки, на которых расстелили нарядные плащи и покрывала. Нарядить покойника, спелёнутого просмоленным холстом, нельзя, зато можно положить ему с собой нарядную одежду, любимые вещи, обязательно – ожерелье, которое он заботливо собирал всю жизнь. Чтобы умершие не голодали, забили овцу и утвердили её на вертеле над очагом. Рядом поставили бочонок с мёдом, лепешек не дали – зерна осталось мало, дотянуть бы до следующего урожая. Ну да пусть ушедшие не сердятся: Кёмпе не жаден на еду и на оружие тоже. Всё даст – и лук, и копьё, только вот меч, да особо любимое при жизни можно положить на костёр.
Едва забрезжил рассвет, стали выносить убитых. Раскладывали на самые почётные места тех, кто жил в первых домах, посерёдке – из вторых домов, а ближе к входу – переярков, что дожили до первого лета в хардусе.
Атанарих невольно считал – больше всех потеряли два первых дома: в правом девятерых не досчитались, в левом и вовсе – дюжины и одного. Из переживших набег – мало кто не ранен. Атанариха тоже задели в схватке пару раз, да разве он эти царапины за дело считает? Меньше всех заплатили третьи дома. Переярков в опасные места не посылают. А всё же шестерым из них лежанки приготовлены. Да ещё, видно, Гульдину Бычку скоро костёр складывать. Остальные убитые – из вторых домов.
Прощаясь, Атанарих лично убрал ложе своих переярков. Простился с могучим Фаствином Бычком, что был силён и упрям, но Атанарих сразу понял: глуповат и неповоротлив – не заживётся... Адхельма Кострюка, долговязого и застенчивого, он особо жалел. Этот простодыра глазел на него так восхищённо, что смешно становилось. Вальдило Журавлёнка конями стоптали в ту ночь. Храбр был и мог бы стать великим воином, а пал, почитай, в первом своём бою. Такова была его неудача. Адабрант Сыч – из лука хорошо стрелял, Атанарих чаял: попросит его в первый дом по осени. Не довелось – ни ему, ни Гульдину Бычку, что лежит при смерти. А Хлодульф Тур – того все жёны хардусы горько оплачут – красив был. Атанариха Куннаны красотой не обделили, но Хлодульфу он завидовал: в его красоте была мощь воина, а Атанариха все до сих пор юнцом почитают. А Перхарма Косулю особенно жаль – страшно погиб он, поймав брюхом ласточкин хвост. Выдернул его, а следом – петлями – кишки выпорхнули из живота. Аутари, поняв, что не жилец парень, сам его отправил к предкам: подошёл к нему, руку на лоб положил, ободряя, и враз горло ножом перехватил… А был Перхарм воин не из последних.
И Атанарих каждому из своих учеников поклонился низко, словно перед рихом. Каждому на грудь положил его охотничье ожерелье, рядом – меч, и укрыл крашеным плащом.
Потом отвесил низкий поклон своему соседу по стене – Годасгилу Кузнецу. Этому кроме меча положили ещё и молот с наковальней и клещами, чтобы ковал воинам Кёмпе стрелы. Восемь воинов выделялись среди прочих. Это те, кто погибли в схватке, и тела их так и не нашли. Небось, надругались над храбрецами хаки – бросили их собакам на съедение или волокли за своими конями по пыли, отступая... Но души их пойдут в славную дружину, чтобы служить величайшему из рихов. Из прутьев и соломы изготовили их подобия, нарядили в любимые одежды и тоже положили на общий костёр. Атанарих нашёл по браному плащу Ингвиомера Рысь. У него наособицу прощения попросил – вместе они пробились к шатру. Только Атанарих жив, а Ингвиомер – вот он, на Полночь собрался.
Когда Атанарих уже хотел уходить, из хардусы мальчишка прибежал, велел обождать: Гульдин Бычок не пожелал от прочих отстать, тоже ушёл, и тело его сейчас принесут…
Волосы Гульдина были ещё мокры – женщины наскоро его обмыли и нарядили в вышитую рубаху. И он не был обвит смолистыми пеленами. Лицо парня, осунувшееся за четыре дня страданий, казалось непривычно старым. Укрывая его плащом, Атанарих понял, что плачет, и не стал скрывать слёз.
С факелами в руках выстроились у входа Витегес, Видимер, Рицимер и Эврих. Остальные стояли поодаль, каждый со своим домом. И пока было не слишком заметно, что поредел строй защитников хардусы.
Протяжно, надрывно затрубили турьи рога, давая знать, что настала пора проститься с боевыми друзьями. Смолк нестройный гомон. Стало слышно, как гудит лес за границами росчисти, каркают вороны, и голосят в хардусе женщины. Их пронзительные вскрики сливались с рёвом рогов.
И тогда возвысил голос Эврих. Его низкий, словно бы надтреснутый бас был подобен звуку боевого рога, и вполне приличен торжественному и мрачному плачу, который он завёл.
Юноша шёл
К землям полуденным.
Златоволосый,
С ликом сияющим.
Встретил он воинов,
Видом суровых.
Были доспехи их
Кровью покрыты,
Были зазубрены
Мечи в руках мощных.
Песню подхватил юный Ботерих, сын старухи Кунигунды. Он стоял на восходе, спиной к солнцу, и оттого казалось – не человек это поёт. Звонкий, чистый голос звучал среди карканья воронов и рёва труб беспечно, будто прожил этот юноша среди богов и никогда не видел ни смерти, ни болезней, и даже малого горя не знавал. Потому что провожало павших новорожденное Солнце, не знающее ещё ни зла, ни боли, ни смерти. Зачин у прощальных песен всегда был одинаковый. Это дальше – на каждых похоронах – славились деяния того, кого провожали в последний путь.
Четверо воинов, державших факелы, направились к срубу и, просунув факела в щели, запалили еловые ветки, стоящие в бочонках с саром. Пламя тотчас же занялось, побежало по бересте и подсохшей хвое, распространилось с четырёх углов, и охватило, наконец, весь сруб. Вскоре жар стал так велик, что люди невольно попятились от него.
И снова Ботерих завёл чистым, высоким голосом человека, никогда не видевшего смерти:
Будь лёгок путь ваш,
Славные воины,
В земли полуночи,
В тёмные ельники.
Что мне ответить
В землях полуденных,
Коль меня спросят:
С кем же я встретился?
Огонь подобрался к укрытым в доме телам – запахло жареным мясом. По мере того, как пламя охватывало трупы, вонь горелой плоти крепла, пока не стала перешибать все остальные запахи.
Воины пели, вспоминая о каждом из ушедших, и голоса их сливались с низким гудением костра и рыданием рогов.
* * *
Духота и комары заедают. Но такое оно, лето: душное, жаркое, потное и всё равно желанное. На плечах – сладостное бремя – полный ранних грибов кузов. Скоро их будет невпроворот, начнут люди кочевряжиться, выбирать только самые лучшие. А пока любым рады. Ещё подоспеет ягода. Сперва суняшница, потом уже недалеко и до риховой ягоды, сладкой пахучки, там костница и синичка поспевать начнут. Как будешь их брать, значит, время Аирбе к концу близится. Ну, а если до журавлихи* дожили, значит, до следующей весны спокойно будет. «Если к той поре, как я начну брать журавлиху, Атанарих будет жив, – думает рассеянно Берта, – Значит, до следующего года точно проживёт…», – и торопливо складывает пальцы в знак, отгоняющий зло. Никогда не надо загадывать на будущее, дразнить Куннан. Особенно, если ты живёшь в хардусе.
Но отчего лес сегодня особо душен и пахуч? Вроде, гроза не собирается, а так тягостно и ломотно! Никогда Берта не чувствовала запахи остро, а тут вдруг чутьистая стала, словно хорошая собака. Грибы находит по запаху – он совсем иной, чем у мокрой земли, смятой травы и прошлогодних листьев. А спутниц – даже если не видит их и не слышит – всё равно знает, что они рядом, потому что доносится острая струя запаха полынного отвара, которым смачивают от комаров одежду и лицо. И пота. У Линды – горячего и пряного, у Яруны – кисловатого, у Фледы – отдающего пыльным ларём, у Хильды – резкого, будто черемша. Это все оттого, что девка соплива, даже летом у неё под носом мокро. Не перешибает чужие запахи даже собственная вонь. Сегодня с Берты просто ручьём течёт, да так смрадно, вроде бы гнильцой отдаёт.
– Тё–ётя Берта… – жалобно просит Хильда. – Попроси передохнуть?
Её голос раздражает хуже комариного писка. Берта едва сдерживается. После целого дня в лесу, с его валежником, и взрослым тяжело ноги передвигать. Что говорить о девчонке, которой едва семь зим минуло? Не виновата Хильда ни в том, что устала, ни в том, что черемшой смердит.
Берта оглядывается на девочку и улыбается ободряюще:
– Уже скоро. Смотри, просвет видать… У реки отдохнём. Тут если встанешь – совсем комары заедят.
Да и сама тоже что–то не в меру притомилась сегодня. Неужели прихворнула?
– Зря ты её взяла с собой, – ворчит Яруна.
Раздражение подкатывает к горлу. Так и просится колкое слово. Едва опомнилась: не всякое, что на язык рвётся, надо отпускать. Тем более, Яруна по–своему права. Зря сопливую взяли. Пожалела себе на шею: девчонка так умоляла, даже плакала.
Хильда Яруны испугалась, притихла. Только по–бабьи вздыхает, пристраивает поудобнее кузовок и бредёт дальше.
Ну, недолго осталось. Лес становится реже и чище – сюда постоянно ходят из хардусы за хворостом, выгребли всё. Близость дома придаёт сил. Женщины идут быстрее.
Едва на поляну вышли, стали на цыпочки привставать, да шеи тянуть. Хардусу видно плохо, но по едва заметным знакам можно понять, спокойно ли на высоком берегу.
Слышны голоса детей на реке. Частые дымы к небу не тянутся – никто не кипятит воду у воротной стены. У Белого холма небо чистое. Значит, быстрые и вороватые гости сегодня не пожаловали.
Покуда лугом идут, решают искупаться. Потому направляются не к броду, а забирают правее, на песчаный плёс. Трава пока невысока, вода сошла, грязь подсохла – мигом добрались. Снимают тяжёлые пестери и прямо в рубахах лезут в воду. Вглубь не пошли, растянулись блаженно на мелководьи. Вода – тёплая, как парное молоко, – враз снимает дневную усталость. Женщины некоторое время лежат на песке, наслаждаясь. Наконец, Яруна первая поднимается:
– Хватит бездельничать, жёнки!
Привести себя в порядок да идти дальше. Прополоскать в проточной воде перемазанные давленым гнусом и кровью убрусы, рубашки. Самим вымыться, натираясь крупным белым песком. Берта рада смыть с себя вонючий пот. Приподнимая груди, чувствует, что трогать их больно – ни с того ни с сего такие твёрдые стали. Точно, простыла! И когда надуло? Вот ещё не хватало – отродясь не было такой напасти. Чем её лечить? Гусятник что–ли распарить и прикладывать? А коли не пройдёт – у Грид спросить. Она чахлая, так от всех болячек лекарство знает.
Брод по этой поре ещё глубокий. Рослым Яруне и Фледе – и тем много выше колен. А Хильде и вовсе по грудку. Вода на середине реки быстрая, с ног валит.
– Держись за меня крепче, – говорит Хильде подобревшая после отдыха Яруна.
Девочка кивает. Снимает кузовок – не хочет грибы мочить. Хотя, по правде, что с ними станется? Всё равно, как придут – мыть и перебирать.
Линда ворчит на ходу:
– Вот ведь, лес под носом. А за грибами–ягодами приходится в такую даль таскаться!
– Кто ж тебе мешает? – смеётся Яруна. – Шла бы в дубраву против хардусы!
– Ага, – фыркает Фледа, – Говна хакийские топтать.
Женщины хохочут. Никому в голову не придёт собирать травы, грибы и ягоды в ближних лесах. И вовсе не потому, что туда бегают по нужде хаки. Лето – пора неспокойная. Набег за набегом. Уж лучше промочить ноги и платье, переходя через брод на низкий берег Оттерфлоды – целее будешь.
У самого брода понимают, что всё не так уж спокойно. Дети купаются, а вот мужей не видать. У Берты в животе противно ёкает и сжимается. Виски заломило – аж до тошноты. Дойдя до дома, она, не переменив мокрой рубахи, спешит на мужскую половину. Там пусто – это не диво – в летний день кому охота в доме сидеть? Но у некоторых лежанок нет военных рубах, оружия и шлемов. Атанариховых – тоже…
Значит, хаки где–то близко. Небось, снова на приграничные хеймы напали, и рих послал на подмогу небольшой отряд. Стараясь выглядеть как можно более равнодушной, Берта идёт на женскую половину дома. Там Линда и Фледа, смеясь, меняют мокрые рубахи.
– Ты куда потерялась? – спрашивает Фледа.
– Набег? – мрачно отзывается Берта.
– Да, на Волчью падь, – отвечает Фледа, в то время как Линда мрачно скалится и кивает. Ну да, её Куница тоже не в хардусе. А Фледа продолжает – настолько равнодушно, что злоба комком к горлу подкатывает:
– Малец прибежал подмогу просить. Но я так понимаю: раз народа мало послали, то больше посмотреть, много ли кобыл пожаловало.
– А сколько уехало? – Берта с трудом сдерживает слёзы (надо же, враз накатили).
– Дюжина и трое, – подаёт из другого угла голос Базина Чёрная. – Хотели дюжину послать, да твой Венделл с ними запросился. Понятно, и Фритигерну стало завидно, да ещё Рандвер с ними увязался.
Новость Берте мало понравилась. Пошли Атанариха Витегес, она бы так не расстроилась. Он воин, должен риха слушаться. Но зачем самому на беду напрашиваться? Да вот уж таков её друг! Мало ему забот, от которых не спрячешься, – ищет себе неприятностей! Берта торопливо натягивает рубаху, подходит к женщинам.
– Давайте вашу одёжу, пойду, постираю.
– Да куда ты? – не поняла Линда, – Давай хоть поедим!
– Неохота… – отмахивается Берта, – Душно, что–то я сомлела сегодня.
– Так мы тоже – аж мутит с голоду, – хохочут женщины.
Они правы – целый день, почитай, не евши. Кивнула, пошла собирать на стол. А в голове вертится противно:
«Куннаны! Зачем же вы тогда дали мне Атанариха?! Зачем дали эту зиму? Чтобы потом жизнь моя вовсе несносной стала?»
Зароптала, и тут же испугалась: а если богини ей в отместку возьмут и оборвут нить жизни Атанариха? Он–то, добродушный и беспечный мальчишка, чем виноват? «Куннаны, простите, – Берта понимает, что плачет. – Пусть Венделл будет жив и здоров!».
Не надо думать об Атанарихе, особенно – тревожиться за него. Неровен час, призовёшь на его беспечную голову беду. Но как не думать о нём? Все завидуют Берте – Венделл добрый, весёлый, щедрый. И покладистый – за ним жить спокойно. Но тем страшнее его потерять.
***
На следующий день пришли с разорённого хейма – и мужи, и жены с детьми, и рабы. Все испуганные, голодные и счастливые – удалось спастись, пленом себя не опозорить. Витегес принял их. В Вейхсхейме накрыли стол. Понятно, набежали со всей хардусы, стали расспрашивать.
Старику–Волку было чем похвастаться. Вовремя заметил, что птицы над лесом кружат («Аж небо черным–черно!» – плача, добавляли женщины). Велел людям бросать всё и бежать в крепи. Сколько было хаков – то они не ведали, успели утечь. Почти все утекли…
Поняв, что об Атанарихе эти люди ничего не расскажут, Берта потеряла к их речам всякий интерес. Все набеги одинаковы, только и разницы, что одни успели вовремя заметить врага и утечь в лес, а другие прозевали… Волки близко к границам живут, осторожные, на всякий шорох внимание обращают.
Бертин дед не был столь разумен. Их хейм стоял далеко от Оттерфлоды. Не верил Карломан Косуля, что хаки, даже перейдя через брод, доберутся до их земель. Сам рих Тенхилло до Косулиных хеймов добирался только в неурожайные годы, а так – ленился в дебри забираться.
Зря понадеялись дети Карломана Косули на лес. Предал он людей, что губили его красоту, вырубая под поля обширные лядины*, выгребая хворост на растопку. Не преградил врагам пути, не укрыл.
Зря понадеялись, что от врага отсидятся. Это набредавшие с полуночья иннауксы ходят небольшими ватагами. От них можно отбиться, укрывшись за частоколом хейма.
Хаки оказались не чета полуночным жителям, смерти не боялись.
А дальше – рада бы Берта это забыть, да разве забудется?
Не забыть, как с братишкой Урсольдом торопилась к частоколу через лес. Бросила бы его – добежала бы. Хака их нагнала. Братишку наполы развалила, а её не тронула. Сбила с ног, руки бертиной же опояской спутала. Чтобы девушка не зарезалась, быстро обыскала, ножик отобрала и пряжку острую. В овечий хлев отвела. И опояску забрать не забыла. Только зря она осторожничала. Испугалась тогда Берта, растерялась. Не подумала даже жизни себя лишить, ждала чего–то…
А чего, спрашивается, было ждать? На что надеяться? В хлеву овец уже не было, а рыдали, забившись в дальний угол, две рабыни и незамужняя тётка Вальтрауд. Дверь клети растворена – всё равно бежать некуда. Берта видела, как хаки грабят родной хейм, как убивают негодных в рабы. Не пощадили ни деда с бабкой, ни старшую тётку Эреливу – что от них толку? Сестрёнку Хеххильт вынесли вместе с зыбкой. Одна хака, весело смеясь, схватила ее за ножку, и кинула другой хаке. А та на лету ребенка рассекла и тоже загоготала, щуря и без того узкие глаза и широко разевая чернозубый рот. А зыбку они отшвырнули к стене. Потом рабыню выволокли и потянули, орущую и отбивающуюся, к хлеву.
Ну вот, снова слёзы на глаза наворачиваются. Да что это за напасть такая?! Право, словно старуха, второй день плачет! Что теперь оплакивать тот давний набег и погибших в нём? Уж и кости их, небось, волки да лисицы по всему лесу растащили, а пожарище заросло молодыми берёзками!
Берта торопливо вытирает нос кулаком.
Волчихи охают и жалуются, Волки хмурятся. А у Берты в голове свербит, словно муха привязчивая: «Если уж пешие добрались до хардусы, то конным той же дорогой давно пора появиться! Где же воины, где Атанарих?»
И оттого всё происходящее вокруг будто в тумане.
– Берта, иди, помоги истопить бани. Потом собери у беглых одежду, выстирай.
Это Яруна. Ей велено приветить беглецов как дорогих гостей, но лицо кислое, будто журавлины наелась. Однако с рихом не спорит. А вот Линда не смолчала.
– Может, им ещё и гузна помыть? У них жёнок и девок вон сколько, с чего это мы их вшивые портки стирать должны?!
Среди беглянок, что сидели, сжавшись, и плакали, враз скулёж унялся. Одна из Волчих, молодуха, вскочила и смерила взглядом Линду, потом проворчала презрительно что–то под нос. Но слово «лейхта» прозвучало отчетливо.
Куницына подружка взвилась, подбоченясь, глазами засверкала. Сухая, чёрная, с перекошенным злобой лицом, она сейчас и правда была похожа на нежить.
– Лейхта, и что?
Берта подошла, отстранила её, возразила спокойно:
– Да что ты взъярилась–то, Линда? Невелика беда – я постираю. Они такого страха натерпелись.
– Страха?! – не унималась та, – Да они страха–то и в глаза не видели! Что ты перед ними голову наклоняешь? Чем им гордиться? Тем, что хакам не попались?
Тут уже беглянки вслух зароптали:
– Вам–то с чего величаться? Смелости не хватило честно умереть!
Берта махнула рукой и пошла прочь – от греха подале. Не ровен час, сама в голос разрыдается. Линда–то что? Она всегда такая – чуть что – займётся, ровно сухая головня. А она, Берта, держать себя умеет. Ей самой бывает совестно, если сорвётся. А сегодня – ровно альис её одолевает: то зла на весь мир, то глаза на мокром месте… И хорошо, что можно уйти и заняться баней. Около огня глаза дымом ест, и всегда можно сказать: «От дыма слёзы».
Огонь потрескивает в печи, а Берта никак не может справиться с воспоминаниями, что накатили так не вовремя.
Хаки грабили не спеша. Заходили в дом и клети, собирали всё, на что могли позариться, но больше прочего искали шкурки лесного зверья – куниц, горностаев, белок, лис, бобров, рысей. Волчьими уже брезговали – видать, своих вдосталь. Радуясь, тащили из клетей бочки с мёдом, зерном тоже не пренебрегали. И скотину берегли – куда больше, чем рабов, потому что ни из фрейса, ни из иннаукса, ни из мортенса хорошего раба не получится. Разве что из тех, кто с червоточинкой, побоится умереть, любую жизнь сочтёт лучше честной смерти на свободе. Как потом такому человеку на суровость Куннан нечего сетовать? Сам свою долю выбрал. Так что права та Волчиха: не человек он вовсе – лейхта. Вот она, Берта, не нашла в себе сил умереть – ни тогда, ни после… Сперва растерялась. Время от времени в клеть заталкивали очередную молодую пленницу. Рабыня Тагни сказала Берте, что видела, как убили её мать. Берта уже догадывалась, что мать хакам не нужна. Нужны молодые. Помнится, даже не заплакала, услышав злую весть.
Наконец, хаки закончили грабить, собрались вокруг сваленного во дворе добра. Раскричались хрипло, словно вороны на падали,– добычу делили, сначала ту, что не сбежит. Потом до пленниц дело дошло. Тут некоторые хаки прочь пошли, звонко пересмеиваясь, а остальные наоборот, сгрудились. Выводили по одной. Сперва молодку Идду, жену старшего брата. Она и правда была самой красивой из всех пленниц. Разглядывали, гоготали низко и хрипло, задирали подол. Кидали в шапку перстни. Идда досталась старой хаке с короткими, тронутыми сединой косичками, торчащими из–под лохматой шапки. Остальные взвыли, словно голодные волки. Получившая Идду старуха пошла прочь. Одна молодая, рослая хака тотчас побежала за ними, стала хватать бабку за полы, совать ей перстни, лопотать умоляюще, и, наконец, сторговалась. Сунула той два браслета и тут же, чуть отведя Идду в сторону, завалила её на траву. Это было страшно и непонятно – зачем?
– Что это она делает? – вырвалось у Берты.
– Или ты не видишь – это муж? – горько усмехнулась Бальдегауд – рабыня, которую дядя выкупил несколько лет назад на Торговом острове. И верно – все, кто делил пленных женщин, были мужами. Безбородыми, с бабьими круглыми лицами. Но если приглядеться и прислушаться – можно отличить мужа от жены.
Из клети вытащили упирающуюся тётку Мадабергу. Эта молодому досталась, и он, радостный, едва в сторонку отошёл и тут же её уложил.
Потом Берту вывели, и на неё кидали жребий. И тоже расстелили на земле, едва она досталась одному их хаков. Тот не был жаден и тут же поделился добычей ещё с пятерыми… Они все были на одно лицо – плосколицые, голобородые, узкоглазые. Пахло от них, как от козлов. И Берта завидовала тем, кого убили – сестренке Хеххильт, братцу Урсольду, сучке Нидве, которой подчистую снесли голову, и она валялась возле дома; и кобельку Сунно, которого стрелой пришпилили к земле; завидовала матери, деду и бабке, отцу, дядьям и братьям – хоть их тела и остались без погребения.
Но она не нашла в себе сил уйти из жизни. А чего, спрашивается, было ждать? На что надеяться?
А ведь немало нашлось в их краях таких, которые предпочли жить любой ценой! Когда их гнали… По пути и хаков, и пленников становилось всё больше: другие хеймы тоже пограбили. Среди пленных не было ни одного взрослого мужа, ни одного старика или старухи, а всё больше молодые женщины, иногда дети – те, кто уже перевалил за седьмую весну… Берта потеряла своих, потому что пленниц стало слишком много. Рассказывали, что хардусу сожгли, рих Тенхилло погиб. Все в хардусе погибли. Но никто точно не знал, правда ли это? Потом дошли до брода. Берта увидела обугленные стены и тучи ворон, круживших над пожарищем. Над Оттерфлодой кисло пахло мертвечиной.
Пленников гнали дальше. Ослабевших и слишком строптивых убивали. Однажды Берте показалось, что в стороне лежит тело Идды – ветер шевелил коротко обрезанные волосы. Идда всегда была самой лучшей. Не успела уйти от плена – но и жить не стала. А Берта покорно согревала подстилку своего хозяина, пока отряд не возвращался в степь…
И чего, спрашивается, было ждать? На что надеяться?
…Баню она истопила, и одежду беглецов перестирала да выкатала – а воины так и не вернулись в тот день. И ночью – она и не надеялась, что в ночь вернутся, но всё ворочалась на постели, прислушиваясь. Нет, не вернулись.
Утром поднялась до свету, пошла щепать лучину. Гуннель тоже уже встала. Подошла, понимающе погладила по руке и сказала:
– Не тревожься. Вернётся он живой.
– Ты гадала? – с надеждой спросила Берта.
– Гадала. – одними глазами улыбнулась старуха, – Никто из наших не погинул…
И, правда, не соврала гюда. Все живыми вернулись, к полудню. Пригнали отбитые у хаков возы и лошадей. Не со стороны разорённого хейма пришли, а по Хаковой дороге. Она длиннее, но телеги никак не прошли бы по лесным тропам. Тяжелогружёные, они еле ползли, и всадники не утерпели: как только вступили в дубраву – перешли на рысь, бросив возы на двоих воинов и нескольких пленниц. Встречать их высыпали все. Аларих въехал первым, неся перед собой на копье длинноволосую хакийскую голову. Следом за ним, красуясь в седле и посверкивая золотым шлемом, ехал Атанарих. Величавый, как рих, тоже с вражеской башкой. За спиной Венделла, укрытая его плащом и крепко обняв воина за пояс, сидела какая–то зарёванная девица. У Берты сердце рухнуло, когда она увидела эту пленницу. Атанарих, заметив в толпе свою подружку, весело ей помахал насаженной на копьё башкой, но проехал мимо, навстречу риху. Берта не смогла смотреть дальше, ушла. Коварны Куннаны и мстительны. И почему Берта не подумала, что есть и иные способы отнять у неё спокойную жизнь?
Наверно с той самой поры, как попала в плен, Берта не чувствовала такого отчаяния. Через силу втягивая воздух, она на трясущихся ногах шагала прочь, боясь голову поднять. В груди и животе всё клокотало и дрожало, словно студень. По счастью, в овечьем куте никого не было. Берта шмыгнула туда и, ничего не видя перед собой, забралась наверх, на повети. Ткнулась лицом в пыльный помост, усеянный сенной трухой, и, закусив руку, разрыдалась. Конечно же, не удержать ей Атанариха! Он молодой, красивый, и та девчонка, что в него вцепилась, годами пятью моложе Берты. Мордочка, конечно, опухшая и чумазая, но всё равно видно – красивая. Личико – словно яичко, гладкое и продолговатое, нос тоненький, прямой, волосы – как солнечные лучи, светлые. Где Берте, крапчатой, с такой сравниться? Той после плена, конечно, надо защитой заручиться! А что Берте останется, если Венделл её бросит? Снова будет жить, словно ягодный куст у тропки? Каждый, кто мимо идёт – ущипнёт? Даже мелькнуло в голове – а не удавиться ли, или утопиться?
Но слёзы, альисы их забери, принесли облегчение. Сначала нелепой показалась мысль о смерти. Потом подумалось: а с чего это она решила, что Венделл её бросил? Ну, привёз девчонку на крупе своего коня… Что это значит? Да ничего не значит! Когда их отбили из плена воины Витегесовой хардусы, они так же помогали женщинам взбираться на своих лошадей и давали им плащи. Не потому, что холодно было. Просто одежда полонянок к той поре так обтрепалась, что местами тело светило. И она, Берта, въехала в хардусу на крупе коня Аутари Зимнего Риха… Аутари же не взял её к себе на ложе? Даже не пытался, хотя тогда Берта была моложе. «Но то Аутари! У него в хардусе настоящая жена живёт, и какая! Гюда! И рад бы от такой погулять, да боязно!» – билась в голове всё та же назойливая муха.
Тем временем во дворе засуетились. Кто–то из мужей прошагал в свинарню. Оттуда донеслись поросячий визг и весёлый смех. Вернувшихся с победой ждал небольшой, но пир. Берты могли хватиться. Она утёрла заплаканное лицо и спустилась не во двор, а в огород. Умылась там из бочки, принялась дёргать лук, чтобы с ним появиться в доме. Дескать, понятно же, что пир готовится, вот и пошла нарвать…
– А ты куда это пропала? – весело бросила ей Линда. Она вся сияла и приплясывала, стоя у котла: Куница тоже вернулся, жив–здоров!
– Котёл с варевом для птицы на огне оставила, боялась, сбежит, – соврала Берта. – Увидела, что, Венделл жив, а про свои подвиги он мне потом расскажет.
Женщины захохотали:
– Это верно, успеешь наслушаться. Знаешь, кого он срубил? Биё Меше!
Берта охнула: среди воинов покойницы Бури, Меше имела славу воина могучего и свирепого. Сила её была так велика, что Берта была уверена – не кобыла это, а жеребец.
– Видно, плохо им после смерти Бури пришлось, если сама Меше начала, как шакал, по Волчьим хеймам шарить, – сказала Гуннель. Присмотрелась к Берте.