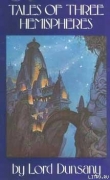Текст книги "Сказания не лгут (СИ)"
Автор книги: Татьяна Назаренко
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
– Староречья промерзают, воздуха рыбе не хватает, вот она и задыхается, – поясняли фрейсы Атанариху.
Черпали, пока не набрали довольно. А было бы желание – ещё бы взяли. И другие на заморы ездили – так что рыбы было вдоволь.
А вот зерна в хардусе всегда мало. Яруна, и без того скупая на него, после Винтрусбрекка порой по нескольку дней не давала людям ни пива, ни кваса. Молока тоже не было – козы все запустились. Жёны варили разные сушёные травы, сдабривая их мёдом. Пока питьё не остывало, Атанарих находил его вкусным, не говоря о том, что согревало оно даже лучше крекского вина. Вернувшись после стояния в дозоре или долгого боя, сидеть за дымящимся кубком сладкого сейдена – так называли эти отвары фрейсы – было приятно. Жить было можно. Но сама необходимость обходиться без привычной еды выводила из себя не только Венделла. Парни не жалели злых слов о Яруне, однако, терпели. С возвращением мужей из гимана, все снова разошлись из Святилища по своим домам. И пиво с квасом стали появляться на столах через два дня на третий.
Витегес, едва возвратился, призвал к себе прибылых. Велел показать, чему они за зиму научились. Смотрел, как парни обороняют и берут стены, играют с мечами на дворе Вейхсхейма. Особо подивился, как прибылые выучились сражаться верхом. Было бы неправдой сказать, что фрейсы вовсе не умеют биться в седле и обучать боевых коней. Но всё же сражаться предпочитают пешими. Если говорят, что спешенная хака подобна стрижу на земле, то сидящий в седле фрейс похож на медведя, забравшегося на дерево. Атанарих ещё по осени проверил всех жеребчиков и оценил их свирепость. Табун был не так уж мал, для верховой езды оказались непригодны разве что совсем молодые и пугливые. Трусы в табуне и не задерживались – отправлялись в котлы. Жеребцов, чтобы были свирепы и без страха перед болью шли на врага, оказалось куда меньше. Однако набрал из взятых с бою, уже прошедших жестокую выучку. Велел молодых натаскивать – под жалостливое оханье жёнок. Известное дело, смотреть на учёбу радости мало – когда горячего жеребчика привязывают меж двух столбов, и мучают, покуда отчаявшийся конь не начнёт отбиваться от мучителя. Атанарих мечтал, чтобы у каждого воина был хотя бы один свой конь, но отступился – на всех не хватило. Себе отобрал лучшего и никому на него садиться не позволял. И хотя кони фрейсов – малорослые и мохнатые степняки – были неприхотливы, после каждого учения старательно выгуливал его и сам чистил. Фрейсы смеялись над ним, говоря, что он холит жеребца, словно мать первенца. И Атанарих назвал коня Сунусом – Сыночком. Фрейсы посмеялись и отступились, сами стали чаще подходить к коням со щёткой и скребницей. Набрав коней, Атанарих всерьёз взялся за наездников. Заставлял парней сражаться друг с другом верхами. Но если на земле многие из его учеников уже одолевали наставника, то в седле с ним сладить не мог никто, даже Рандвер Волчонок, которому это искусство давалось лучше прочих.
Но всё равно Атанарих оробел, показывая, чему обучил прибылых. Ждал попрёков. Витегес, тем не менее, остался доволен всадниками, не говоря о пеших бойцах. Велел старшим воинам сесть верхами и биться с Атанарихом. И сам скрестил с ним меч, причём не по разу. Следил за боями, а потом, призвав к себе, спрашивал, кого Венделл считает самым сильным соперником. Атанарих посетовал, что многие даже не захотели с ним биться, а одолели его, кроме Витегеса и Видимера Сокола, только Аларих и Гэндзо Куницы, да Готафрид Рябой и Бадвила Козёл. Из Зубров ни один не сладил – слишком тяжелы для степных малорослых лошадей, чтобы биться верхами. Из тех, кто с ним не сладил, похвалил братьев Адхельма и Ингвиомера Рысей, сына Видимера – Зигемунда, Урсимана Медведя, Танкреда Выпь и Дагариха Лося. Витегес слушал, кивал, а потом подарил Венделлу золотой перстень для стрельбы из лука и велел ещё и стариков учить сражаться в седле. Желающих и тут оказалось больше, чем коней. Но потом поотстали, и Атанарих имел дело только с теми, от кого видел толк. Да Зубры все, как один, не отступились, показывая гордый норов.
Ингвиомер, сын Ингерид, пришёл в этот мир незадолго до отъезда мужей в гиман. И хотя мать его, Ингерид, была слаба и болезненна, ребёнок её народился велик и тяжёл. Первое время после того, как Грид Плакса вернулась к людям, всё было хорошо. Даже то, что у матери не хватало молока для такого большого дитя, ничуть не вредило ему. Жадно набросившись на её грудь, Ингвиомер быстро опустошал обе, и смиренно принимал в ротик сосок рожка с разведённым молоком или тряпицу с нажёванными лепёшками. И животом маялся не больше, чем другие младенцы. А на Винтрусбрекку его сглазили. Или лейхта коснулась дитя в последние долгие ночи, когда все живые особенно беззащитны перед слугами Холлы? Грид сперва не придавала значения тому, что сын стал чаще просыпаться по ночам и вопить от каждого стука. Такое бывает с младенцами. Ночной пот, сопли и кашель тоже мало напугали её – знала, какие травы и отвары стоит давать, чтобы поскорее прогнать болезнь. Но Ингвиомер, вопреки её стараниям, никак не поправлялся. Напротив – худел и хирел, плакал всё тише и всё чаще и назойливее, разевая синюшные губки. А личиком бледнел, и кожа его цветом изо дня вдень всё больше напоминала снятое молоко. С каждым днём он всё меньше походил на жильца этого мира. Не помогали ни отвары, ни заклинания, ни ночёвка под петушиным насестом, чтобы на заре над младенцем заголосил петух, и вселившая в него лейхта бежала, устрашившись.
Начались шепотки, что малец всё равно умрёт, и нечего матери изводиться. Грид заупрямилась, и с упорством безумной ходила за своим заморышем. Вечерами, как в полубреду, рассказывала Берте о своей тоске. То клялась, что выходит его, то жаловалась, что всё равно он никому, кроме неё не нужен. Младенцу день ото дня становилось всё хуже, и мать, казалось, уже потеряла надежду. Но продолжала поить бесполезными отварами и настоями. Гуннель, жалея, предложила ей переделать дитя – она отказалась. Стоило ли дивиться, что в хардусе не осталось женщины, которая не злилась бы на Грид?
В день, когда мужи вернулись из гимана, Гуннель встретила Сара Зубра у саней, отвела в сторону и что–то сказала. Тот было отмахнулся, но гюда нахмурилась, и тот, бросив возы и мешки, которые надлежало разгрузить, пошёл в Вейхсхейм. Отыскал Грид, попросил показать ребёнка, и с удивлением смотрел на синелицее пищащее существо, копошащее опухшими лапками. Брезгливо поторогал пальцем его раздутый живот.
Грид молчала, глядя тяжёлым взглядом на Зубра. Сар помедлил некоторое время, а потом взял дитя на руки, подержал с миг и поспешно отдал матери, вздохнув:
– Что ж ты его мучаешь? Переделала бы что ли, коль он тебе так дорог!
Грид оскалилась, словно хорёк, и взвилась:
– На верную смерть отправляешь!
От резкого голоса матери младенец покрылся испариной, но сил запищать громче у него уже не было, заскулил, часто поводя костлявой грудкой.
Сар пожал плечами: неужто не видно, что умрёт? Взял женшину за голову, равернул её так, чтобы она смотрела прямо на мертвенное личико младенца, и несколько раз ткнул её, будто несмышлёного щенка воспитывал. Потом развернулся и ушёл.
И всё–таки признал, что этот полудохлый малец был его сыном, а не подброшенным альисами в тёмные ночи Винтрусбрекки. И сказал своё мужское слово на счёт судьбы младенца. Мало бы кто одобрил Грид, если бы она и после этого продолжала упрямиться. Только она посидела недолго над сыном, потом поднялась, нашла Гуннель и сказала едва слышно:
– Переделывай.
Гуннель только выдохнула облегчённо, и ответила:
– Коли согласна, то завтра вечером...
Грид посмотрела на неё исподлобья, испугавшись собственного решения, кивнула, а потом всё же спросила:
– Многих ли ты переделывала, Гуннель?
– Пятерых, – невозмутимо ответила старуха, – Лив, как видишь, живёт.
И хотя гюда не сказала прямо, что из пятерых четверо отправились к Холле, надо было быть совсем без ума, чтобы не понять правды. И Грид поняла, вздохнула:
– Куннанам виднее.
– Я не пойду! – тотчас вскочила Линда, – Можешь меня проклясть, не пойду. Прошлый раз чуть сама к Холле не отправилась от жара!
Грид брезгливо поморщилась и оглянулась на Берту. Та опустила глаза: про переделки говорили многое и страшное, но отказать подуруге она не посмела и кивнула.
Гуннель велела:
– Возьми пол–мерки ячменя или овса. Посмотри, чего больше. Да корня рогожника* возьми пол–мерки.
– Поможет ли рогожник? – спросила Берта испуганно.
– Коли ему не время идти к Холле – поможет, – отрезала Гуннель.
– Зачем ты оставил меня, дитя моё, ненаглядный мой Ингвиомер! – Грид рвала волосы и ломала руки, царапала лицо до крови. Сопровождавшие её женщины рыдали и ударяли себя кулаками по груди, как будто хоронили человека пожившего и всеми любимого. Они вереницей спускались с обрыва по тропе, ведущей к реке, разрывая быстро сгущающиеся сумерки протяжными, надсадными криками. Писк лежащего в корыте младенца за этими причитаниями был вовсе не слышен. Потом Яруна затянула песню про тёмные ельники, в которые должен успеть до заката солнца безвременно ушедший Ингвиомер. Женщины проливали слёзы, а наверху, на женской половине, стоял стол, на котором их дожидались лепешки и сладкая каша с ягодами, пиво и мёд, как на настоящих поминках. А из щелей двери ближайшей бани валил пар.
И со стороны казалось – правда, похороны. Только никто не хоронит покойников близко к ночи. Никому в голову не придёт устраивать в честь младенца, едва явившегося в этот мир, столь пышные похороны с плачами и обильной тризной. Всякий, кто дорожит своей головой, не станет топить баню близко к ночному часу.
И хотя дома были совсем рядом, и днём этой дорогой каждая ходила бессчётное количество раз – не было среди женщин ни одной, чьё сердце не сжималось бы от страха.
Грид робко постучала. Один раз, и второй. На третий раз дверь бани распахнулась, и показалась укутанная белым холстом с ног до головы невысокая фигура:
– Кто тревожит нас в нашу пору? – хриплым шёпотом спросила она.
Женщины, сопровождавшие Грид, невольно отшатнулись при виде выглянувшей, некоторые вскрикнули, не в силах сдержать страха. Хотя каждая знала, что это Берта Веселушка, которую Гуннель позвола помочь. И Грид отступила назад, но тотчас совладала с собой и с поклоном произнесла:
– Мой Ингвиомер покинул меня, ушел к Холле.
– Что же… – принимая корыто с лежащим в нём ребёнком, произнесла безликая фигура и торопливо захлопнула дверь. Она что–то ещё сказала, но уже нельзя было разобрать…
Грид, взвыв раненным зверем, повалилась на солому перед порогом бани.
– Ингвиомер, моё дитя, мой сынок! Не увидеть мне тебя больше, не услышать твоего смеха, не взглянуть в твои глазоньки, не взять на руки!
Линда и Фледа сели рядом с ней, обняв и утешая.
– Так Куннаны решили, Грид! Нельзя на них роптать. Дети часто умирают, не ты первая, не ты последняя… – наперебой утешали они. Остальные женщины, слушая рыдания матери, нетерпеливо переминались с ноги на ногу. Хотелось уйти поскорее – и вовсе не потому, что день выдался ветреный, и с неба сыпала крупа, больно хлеставшая по щекам. И не оттого, что в хардусе их ждало тепло, сладкие лепёшки, каша и хмельные меды.
Линда и Фледа не без усилий подняли рыдающую подругу, ничего не видящую от слёз, потянули наверх. Она должна была идти первой, и женщины расступились перед ней. Линда, пропуская Грид, произнесла мрачно:
– По мне, чем её задохлика переделывать, её саму бы перепечь.
Словно ответом на эти слова ребёнок за стенкой бани завопил так, как не кричал с самого рождения. Мать, услышав его рёв, зажала уши, и, путаясь в подоле длинной белой рубахи, побежала наверх.
Гуннель, раздевшись догола, надела на голое тело сделанную из волчьей шкуры и чёрного холста шубу. Распустила седеющие волосы, подхватила их повязкой с волчьими зубами. И оттого, как переменились лицо и стать гюды, Берта оробела: сердобольная Гуннель враз превратилась во властную и жёсткую старуху, будто не хорошо знакомая хозяйка её дома была перед ней, а сама суровая владычица Холлахейма. Совсем не по себе стало, когда она протянула Берте холстину – широкую, в шесть полос. Это нужно было на себя надеть, облачиться в тот убор, что носят невесты на свадьбе, покойники да слуги Холлы.
С утра Берта не раз пожалела, что согласилась помогать Гуннель. Когда слушала, что поёт старуха, пока Берта вращала жернова, пока топили баню до такого жара, что казалось – в огонь зашла, и вот сейчас… Подумала даже, что надо было поспорить – тогда, глядишь, упросили бы Линду. Та уже не первый раз гюде помогает… И дело это – по ней, все говорят, что быть Линде чёрной гюдой, всё к этому идёт. Но пожалела подружку, которой ни в чём счастья нет. Теперь вот терпи.
Грозная хозяйка повернула к ней голову и, заметив испуг помощницы, ободряюще улыбнулась.
– Передохни, их даже не слышно… – привычный голос Гуннель слегка успокоил Берту. – На вот, выпей, поможет…
Берта послушно приняла из рук колдуньи небольшую чашечку. Выпила. Сквозь вкус мёда пробивалась незнакомая горечь… Ждала, что голова закружится, как от хмеля, но ничего не было. Опустилась на лавку, устланную еловыми ветками, и ткань уложила рядом. Отёрла лоб – пот лил с неё градом.
Затопив баню, Берта сняла с себя всю одежду, осталась в рубахе из белого полотна. И та уже промокла насквозь, противно липла к телу, путалась в ногах.
Сухой воздух маленькой бани пах вытопившейся смолой и подопревшей хвоей. Угасающий огонь гонял по стенам раскалённой баньки тревожные тени. Место недоброе, и время злое… Дом смерти. И только голос Гуннель был ещё из этого мира. Она наставляла, деловито и спокойно.
– Слова все помнишь?
– Да.
До чего же трудно дышать! Каждый вдох – через силу, и в голове, как во время болезни, противно и пусто. Вроде бы как бабочка летает, бьётся о череп, ищет, как выбраться. Часто–часто стучится крылышками. От этого слабость и простые слова понимаются с трудом.
– Долго на пороге не стой, а то после такой жары может так прохватить, что сведёт судорогой и помрёшь. Ладно, надевай покров, близко они. Должно быть, на берег спустились.
– Неужели ты слышишь? – удивилась Берта.
– А ты разве нет?
– Нет… – замотала головой она. – Кровь стучит…
– Эх… Зря я тебя позвала, надо было бы кого посуше взять. Ну да ладно, выдержишь, крепкая…
Прислушалась, и вдруг решительно встала:
– Пора.
Как такое может быть? Только что была рядом старуха Гуннель: сутуловатая, улыбчивая… И вдруг снова переменилась: статью, поворотом головы, горделивым холодным взглядом. Другая стала, вроде и не человек уже – сама Холла. Берта торопливо натянула на голову край холста – лишь бы не видеть её.
И тут гюда запела. Сперва едва слышно и непонятно, потому что обычный её, высокий голос вдруг стал низким, как у мужчины, и рокочущим, как барабан. И Берта теперь отчётливо разбирала слова:
– Запах еловый –
запах смерти.
Факел упал
На сухую солому
От жара его
Всё занялось.
Голос пробирался в уши, заполнял собой голову Берты. И, переполнив её, соскальзывал в грудь, так что сердце замирало и захлёбывалось этим звуком. Голова сделалась пустой и гулкой, как дуплистое дерево. Звук метался в ней, наталкиваясь на костяные преграды, и голосил эхом. Берте показалось, что смерть вползает в неё, вытесняя душу и разум, и всё естество. Даже тело – её тяжелое, потное тело становится иным, лёгким. Бабочка, порхавшая в голове, наконец нашла выход на волю, выпорхнула, и Берта успела подумать, что это, верно, и есть сама лейхта, а потом поняла – что она и есть эта бабочка…
А Холла выла и рычала яростно:
– Воздух горяч,
Жар нестерпим –
Мёртвое тело
Истлело в костре,
Лейхта пошла
Холле на службу.
Заунывно распевая, поднялась, подошла к квашне, в которой подходило с утра тесто, замешенное на трёх водах – снеговой, колодезной и речной. Подбив его, оглянулась.
– Лейхта, ты здесь?
Край покрывала слегка сползает, и владычица Холлахейма снова видна, но она уже не пугает. Глядя прямо в глаза зовущей, женщина поворачивается к ней всем большим и невесомым телом. Сгибается в почтительном поклоне:
– Госпожа Холла.
Пение женщин и вопли живых хорошо слышны. Доносятся издалека, как сквозь сон.
Рядом стоит госпожа Холла, урчит, как рокот далёкого грома. Слова не различаются, но лейхта отлично понимает, что говорит госпожа. Дверь грохочет под ударами чьей–то руки, и Холла приказывает:
– Лейхта, ступай,
Посмотри на дворе,
Кого привели к нам
Дороги заросшие?
Лейхта невесомо движется к дверям, распахивает их. Невыносимый мороз обдаёт её, и она произносит, едва переводя дыхание:
– Кто тревожит нас в нашу пору?
– Мой Ингвиомер покинул меня, ушёл к Холле, – голос женщины режет уши. Холод и резкие звуки невыносимы.
– Что же… Давай его сюда. – лейхта, едва выхватив из рук женщины гроб с телом ребёнка, поспешно затворяет дверь. –Мёртвое – Холле.
– Кого принесла ты? – вопрошает Холла.
– Того, кто не жил, – отзывается лейхта.
Холла не спешит. Перемешивает тесто. Ловко подхватив ребёночка под животик, щедро плюхает упругим тестом на спинку, попку, ножки и ручки. Окутывает его, словно пеленой, залепляет глаза, оставляя свободным только орущий раззявленный ротик и розовые дырки ноздрей.
– Дурное тесто – и хлеб негодный, – поёт Холла, – Его замесить и снова испечь. Женское лоно, женское чрево – горят, словно печка.
Холла, припав к орущему ротику, трижды дует в него.
– Коли возьмёшь дар мой – бери, – рычит она. – Лейхта, слуга моя, отвори лоно Аирбе!
И, прежде чем отдать, кидает на орущий ротик сырое тесто. Лейхта, схватив сложенную в несколько раз тряпку, срывает с котла крышку, В лицо ударяет густой, смолистый пар – дно котла устелено еловыми ветками, которые в сухом жару уже дали смолу. Холла кладёт в котёл ребёнка. Лейхта опускает крышку. Та звенит, наполняя голову пустотой. Лейхта спрашивает:
– Матушка Холла, что ты делаешь?
– Хлеб пеку, – голос Холлы доносится издалека.
– Ну, пеки, только не перепеки, – отвечает лейхта.
Кричит дитя в котле или кровь звенит в ушах?
Слова застревают в горле.
Лейхта снова спрашивает:
– Матушка Холла, зачем ты печёшь хлеб?
– Чужая душа забрела в Холлахейм.
– Откуда же взялась эта душа?
– Брела в утробу, да забрела ко мне. Мне таких не надобно.
– Матушка Холла, где же та чужая душа?
– В утробе Аирбе.
– Ей выйти пора.
– Погоди, пока рано.
И снова рычит что–то, потом приказывает:
– Теперь пора!
Лейхта срывает крышку.
Среди размякших смолистых ветвей, в пелене из припечёного теста лежит нечто – не поймёшь, живое ли, мёртвое?
Холла выхватывает его из утробы котла, склоняется над ним, отлепляет тесто с лица. Миг, который хозяйка Холлахейма молчит, прислушиваясь, кажется вечностью.
Потом Холла переворачивает ребёнка, держа его за ножки, встряхивает и, смачно шлёпнув пару раз выдыхает яростно:
– Ступай прочь отсюда, Геусхейт! Имя твоё – жар живущего, что делать тебе в Холлахейме, доколе этот жар не остыл? Вон твоя дорога!
Холла яростно показала на дверь. Дитя пищит.
– Ночь на дворе, госпожа Холла. Позволь ему остаться у нас.
– Только лишь на ночь, и пусть не ждёт от меня ни еды, не питья! – гневно говорит Холла. – Пусть ляжет на лавке, а ты раздели с ним ложе.
Лейхта кланяется и покорно несёт ребёнка, облепленного горячим тестом, на указанное место. Стягивает с себя рубаху, ложится рядом.
Холла приносит коровий рог с натянутым на него соском от козьего вымени. Лейхта даёт его плачущему малышу, и тот тотчас замолкает, начинает сосать. Холла обессилено плюхается на лавку рядом и тяжело дышит. Потом тяжело встаёт и бредёт к кадке, где была заготовлена вода, зачерпывает ковшом и жадно пьёт. Снова зачерпывает, несёт лейхте.
– Надо же, выжил… – голос Холлы тих и высок. Да ведь это не грозная Владычица Мёртвых. Это гюда, её Гуннель зовут.
– Он теперь будет здоров? – спрашивает Берта.
– Это лишь Куннанам ведомо, – отзывается Гуннель. – Мне приходилось видеть таких, кого это спасло.
Гуннель снимает с себя шубу и остаётся совершенно голой. Её сухпарое тело тоже мокро от пота, длинные груди висят до самых бёдер, и Берте на миг снова кажется, что перед ней владычица Холлахейма.
– Душно, сил нет.
– Терпи. Ночью ещё замёрзнем тут. Но до утра отсюда не моги…
– Да, я понимаю…
– Накрыться–то взяла чем?
– Там всё, над печкой, – отзывается Берта. – Только не сейчас накрываться…
– Не сейчас, – соглашается Гуннель. – Ты ложись, поспи.
– Да я не могу сейчас, – произносит Берта. – Душно…
– Ну, так лежи, его согревай… – Гуннель растягивается на еловых лапах. Берта тоже ложится. Лежать на лапах неудобно, они колются и одуряющее пахнут смертью. Но Гуннель лежит, словно на мягком сене…
Ночью стало холодно. Берта переоделась в сухую рубаху, заготовленную на печке, спеленала младенца – он к её удивлению был жив и мирно спал, даже не проснулся. Потом затопила печку и снова легла. Не заметила, как задремала. Когда проснулась, Гуннель уже не было в бане, малыш всё ещё спал, а с реки доносились голоса – видно, женщины уже не только встали, но пошли за водой. Оставив свою грязную рубаху в бане – всё равно стирать будут тут, она накинула меховую шбку и платок, спрятала ребёнка за пазуху и пошла наверх. Вошла в дом. Ингерид увидев её, вскочила, как ужаленная, бросилась навстречу. Яруна повернулась к вошедшей и сказала удивлённо:
– Никак Берта дитя принесла.
– Принесла, – ответила та без восторга, – Я назвала его Геусхейт. Только на что он мне? Может, вынести его в лес?
– Погоди! Мне надо раба, – взволнованно подскочила Грид, – Продай его мне.
– Кому нужно это добро? – проворчала Берта, – Впрочем, продам за кусок мяса и ковш пива. Я голодна.
Грид схватила со стола приготовленную плату, чуть не расплескав, и помчалась к Берте. Та отдала ребёнка и взяла еду, оставленную от вчерашних поминок. Села к столу, и принялась есть – она и правда не ела со вчерашнего утра.
Грид убежала в свой угол, сгибаясь над вновь обретённым младенцем, но о ней, казалось, все забыли.
Так Геусхейт пришел в этот мир.
Сказка о Гелимере Боговом Любимце.
(Из сборника: «Сказки старой Фридиберты: Фрейсские героические сказки. – Арбс: Изд–во «Детлит», 2986 г.)
Жил в старые времена во Фрейсии крестьянин по имени Гелимер. Был он годами совсем молод – едва отпустил бороду. Отца у него не было, а семья – большая: заботился он о деде с бабкой, матери–вдове и младших братьях и сёстрах.
Для того чтобы прокормить такую семью, Гелимеру приходилось работать не покладая рук. Ещё солнце на небо не взойдёт, а он уже в поле. Солнце уже давно село – а он только домой идёт. То лес чертит, то рубит, то выжигает, то корчует, то пашет, то боронит, то сеет, то косит, то жнёт, то с поля урожай возит, то сушит, то молотит. Всё, что по хозяйству надо, мастерит. Любую работу умел делать.
Из–за того, что трудился много, лицом Гелимер был чёрен, руки имел грубые, одежду – грязную, а спину – сгорбленную. Горбатился, не отдыхая, а богатства не имел – всё уходило на большую семью. Но Гелимер на свою жизнь никогда не жаловался, а продолжал работать по–прежнему. И когда кто–то принимался его жалеть, он только отмахивался и говорил:
– Я самый счастливый, меня Солюс любит!
Ему на то отвечали:
– Что–то не слишком разбогател ты от его милости!
И прозвали в насмешку Гелимером Боговым Любимцем. Называли так и в глаза и за глаза. Но Гелимер на людей не обижался, только посмеивался добродушно.
И вот дожил Гелимер до того возраста, когда на празднике Винтрусбрекк – Переломе Зимы – молодые парни метали жребий, кому в своём доме оставаться, а кому идти в хардусу к Витегесу. Дед говорит Гелимеру:
– Скажись больным, не езди!
Задумался Гелимер: не пойти жребий метать – стыдно, пойти – вдруг выпадет идти к королю Витегесу? Вовсе семью по миру пустишь. Может, и правда, схитрить? Лёг спать, и снится ему сон.
Приходит к нему прекрасная женщина и говорит:
– Послал меня к тебе Солюс. Велел сказать, что хитрецов и бездельников он не любит и от них отворачивается.
Проснулся Гелимер и говорит деду:
– Поеду я. Солюс меня любит – он не даст ни мне, ни вам пропасть от голода.
Поехал – и выпал ему жребий идти к Витегесу. Узнали о том гелимеровы родичи, плачут, и сам Гелимер едва сдерживается. Но раз выпала такая судьба – хуже нет от своего долга прятаться. На последние деньги купил меч и военную рубаху из кожи и железа, а на боевого коня денег не хватило. Ему дед говорит:
– Забирай того, на котором ты пашешь. Брат твой ещё мал, я – стар, а больше никому не справиться!
И вот наутро, как ехать Гелимеру к Витегесу, зарезали дед с бабкой последнюю овцу, чтобы устроить прощальный пир. Только сели за стол – в дверь постучали:
– Пустите переночевать!
Открывают дверь – на пороге молодой воин стоит. Пустили его, за стол посадили, стараются порадовать гостя. Гость тот оказался чужестранцем, Атанарихом Венделлом. Вот дед с бабкой угощают его, стараются быть весёлыми, но заметил чужестранец, что хозяева печальны, стал расспрашивать, и поведали они ему о своей беде.
– Горю этому помочь легко, – отвечает Атанарих, – Я за вашего внука к королю пойду, а Гелимер пусть пашет землю!
На том и порешили.
Только на злые языки разве найдётся уздечка? Стали над Гелимером смеяться:
– В кои–то веки Гелимеру Богову Любимцу Солюс решил помочь – а он из рук своих удачу упустил. Воины Витегеса едят досыта, пьют вволю, носят одежду нарядную, ходят в золоте. А Богов Любимец не захотел, ему лучше на поле горбатиться, в навозе возиться. Одно слово – Богов Любимец.
А другие говорят:
– Верно, Гелимер ростом велик, словно бык, да труслив, словно заяц!
Смеются над Гелимером и мужи, и жены, и парни, и девушки. Невесты – особенно:
– Да хоть самого короля Витегеса послали сватом, а Гелимеру бы отказали!
Одна только не смеялась, Ульрикой её звали. Всем говорила:
– Гелимер – работник лучше прочих. Вырастут его братья, станут ему помогать – увидите, богаче всех заживут. Я бы за него без страха замуж пошла.
Но родители её были против:
– Когда гелимеровы братья в силу войдут – у самого Гелимера борода поседеет. Не бывать тебе женою Богова Любимца. Ты у нас невеста – не другим чета, мы тебя за самого лучшего жениха отдадим.
Гелимер же на все издёвки только посмеивался и ничего не говорил. А на Ульрику посмотрит и вздохнёт. Нравилась ему девушка, да разве решился бы он в свой бедный дом, на большую семью, жену привести?
Так лето прошло, осень наступила. Собрал Гелимер урожай и повёз его Витегесу в хардусу. Привёз, отдал кому следует. А ему и говорят:
– Послушай, Богов Любимец. На Белом холме стоит наша застава. В ней как раз твой побратим Атанарих сейчас с друзьями. Отвези им зерна и мяса.
Гелимер согласился. Велел Витегес дать ему охрану, но воины вспомнили, что тот не захотел в хардусу идти, и погнушались его охранять.
Ничего не сказал Гелимер. Взял под узцы свою лошадь, пошёл до Белого холма на заставу. Идёт. И была его неудача такова, что напали на него хаки. То не большой набег был – а так, несколько воительниц решили по–лёгкому разжиться. Увидели одинокого крестьянина, идущего с гружёным возом, и решили на него напасть.
Но Гелимер был силён и ловок. Схватил он оглоблю, да начал отбиваться. Пятерых убил, остальные убежали. Запряг Гелимер свою лошадь и пошёл дальше. Увидел Атанарих своего названного брата, выбежал ему навстречу.
– Почему ты один идёшь?
– Да было бы далеко идти. Чего зря воинов тревожить?
– А что это у тебя одежда порвана и сам весь в крови?
– Да собака какая–то кинулась, я её оглоблей огрел. Издыхая, кровью облевала.
Не поверил Атанарих, вскочил на коня, поехал по дороге, и увидел убитых хак. Понял, что случилось, обозлился и поскакал в хардусу. Пришёл к Витегесу, говорит:
– Что же ты, рих, моего побратима без охраны послал? Его чуть хаки не зарубили! Ладно хоть, что Гелимер силён и смел – пятерых убил, остальные убежали.
Позвал Витегес тех воинов, которым велел о Гелимере позаботиться, узнал, что они посмеялись над крестьянином. Разгневался, велел им всё богатство, которым они владели, отдать Гелимеру. Кроме того, когда крестьянин вернулся в хардусу, подарил он ему пять взрослых рабов в помощь – по одному за каждого убитого врага.
С того подарка Гелимер разбогател. Перестали над ним смеяться, а невесты стали улыбаться ему, да намекать, чтобы сватов засылал.
Но Гелимер на то внимания не обращал, а послал сватов к Ульрике и женился на ней. По–прежнему работал от темна до темна. Работников своих держал как братьев и ничем не обижал. Сестёр замуж отдал в хорошие семьи. Братьев воспитал трудолюбивыми и честными. О деде с бабкой до самой их смерти заботился. В ответ на похвалы лишь посмеивался да отмахивался.
А люди по–прежнему звали его Гелимер Богов Любимец, но уже без насмешки.
Из статьи Т. Вато. «Женская честь в представлениях фрейсов XV века». //Сборник « VI научно–практическая конференция «Вопросы гендера в хронологическом и географическом аспектах», 11–13 луйгана 3014 года, г. Арбс, Арбский государственный университет»/ под ред. Р. Вульфса и Х. Аухса. Арбс. Типография Арбского государственного университета, 3015 г. С. 40–44.
Обычно, говоря о представленияхо женской чести, не только носители обыденного сознания, литераторы и кинематографисты, но и часть историков экстраполируют на языческие общества представления, сформировавшиеся в более поздний период под влиянием становления классового общества, а также принятой фрейсами веры в Солюса.
Цель работы – уточнить, насколько различались языческие и монотеистические нормы морали в отношении женской чести и достоинства.
Источниками для исследования являются героические сказания фрейсов. Также использовались данные анализа исторического эпоса иннауксов, т.к. он подвергся меньшему влиянию новой религии и привнесённой ею этики. Учитывая, что хозяйственно-культурный тип, уровень развития социальных отношений, ментальность фрейсов и иннауксов имеют значительное сходство, можно предположить, что и в гендерных вопросах имелось значительное сходство.
В сообщении анализируются существующие стеротипы, формирующие обыденное представление о «честной женщине».
…Широко распространено противопоставление жесткого патриархального обычая фрейсов (в зависимости от позиции автора «скромного» или «несвободного» поведения женщины) более вольным обычаям иннауксов. Особое внимание уделяется девственности невесты. Действительно, у принявших веру в Солюса фрейсов невеста, утратившая невинность до вступления в первый брак, решительно осуждалась. Уничижительный термин «порванная», употреблявшийся по отношению к такой девушке, заметно сокращённый обряд свадьбы, возможность в случае, если отсутствие невинности женщины вскрывалось после свадьбы, расторгнуть брак (а в старину – продать женщину в рабство), подозрительное отношение к такой женщине на протяжении всей её жизни – общеизвестные факты. Опозоренной считалась даже та девушка, что утратила невинность в результате насилия.