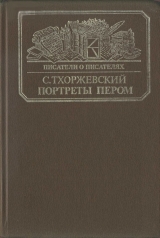
Текст книги "Портреты пером"
Автор книги: Сергей Тхоржевский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 31 страниц)
Камень, который катится, мхом не обрастает, – говорит старая пословица, и она тысячекратно справедлива!
Из письма Виктора Теплякова графине Эдлинг 5 мая 1839 года
В те времена Египет, Сирия, Ливан и Палестина считались частью Оттоманской империи. Но только считались! На самом деле независимым их властителем был наместник султана в Египте Мехмед-Али. Этого человека называли в Европе вице-королем Египта. Он намерен был добиваться признания своей суверенности – и от султана Махмуда, и от европейских держав.
Неспокойно было в Сирии. Оказались достоверными слухи о восстании друзов – многочисленной мусульманской секты. На подавление восстания выступило войско Ибрагима-паши, сына Мехмеда-Али. Ожидалось неминуемое столкновение Ибрагима-паши с войском султана Махмуда на границе Сирии и Турции.
Оказывать поддержку султану считал нужным император Николай. Он чтил монархические принципы и видел в Мехмеде-Али, человеке неясного происхождения, самозванца, посягнувшего на права законного монарха. Николай полагал, что самозванца надо обуздать. Султан же пусть чувствует свою зависимость от поддержки со стороны Российской империи.
Граф Нессельроде сознавал, сколь недостаточны сведения, кои поступают в его министерство через посольство в Константинополе и генеральное консульство в Александрии. События на Ближнем Востоке его все более беспокоили. Какой оборот может принять ожидаемая война? Чью сторону примут сирийские и ливанские шейхи? Выступят ли друзы на стороне султана? Что можно ожидать от арабов-христиан – маронитов? И не будут ли потревожены святые места в Палестине, привлекающие паломников-христиан?
Скудность поступающих сведений объяснялась еще и тем, что на Ближнем Востоке снова появилась чума и порт в Яффе был закрыт.
Нужен был человек, который теперь поехал бы в Ливан и в Сирию. Поехал бы, несмотря на угрозу чумы и войны. Ведь, если ныне разразится война, посланец из России может стать жертвой воинствующих фанатиков – так же, как девять лет назад посланник Грибоедов в Тегеране…
И оказалось – подходящий человек есть. Он сам рвется на Ближний Восток, сам говорил об этом Бутеневу и писал Родофиникину. Пусть едет.
Из почты, полученной посольством в Буюк-Дере, Тепляков узнал новость: министерство решило удовлетворить его желание повидать Египет и Палестину и теперь посылает его курьером в Египет. Собственно, он будет не просто курьером, на него возлагается важная миссия, которая даст ему возможность совершить путешествие по Ливану и Сирии – к святым местам. Потом он сможет свободно располагать своим временем и не спешить с возвращением в Буюк-Дере (где ему, как известно, делать нечего). Он сможет еще совершить, по своему желанию, путешествие по Египту, от Каира вверх по Нилу, до развалин древних Фив или даже дальше.
Если б о таком решении министерства Тепляков узнал три месяца назад, он был бы счастлив, а сейчас он был только смущен. Конечно, отказываться не стал: немыслимо было отказываться, когда сам же просил послать его на Ближний Восток. Но в тот же день, 23 марта по старому стилю, на страницах дневника своего признавался себе, что уже и не жаждет этого трудного путешествия. О желании своем он говорил непроницаемому Бутеневу еще в декабре – «и что ж? – в то самое время, когда я почти отчаялся насчет его исполнения, – записывал он в дневнике, – последняя почта привезла приказание отправить меня курьером в Египет. Время года крайне неблагополучное для подобного странствия; усталость духа и плоти подбивают меня променять Восток на Север…»
Но он взял себя в руки.
Один день был потрачен на дорожные сборы, и уже 25 марта Тепляков поднялся на борт французского парохода «Рамзес». «Оставляю Константинополь без сожаления», – отметил он в дневнике.
Пароход шел сначала в Смирну, затем до острова Сира. Там предстояло пройти уже не пятидневный, а двенадцатидневный карантин, прежде чем разрешено будет перейти на борт другого парохода – до Александрии.
Вот уже «Рамзес» бросил якорь перед Сирой, пассажиров на шлюпках переправили на берег. «Здесь свирепствовали сильные ветры, поднимавшие громадные волны, от которых страдали жалкие прибрежные бараки, обычное прибежище несчастных путешественников», – вспоминал потом Тепляков. Однако на сей раз ему отвели хорошую комнату в доме карантинного начальства. И «двенадцать дней заключения на острове Сира прошли в размышлениях над бесцельностью в этой местности карантина вследствие ежедневных сообщений с соседними островами».
Он послал меланхолическое письмо Титову в Буюк-Дере. Писал, что, возможно, ограничит свою поездку выполнением порученного и не поедет к святым местам, в Иерусалим, поскольку никакие неотложные дела его туда не призывают.
Другое письмо, сразу же по прибытии на Сиру, он отправил в Афины, австрийскому посланнику Прокеш-Остену. И уже перед самым отплытием в Александрию пришел ответ:
«С большим удовольствием получил я письмо, в котором Вы извещаете меня о Вашем намерении, уже готовом исполниться, посетить Египет. Вы прибудете туда в минуту, к несчастью даже слишком интересную; если наши предположения верны – мы накануне нового разрыва [между Мехмедом-Али и султаном]. При подобном возбуждении страстей и таком ходе дела, рано или поздно, кризис неизбежен». Австрийский дипломат писал об уверенности Мехмеда-Али в разладе между европейскими державами и в том, что ему нечего бояться совместных действий держав против него. «Чрезвычайно буду рад получить известие о том, что узнаете достоверно по этому вопросу, – писал Теплякову Прокеш-Остен. – Думаю, также, что увещания русского консула в Александрии очень повлияют на решение вице-короля; он не особенно опасается того вреда, который могут ему нанести морские державы, но должен бояться столкновения с русской армией в Малой Азии или на берегах Босфора».
Ответить на это письмо Тепляков не успел: французский пароход «Леонид» уже стоял на рейде, готовый к отплытию в Александрию.
На другой день записывал в дневнике: «Средиземное море: новый путь, новая страница в книге моего существования».
Еще через день – яркое солнце грело уже по-африкански. Во время обеда послышались крики с палубы: «Земля! Земля!» – и Тепляков выскочил из кают-компании. На горизонте, над синевой моря, белой полосой тянулись дома Александрии на песчаном берегу.
Когда пароход подошел ближе, солнце уже закатывалось, дома на берегу приняли золотистый оттенок, уже различимы были минареты и пальмы. Ночь пароход стоял на рейде среди множества других судов.
Утром 13 апреля (Тепляков и дальше отмечал даты по старому стилю) на арабской лодочке переправился он с парохода на берег.
«Смуглые арабские, турецкие и армянские лица одушевляли набережную такой пестротой и движением, каких я до сих пор не видал на Востоке», – записал он в дневнике. Далее рассказывал: «Нам подвели двух ослов, на которых [вдвоем с проводником, знающим дорогу] и поплелись мы трях-трях, сопровождаемые пешеходными хозяевами этих животных… Лошадей почти нет в Александрии, и ослы служат единым, дешевым и крайне покойным средством сберегать собственные ходули… Мы ехали по узким, нечистым, кривым и немощеным улицам среди выбеленных, с плоскими кровлями землянок, сталкиваясь на каждом шагу с вьючными и водоносными верблюдами и не встречая голодных собак, главной роскоши стамбульских улиц… Вскоре выехали мы на широкую улицу или, лучше сказать, на длинную площадь, которой огромные дома построены почти под одну кровлю и стоили бы по своей красоте местечка даже в нашей невской столице. Большая часть этих палат воздвигнута Ибрагимом-пашой и отдается внаем консулам европейских держав. В одной из них нашел я нашего [консула] графа Медема,который не хотел и слышать о моем помещении в одной из городских гостиниц. С необыкновенной обязательностью послал он своего янычара за моими вещами… Таким образом поселился я в доме консульства и посвятил остаток дня наслаждениям кейфа».
Наутро явился драгоман (переводчик) консульства – сопровождать гостя при обозрении города. Когда вместе вышли из ворот, их окружили владельцы ослов, предлагая смирных этих животных, так сказать, напрокат. Тепляков и драгоман сели верхом на ослов и двинулись неспешно через город по направлению к гавани.
В гавани спустились они к самому берегу, сели в лодку и поплыли к египетскому адмиральскому кораблю. На борту корабля был обозначен № 6 (оказалось, что большинство египетских военных кораблей известно под номерами). Адмиральский корабль поразил блеском и великолепием. «Повсюду шелк и зеркала, полированная медь и красное дерево, резьба и позолота!» – записал Тепляков.
Потом ему разрешили (и весьма охотно разрешили) осмотреть александрийский арсенал. Здесь ему заявили, что в мастерских арсенала вырабатывается все необходимое для египетского флота, и Тепляков выразил свое восхищение размахом работ. Но восхищение сразу в нем погасло, когда он узнал, что из пяти тысяч человек, занятых в мастерских, половина – приговоренные к каторге, причем каторжников используют на самых тяжелых работах.
Самого Мехмеда-Али в эти дни в Александрии не было. Он прибыл 19 апреля, и 21-го Тепляков явился к нему с визитом.
Перейдя мост через широкий ров, прилегающий к каменным стенам с башнями и батареями, он вошел в ворота и увидел обширный двор перед дворцом властителя Египта. Гостю объяснили, что правая сторона дворца занята гаремом, в левой находится приемный зал.
Тепляков поднялся по мраморным ступеням.
В приемном зале окна по правой стороне были обращены во двор, из окон слева открывался вид на море. Вдоль стен стояли стулья красного дерева, обитые голубым штофом. Под голубым куполообразным потолком висела хрустальная люстра. На паркете был разостлан роскошный ковер. На красной софе, среди шитых золотом подушек, сидел седой, слегка сгорбленный старик – сам Мехмед-Али.
Он сказал Теплякову:
– Будьте моим дорогим гостем!
И жестом пригласил сесть рядом на софе.
«Он начал говорить о том, что вполне разделяет мое мнение об александрийском арсенале, – рассказывал потом Тепляков, – и я, конечно, не сомневался, что оно было передано теми, кто давал мне объяснения во время осмотра арсенала».
– Что видели вы еще? – спросил Мехмед-Али.
– Один из ваших военных кораблей.
– Который?
– Номер шестой.
– Как? Ведь вы же не военный!..
Тут принесли кофе. Мехмед-Али возобновил разговор, поинтересовался, какие новости в Константинополе. Тепляков никаких особенных новостей поведать не мог. В разговоре он затронул уже не новый, но еще не разрешенный вопрос о постройке канала через Суэцкий перешеек.
– Все вы за этот канал… – сказал, нахмурясь, Мехмед-Али. – Но я лучше, чем вы, знаю Египет и предпочту прорезать этот перешеек железной дорогой.
Аудиенция была окончена. Прощаясь, Тепляков сказал властителю Египта, что надеется на его высокое покровительство в своей предстоящей поездке по стране.
– Поезжайте с миром, – ответил Мехмед-Али.
Министр общественных работ Мухтар-бей отправлялся из Александрии в Ливан, и Мехмед-Али прислал Теплякову буюрлды(пропуск), предлагая отправиться на военном корабле вместе с Мухтар-беем.
Все складывалось как нельзя лучше. 25 апреля корабль отплыл в Бейрут.
Тепляков рассказывал потом, что Мухтар-бей, «земляк Мехмеда-Али» (вице-король был родом албанец из Македонии) и «один из тех молодых людей, которых вице-король своими заботами воспитал в Европе», во время пятидневного пути часто беседовал с ним, Тепляковым, о современном положении Египта и старался убедить его в могуществе Мехмеда-Али. Однажды спросил:
– Как вы думаете, в Константинополе сильно боятся?
– Чего?
– Конечно, войны. В нынешнем году она вряд ли возможна, но в будущем, по-моему, неминуема.
– Бог знает… – ответил Тепляков.
– Скажите, – продолжал Мухтар-бей, – отчего державы не желают признавать то право, которое существует?.. Известно ли вам, что в нашей армии теперь до двухсот тысяч солдат, включая в это число новообразованные сирийские полки? Да и где найти великого человека, который мог бы сравниться с Мехмедом-Али?
Не знаем, что отвечал Тепляков. Возможно, он и не нашел того дипломатического ответа, который следовало произнести в подобной ситуации.
По прибытии в Бейрут оказалось, что чума из Яффы уже проникла сюда. Пришлось опять застревать в карантине, устроенном возле моря, на мысу, в двух верстах от города.
Тепляков рассказывал потом, что и здесь, в Бейруте, «санитарные меры, казалось, были заимствованы с убеждением в их полной бесполезности. Так, например, лазарет был переполнен чумными из Яффы, что не мешало, однако, карантинной страже сноситься с зачумленными». Он написал Медему в Александрию о нелепых порядках в бейрутском карантине: «Здесь мог бы я умереть со смеху, если б не было ежеминутного риска сгинуть по совершенно иным причинам». Отправил он также письма графине Эдлинг в Одессу и Титову в Буюк-Дере.
Еще не выходя из карантина, он пытался узнать что-либо о действиях армии Ибрагима-паши против мятежных друзов. Узнал немногое: «Со времени отъезда из Алеппо [города на севере Сирии] Ибрагима-паши, который отправился с отрядом войска для соединения с Сулейманом-пашою, чтобы разработать вместе с ним план общего нападения на мятежников гауранских, не получено никаких официальных известий о действиях египетской армии. Ибрагим-паша пытался засыпать все близкие к Гаурану колодцы, доставляющие горцам пресную воду, но друзы почти тотчас их отрыли, отбивши без особенного затруднения несколько вооруженных отрядов».
К Сулейману-паше Тепляков имел при себе, на всякий случай, рекомендательное письмо. Русское консульство в Александрии рекомендовало его как атташе константинопольской миссии, который намерен путешествовать по Сирии и Палестине.
Администрация Мехмеда-Али повсюду состояла почти сплошь из турок, вражда его к султану не имела национальной окраски, и независимости он добивался не для арабов, а для себя и своих сыновей…
Так что турецкий язык оставался языком администрации на всем Ближнем Востоке. Тепляков по-турецки говорил с трудом и сознавал к тому же, что одним турецким языком в его путешествии не обойтись. Когда окончился положенный срок карантина, первым делом он нанял слугу, который мог быть для него переводчиком – с турецкого на арабский. Здесь не было возможности найти слугу, владеющего одним из европейских языков.
Наконец утром 19 мая все было готово к отъезду, нанятые лошади оседланы, мулы навьючены. Тепляков подошел к своему коню, поставил ногу в веревочное стремя, вскочил в седло, взял в руки заменявшую поводья веревку. Ну, с богом!
Проехали через Бейрут, по улицам, зажатым меж высоких каменных оград. За оградами скрывались сады и дворики домов с плоскими кровлями.
Из Бейрута двинулись на север, вдоль гористого берега моря. Природа кругом была упоительной: море сверкало на солнце, тихо шумели под ветром сады, шелковичные рощи.
Утром 22 мая въехали в приморский город Триполи. Тепляков отыскал там французского вице-консула, и тот рассказал, что мятежников в горах не более семи тысяч, что население недовольно рекрутским набором, который весьма круто проводится Ибрагимом-пашой, и что в Алеппо (уже вблизи турецкой границы) двадцать пять человек были обезглавлены за распространение ложных слухов о смерти Мехмеда-Али.
У Теплякова было при себе рекомендательное письмо от Медема, написанное по-итальянски, на случай возможного проезда через Алеппо, и адресованное одному итальянцу, который исполнял обязанности русского консульского агента в этом городе. Но Тепляков решил, что в Алеппо ему делать нечего, и повернул из Триполи в горы, к Дамаску, на юго-восток.

Пришлось подниматься по тропам все выше и выше, среди камней и ревущих потоков. Облака уже клубились ниже по склонам, а вдали белели, снежные вершины Ливанского хребта. После шести часов трудного пути прибыли в селение Эгадин. Теплякова провели к местному маронитскому шейху. Оказалось, что старший сын шейха отлично владеет итальянским языком, а так как Тепляков говорил по-итальянски свободнее, нежели по-турецки, объясниться удалось без труда.
Ему рассказывали, что Ибрагим-паша заставил маронитов разоружиться и разрешил их эмиру Беширу иметь только четыреста человек гвардии. «Уверяют, впрочем, – записал Тепляков в дневнике, – что горцы прячут большую часть своего лучшего оружия и в случае надобности могут вооружиться как прежде… В случае кризиса марониты не захотят больше ни паши [Мехмеда-Али], ни султана». Как выяснялось, эмир Бешир сам повелел маронитским шейхам спрятать оружие.
Дальше в путь! «Мы добрались, – рассказывает Тепляков, – до вечно-снежных вершин Джебель-Саннина, который возвышается над всем Ливанским хребтом. Достигнув такой высоты, нам оставалось одно, как и в человеческой жизни, – спускаться вниз».
Спустились в Баальбекскую долину, где Тепляков задержался на два дня – осматривал грандиозные развалины древнего города Баальбека рядом с бедным селением того же названия, окруженным зарослями орешника.
Ближе к Дамаску, сирийской столице, открывался истинный рай земной – утопающая в садах долина. «Везде калитки в сады, как в России Звонки стад, ропот ручьев…»
И вот окруженный стеной Дамаск. Въехали в ворота, по узким улицам и переулкам добрались до францисканского монастыря. Здесь русскому путешественнику отвели комнату, предоставили постель.
На другой день он бродил по базарам, обедал у английского консула, ужинал у французского, узнавал дамасские новости. Сирийский генерал-губернатор оказался в отъезде. «Власть сирийского генерал-губернатора, – записал Тепляков, – ограничивается лишь гражданскими делами; военное управление страной сосредоточено в руках Ибрагима-паши».
Задерживаться в Дамаске не имело смысла. Пора было расстаться с нанятым в Бейруте слугой, отпустить его вместе с лошадьми… Так что слугу и лошадей надо было нанимать заново. Слуга, он же драгоман, то есть переводчик, нашелся, лошадей для выезда из Дамаска нанять не удалось. Тепляков нанял трех мулов.
И снова в путь – через горы на запад, в маронитскую столицу Деир-эль-Камар. «Все вверх и вверх по карнизу гор над Баальбекской равниной, опять утесы и с них водопады… Холодный и порывистый ветер…»
Деир-эль-Камар. Высоко на горе – выстроенный в мавританском стиле дворец эмира Бешира. Рядом, на склоне другой горы, – многочисленные хижины, шелковичные и оливковые деревья. «Все это дико и прекрасно», – отмечал Тепляков.
Вместе с драгоманом своим и одним местным жителем (вызвался быть проводником) он поднялся на гору, к сводчатым воротам дворца.
Его просьбу об аудиенции передали эмиру, и тот дал свое соизволение.
Втроем прошли несколько внутренних дворов, где увидели дворцовую стражу. «Спешившись, стояли эти стражники рядом со своими лошадьми, верблюдами, мулами и ослами, – рассказывает Тепляков. – Затем я проходил дворы с артезианскими колодцами и аллеями апельсиновых и лимонных деревьев. Далее – длинные галереи с арками и мавританскими колоннами. Наконец, я вошел в зал».
На полу, на подушках, сидел седобородый и голубоглазый эмир Бешир. Всем предложено было сесть, принесли трубки и кофе.
Эмир интересовался целью путешествия Теплякова. Восхвалял красоту Ливана и целебность горного воздуха. Никакой откровенности в разговоре эмир себе не позволил, «речь его отличалась тоном серьезной осторожности», как отметил Тепляков. Отметил он и патриархальные нравы при дворе: «…во время моей аудиенции у эмира простые друзы и марониты без церемоний входили в приемный зал. Одетые в длинные хитоны и сандалии, они спокойно подходили к своему властителю и почтительно целовали бахрому подушки, на которой сидел Бешир. Затем рассаживались и пили кофе, который им тотчас разносила дворцовая прислуга».
В разговоре эмир, между прочим, упомянул о странном образе жизни старой английской аристократки леди Стэнхоуп, уже много лет одиноко живущей неподалеку отсюда и совсем близко к морю, в Джуне, – она не принимает у себя приезжих и путешественников.
Переночевав в Деир-эль-Камаре, Тепляков направился в Джун.
Дорога в Джун ведет среди скал, где, по словам Теплякова, «испуганный мул со страхом двигается по гигантским глыбам». Вечером 6 июня подъехали к джунским холмам. На одном из них раскинулось бедное друзское селение, на другом жила в доме, похожем на замок, леди Эстер Стэнхоуп. Ее жизнь в уединении, как психологическая загадка, весьма заинтересовала Теплякова.
На листке бумаги он написал леди Стэнхоуп, что хотел бы ее видеть «единственно по влечению сердца и без всякого права на внимание». Вручил записку мальчику-друзу и попросил передать.
Посланец вернулся с приглашением. В вечернем сумраке Тепляков и его драгоман поднялись к дому. «Около дома леди, – рассказывал потом Тепляков в письме к брату, – мы были встречены лаем собак и толпою слуг чалмоносных. Комната для меня была отведена особая [во флигеле]… Тотчас были поданы кофе, лимонад и трубки. Утомленный от пути, я несколько вздремнул и был разбужен посланным от леди Стэнгоп [Стэнхоуп] с приглашением явиться к ней». Встал и прошел по аллеям сада, вдыхая дивный запах цветов и лимонных деревьев. Справа, за темными высотами, открывалось море…
В доме он миновал, следом за своим проводником, две тускло освещенные комнаты. Затем проводник постучал и, услышав разрешение войти, отворил дверь. Тепляков увидел в глубине комнаты, на диване, живой скелет в белом, едва освещенный двумя желтыми восковыми свечами – они были поставлены на окно и загорожены ширмами. «Этот скелет, эта беззубая и безумная старуха и была знаменитая Стэнгоп, – рассказывал Тепляков в письме к брату. – Разговор начала она, спросив меня, нравится ли мне Сирия? Далее она жаловалась на глупость и безнравственность арабов, а потом перешла к России, которую сравнивала с юным ребенком, чувствующим потребность обратить на что бы то ни было избыток сил. Говорила разные нелепости об императоре Николае Павловиче, об его одежде, о влиянии на него какой-то графини Зубовой, о гениальности великого князя Михаила Павловича и о многом другом. Разговор наш перешел затем на политику и литературу, причем леди сказала, что лично она презирает и политику и книги, которые уже не читает 30 лет, несмотря на то, что у нее в библиотеке до 6000 томов, что она ненавидит Веллингтона и обожает Наполеона, Байрона и поэзию. Рассказывала о блестящем положении Сирии во времена турецкого правления, об уважении, которое она питает к султану Махмуду, и о презрении своем к Мехмеду-Али». Оказалось, леди верит в астрологию: вдруг она заявила гостю, что его звезда – «рядом со звездами тех, которые заставляют ее содрогаться от ужаса…»
Он пожалел о погубленном вечере, распрощался и с облегчением вернулся во флигель, в отведенную ему комнату.
«Едва я лег на свою постель, на коей надеялся провести спокойно ночь, – рассказывает он, – как был атакован не арабами, про которых мне леди Стэнгоп наговорила всякие страсти, а старыми моими знакомыми постоялых дворов России [то есть блохами], благодаря коим я провел бессонную ночь, но зато любовался рогами луны и ясными звездами над Ливаном».
Конечно, он ясно чувствовал: нет, не стоит приезжать в Ливан ради того, чтобы здесь бесполезно доживать свой век, не занимаясь ничем, в изоляции, взаперти, как эта самоуверенная старуха. Чтобы что-то здесь понимать, постигать, нельзя замыкаться в четырех стенах, надо смотреть во все глаза…
Из Джуна отправился в близлежащий порт Сайду, где отпустил драгомана с мулами; далее – по морю, на арабском суденышке, до Акра – города, совершенно разрушенного пушками Ибрагима-паши. Здесь Тепляков записал: «Прислушиваясь к молве народной, нельзя не убояться, что египетским правительством довольны в Сирии только его нахлебники. Налоги упятерены. Вольный сирийский народ превращается всеми силами в египетских автоматов. Насилия при военных проскрипциях довершают неудовольствие жителей».
В Акре с трудом достал мулов и нанял слугу-драгомана, как выяснилось очень скоро – пьяницу. И переводчиком он оказался никудышным, но лучшего не удалось найти…
Двинулись на юг, вдоль моря, к Хайфе и дальше, по долине, вдоль желтеющих нив и пустынных гор, в глубокой тишине, нарушаемой лишь изредка звяканьем колокольцев бредущего навстречу каравана верблюдов. «Иногда живописная фигура конного бедуина в полосатом плаще, иногда стадо, скрывавшееся от непрерывного зноя в тень сросшихся друг с другом смоковниц, иногда бедная деревенька у подошвы горы».
Уже Палестина! Тут, по дороге, все время приходили ему на память страницы из Евангелия и Библии, потому что светлый городок (амфитеатр белых домиков и зеленых садов) назывался Назарет, а тихое селение с коровами у придорожного колодца – Кана Галилейская…
За Эмайскими высотами открылось синее Тивериадское озеро в оправе желто-красных гор. Тепляков и его драгоман подъехали к воротам городка Тивериады. Спящий у ворот стражник проснулся только для того, чтобы поздороваться, и снова задремал.
Городок был разрушен землетрясением, жители ютились в жалких каменных норах, и Тепляков предпочел расположиться биваком поодаль – на берегу озера. Здесь он купался и безмятежно отдыхал. Вечером уснул под пологом. Ночью проснулся – полог сорвало ветром, и над головой было только звездное небо…
Яркое солнце заставило его открыть глаза уже в половине шестого утра. Куда направиться сегодня?.. Он знал, что Тивериадское озеро лежит на пути реки Иордан: она впадает в озеро с севера и вытекает с южной стороны. Сел на своего длинноухого мула и поехал на северную сторону. Часа через полтора увидел впадающий в озеро темно-бирюзовый поток: «Вокруг все мертво, желто и сожжено солнцем, только иорданский поток опушен свежей зеленью». И, конечно, Тепляков искупался в быстрых водах иорданских.
Он вернулся в Тивериаду и отсюда двинулся к югу, до Иерусалима оставалось три дня пути. Ночевал уже везде под открытым небом. Вечером 18 июня по старому стилю увидел впереди, за оливковой рощей, зубчатые каменные стены – Иерусалим!
Потом наскоро записал в дневнике: «Запертые ворота. Долгие переговоры о въезде. Театральное появление офицера в голой саблей и стража с ружьями. Въезд в Иерусалим. Узкие каменные улицы».
Остановился он в греческом православном монастыре, где обычно принимали русских паломников к святым местам.
Рядом с монастырем высился храм Гроба Господня, воздвигнутый, по преданию, на том самом месте, где был распят на кресте Иисус Христос, – на горе Голгофе. Собственно, горы никакой не было – лишь бугор в две сажени высотой, и трудно сказать, всегда ли он был столь же невысок или был частично срыт при сооружении храма.
Так или иначе, верующего человека, каким был Виктор Тепляков, слово Голгофахватало за душу. 20 июня он рассказывал в письме к брату: «Вчера упал я в прах перед гробом Христовым, ничего не прося у Вседержителя, но умоляя оживотворить мою душу, пораженную странною скорбию. Здесь располагаю пробыть дней двенадцать, потом думаю нанять дромадеров в Геброне… Оттуда через бедуинскую пустыню всего семь или восемь дней до Каира – путь не совсем благонадежный, но иного невозможно избрать. Чума, холера и война разгуливают теперь на просторе по Сирии и Египту».
Патриарший наместник в Иерусалиме, греческий архиепископ Кирилл, передал Теплякову полученные на его имя письма из Александрии. В их числе оказался пересланный консульством ответ Титова на письмо из Сиры, в котором Тепляков сообщал, что, возможно, в Иерусалим не поедет. По этому поводу Титов высказывал соображения, ныне уже запоздалые: «…позвольте заметить с привычною нам откровенностью, что быть в соседстве Сирии и не видеть Иерусалима – то же, что быть в Риме и не видеть папы, и если воротитесь без титла хаджи Тепляков или хаджи Виктор, то просто же будет позор и поношение [по-турецки „хаджи“ – почетное прозвище тех, кто совершил паломничество к святым местам]… Копия с официального письма Вашего отправлена при перпендикулярном послании к Ельчи-бею [то есть Бутеневу: по-турецки „элчи“ означает „посланник“]. Самого же Ельчи мы ожидаем сюда около июля».
Сейчас Тепляков отправил новое письмо Титову в Буюк-Дере: «Вообще путешествие совершено по плану, который я сообщил Вам из Бейрута. Само собой разумеется, что на этот раз я не могу входить ни в какие подробности».
Архиепископ Кирилл дал ему проводника – серба, говорившего по-русски и по-гречески, предоставил монастырских лошадей. Вместе с проводником Тепляков объехал вокруг городских стен.
Вот они, иерусалимские святыни. Представить только: эти восемь оливковых деревьев, обложенных камнями, – то, что осталось от Гефсиманского сада, того самого, где Иуда в ночь своего предательства облобызал Христа. Позади этого сада – огражденное камнями место, где Христа, обливаясь кровавым потом, произнес: «Отче, да минет меня чаша сия!» Вот здесь, как утверждают, отпечатался на мраморе след босой ноги Христа, над ним воздвигнута часовня.
Оказалось, что из-за этой часовни существует давняя тяжба между греческой и армянской церквами. По этому поводу архиепископ Кирилл составил особое послание Медему. Попросил Теплякова взять это послание с собой и Медему передать.
Вместе с архиепископом съездил Тепляков в близкий Вифлеем – к церкви над пещерой, где, по преданию, родился Иисус. Тепляков записал в дневнике, что в пещере этой «лампы проливают таинственный свет посреди ее торжественного сумрака».
В церкви святого Георгия бросился ему в глаза портрет черного монаха с раскрытой книгой в руках. На страницах книги написано было:
Употреби труд,
Храни мерность:
Богат будешь.
Воздержно пий,
Мало яждь:
Здрав будешь.
Твори благо,
Бегай злаго:
Спасен будешь.
Эти слова Тепляков переписал в свой дневник.
Величайшая любознательность руководила им здесь, как и везде, – не только религиозное чувство. Поэтому он посетил мусселима, правителя города, и получил желанное дозволение осмотреть главную иерусалимскую мечеть Эль-Акса́ Джами́.
Записал в дневнике 28 июня: «Из Иерусалима в 8 ч. утра уехал к Мертвому морю. Монастырь навязал мне 3 проводников, да мусселим прислал 4 бедуинов и 2 кавалерийских солдат с их начальником».
В знойном воздухе над Мертвым морем висела дымка. «Я разделся, – рассказывает Тепляков, – и вошел в воду, которая как будто согретая и отвратительна пуще не знаю чего. Я повторил опыт, точно ли человеческое тело может носиться на поверхности, и, растянувшись на спине, лежал будто в колыбели». Отсюда он и его спутники поехали на северо-восток, к Иордану, где искупались уже в свежей и пресной воде. На обратном пути заночевали в Иерихоне – в палатках под деревьями, при свете луны и костров.








