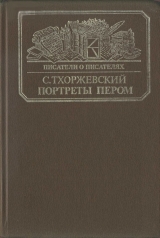
Текст книги "Портреты пером"
Автор книги: Сергей Тхоржевский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 31 страниц)
В одном семейном доме в Москве он увидел поразительный женский портрет (это был портрет Лопухиной работы Боровиковского). Полонский восхищался им и попросил владелицу прислать ему в Петербург фотографический снимок с этой картины.
Фотография была прислана в письме. В ответ он послал стихотворение «К портрету»:
Она давно прошла, и нет уже тех глаз,
И той улыбки нет, что молча выражали
Страданье – тень любви, и мысли – тень печали.
Но красоту ее Боровиковский спас.
Так часть души ее от нас не улетела,
И будет этот взгляд и эта прелесть тела
К ней равнодушное потомство привлекать,
Уча его любить, страдать, прощать, молчать.
Так написал Полонский о портрете и, в то же время, о собственных чувствах. Ведь и его страданье было тенью давней любви, и его мысли – тенью живой печали.
В августе 1886 года он вспоминал на страницах своего дневника:
«Лев Пушкин не раз пророчил мне славу на поэтическом поприще, – даже подарил мне портфель своего покойного брата Александра. Портфель этот был со мной в Тифлисе и куда-то девался – не могу себе представить! Неужели я его кому-нибудь отдал! Впрочем, все может быть – мое тогдашнее равнодушие к вещам, от кого бы они ни были, было феноменальное, я же очень порядочный растеряха…
А недавно, год тому назад, раз зашла ко мне очень пожилая дама, бедно одетая, и, напомнив мне, что она Пушкина (так как я не узнал ее), стала просить меня достать ей место переводчицы для какого-нибудь журнала, так как она очень нуждается в деньгах… Мне было очень жаль жены Льва Сергеевича, но что я мог для нее сделать? Переводчиц – видимо-невидимо (особенно переводчиц с французского языка)».
Яков Петрович становился еще более рассеянным, чем прежде. После того как он неоднократно выходил на улицу, забыв сменить домашний халат на пальто, Жозефина Антоновна решила вообще заменить ему халат легким пальто.
Рассеянность его становилась предметом постоянных шуток в кругу знакомых, о ней рассказывали анекдоты. Григорович однажды пошутил: «Вчера Яков Петрович, ложась спать, положил костыль в постель, а сам стал в угол и прислонился».
С осени 1883 года Полонские жили в доме на углу Знаменской и Бассейной, где занимали угловую квартиру на пятом этаже. Окна кабинета Якова Петровича выходили на солнечную сторону, на Бассейную.
По-прежнему раз в неделю он ездил на извозчике в комитет иностранной цензуры.
Цензор Мардарьев впоследствии вспоминал: «Появление Якова Петровича в комитете обыкновенно привлекало к себе всеобщее внимание. Несмотря на отдаленность нашего отделения от швейцарской, мы уже слышали мощный голос Якова Петровича, когда он только еще снимал с себя пальто или шубу и беседовал с курьером Павлом. Затем с шумом раскрывалась дверь, и Яков Петрович, постукивая костылем, басил: „Здравствуйте, господа“, – и на ходу уже рассказывал что-нибудь, нарушая тишину и спокойствие, царившие обычно в комитете».
По другим воспоминаниям, на заседаниях комитета «Яков Петрович скучал, и его сослуживцы, пользуясь его привычкою постоянно чертить и рисовать, зачастую подкладывали ему листы с чернильными пятнами, которые Яков Петрович зарисовывал, вводя эти пятна в общий рисунок».
«В качестве цензора, – вспоминает Мардарьев, – Яков Петрович был большим сторонником свободы обращения в русском обществе произведений иностранной литературы».
Полонский писал в дневнике: «…высшие сферы считают меня либералом, чуть не красным, а господа литераторы и журналисты – слугою правительства, потому что я ношу ненавистное имя цензора, хотя я в 100 раз менее строгий цензор, чем эти самые редакторы и издатели, – и то, что пропускается мною в иностранных книгах, они сами будут вычеркивать из боязни предостережений или просто из личных соображений».
Пятьдесят лет назад было напечатано стихотвореньице юного Полонского, тогда еще гимназиста, напечатано без его ведома, и сам он об этих стишках давно забыл, но друзья решили, что пора отмечать юбилей.
Главное, в последние два года вышло собрание сочинений Полонского в десяти томах, да еще новый роман «Проигранная молодость». В декабре 1886 года Полонский был избран членом-корреспондентом Академии наук.
Подготовку юбилея возглавил Майков.
За месяц до намеченного юбилея Полонский прислал ему письмо:
«Я давно знаю, что вы готовите мне какое-то торжество по случаю моего полувекового союза с Музой. Сначала новость эта меня озадачила. И не верилось, и… начинало льстить моему самолюбию (у кого его нет, этого самолюбия!), но теперь, чем больше я об этом думаю, тем все тяжелее и тяжелее у меня на душе.
Бывают минуты, когда – так бы, кажется, и убежал.
Сам посуди, разве это не чистейшая случайность, что какое-то мое стихотворение попало куда-то в печать несколькими годами раньше, чем твое или Фета? Да и в чем заслуга, что я живу седьмой десяток и пережил таких поэтов, как Мей, Щербина и Тютчев! Это милость божия, а не заслуга.
Но не одно это меня тревожит и беспокоит.
Всякое юбилейное торжество есть уже овация. И благо тому, кто с юных лет привык к венкам и восторгам… Но оглянись на мое прошлое… и ты не увидишь ничего подобного. Ни оваций, ни денег. Если бы не служба, я бы и существовать не мог…
До сих пор юбилей мой казался мне чем-то совершенно от меня не зависящим – чем-то роковым. Но на днях я прочел в газетах отказ Боткина [известного врача] от затеваемого для него юбилея… А! подумал, значит, это возможно – печатно поблагодарить вас за лестное для меня намерение и хлопоты и от юбилея отказаться.
А что, если отказ мой покажется вам обидным или вы примете его за симптом своего рода самолюбия!
Без твоего дружеского совета я ни на что не решаюсь».
Но Майков решительно отвел его попытку отказаться от юбилея. На 10 апреля было назначено торжество.
Давно привыкнув ложиться спать под утро и вставать поздно, Яков Петрович и в день своего юбилея проспал до одиннадцати. Его разбудил звонок у дверей – явилась депутация от Академии наук. Яков Петрович даже не успел одеться, вышел в пальто, заменявшем ему халат, и в домашних туфлях.
На шесть вечера был назначен обед в зале Благородного собрания и приглашено более ста пятидесяти гостей.
«В шестом часу, – рассказывает Полонский, – посадили меня, раба божьего, в карету и повезли – яко жертву на заклание. Пока везли меня, мне все казалось, что я жених и везут меня в церковь венчать с какою-то особой женского пола, о которой я не имею ни малейшего понятия, – и мне было жутко».
В зале Благородного собрания посадили его за столом между министром финансов Вышнеградским и композитором Рубинштейном.
Началось торжественное чтение множества поздравительных адресов, писем и телеграмм. Громко прочел юбилейные стихи Майков.
В числе прочих выступил знаменитый датский критик Брандес, который как раз тогда оказался в Петербурге и был приглашен. Поскольку знаменитый критик русским языком не владел и Полонского не читал, он произнес речь свою по-французски, говорил о дружбе Полонского с Тургеневым и о русском искусстве вообще.
И предложил тост за уважаемого юбиляра.
Григорович по болезни отсутствовал, и на другой день Полонский рассказывал ему в письме:
«Поверь мне, что слушать публичную похвалу то же, что слушать брань. На брань можно вспылить, ответить такой же бранью, показать кулак, вызвать на дуэль… а что ты будешь отвечать, когда в глаза тебе говорят, что ты такой, сякой, немазаный! Юбилеи тогда только хороши и естественны, когда они подготовлены целым рядом блистательных успехов… Переход же из одной крайности в другую всегда кажется сомнительным – чем-то случайным и скоропреходящим».
Из всего, что вслух читалось на юбилейном торжестве, самым отрадным оказалось для Полонского чтение стихов Минаева (автора не было в Петербурге, стихи он прислал в письме). Минаев обращался к юбиляру с такими словами:
Твоя задумчивая муза,
Поэта нежная сестра,
Не знала темного союза
С врагами света и добра.
К призывам буйного их пира
Глуха, шла гордо за тобой
И не была у сильных мира
Ни приживалкой, ни рабой.
Вот это было признание. Тот самый Минаев, который некогда высмеивал его печатно и пародировал…
В конце обеда Полонский уклонился от ответной речи. Как сообщала потом «Петербургская газета», «отклоняя от себя приписываемые ему заслуги, он предложил тост за процветание искусства и литературы в России».
К концу вечера Яков Петрович чувствовал себя совершенно разбитым и около двенадцати, когда начались танцы, уехал домой.
«Вчерашнее юбилейное торжество, – писал он Григоровичу, – конечно, далеко не все отличалось своей благовоспитанностью. Многие нализались…»
После юбилея поэта известили, что его желает видеть царь. 22 апреля Полонский приехал в Гатчину, во дворец, где в то время пребывал Александр III.
В дневнике Полонский записал: «Он поздравил меня с юбилеем. Я поблагодарил его. Он спросил меня, часто ли посещает меня вдохновение, и вспомнил слова А. Н. Майкова. Спрашивал, был ли я на юге, даже – где буду жить летом. Все, что я собирался сказать ему, – ничего не сказал».
Знакомый Полонскому литератор Иероним Ясинский впоследствии рассказывал этот эпизод иначе. Но, должно быть, не сам выдумал, а записал со слов Полонского.
«Когда был его юбилей, – пишет Ясинский, – царь пожелал видеть его. В назначенный день напялил он генеральский мундир и отправился представляться. Был он не один, с несколькими такими же счастливцами. Их выстроил церемониймейстер, и вышел царь, прямо направившись к Полонскому, обращавшему на себя внимание высоким ростом и костылем.
– Позвольте узнать вашу фамилию? – спросил царь.
Полонский растерялся и забыл свою фамилию…
– Это известный поэт, ваше величество, Яков Петрович Полонский! – доложил церемониймейстер.
Царь милостиво улыбнулся.
– Очень приятно, с детства знаю вас. Не окажете ли честь мне и моему семейству позавтракать с нами?
С придворной точки зрения это была неслыханная милость. Полонский, однако, ответил:
– Нет, покорно благодарю, ваше величество, я только что позавтракал, а дважды обременять желудок не имею привычки.
– Ну, как вам угодно, – отвечал царь.
– Экая ты телятина, – сказал ему Аполлон Майков, когда узнал об этом ответе царю».
Нет, не таким уж простодушным был Яков Петрович.
Завтрак вместе с царем не мог его прельщать уже потому, что действия царского правительства его далеко не восхищали.
В сентябре 1887 года он записывал в дневнике: «…какие идеалы, какие предчувствия или какие надежды дает нам хотя бы пресловутый циркуляр министра Делянова…» Этот министр народного просвещения издал циркуляр об ограничении приема детей «из недостаточных классов населения» в средние учебные заведения. Каким надо было быть мракобесом, чтобы издать такой циркуляр! «Я даже не мог опомниться, когда прочел его, – писал Полонский, – это не только воплощение глупости, но и чего-то подлого до гадости, до омерзения».
И, по всей видимости, еще в начале того же года написал он такое стихотворение, оставшееся ненапечатанным:
А! вот и месяц вышел и глядит —
И белым заревом на наши кровли светит.
Я не спрошу его – и он мне не ответит:
Что станется с Землей? Какой бы страшный вид
Вдруг приняла она, когда б, законы тяготенья
Нарушив, спутник наш земной
Пошел бродить, как привиденье,
Без о́рбиты в пучине мировой!
Но нет, такого нарушенья
В природе и не может быть —
Такого произвола у природы.
Где ж произвол? Где может он царить?
Лишь в той стране, где разуму свободы
Не верят, как мечте пустой.
«В литературе все такая же тишь да гладь, да божья благодать, – писал он Григоровичу. – Самое лучшее в этой пустыне – это, разумеется, посвященные тебе рассказы Чехова. Буду хлопотать, чтоб ему дали за них Пушкинскую премию».
Полонский сам послал письмо молодому Чехову, восхищенно отозвался о его рассказах и написал, что хотел бы посвятить ему свое новое стихотворение «У двери».
Чехов отвечал:
«Несколько дней, многоуважаемый Яков Петрович, я придумывал, как бы получше ответить на Ваше письмо, но ничего путного и достойного не придумал и пришел к заключению, что на такие хорошие и дорогие письма, как Ваше, я еще не умею отвечать. Оно было для меня неожиданным новогодним подарком…
Мне стыдно, что не я первый написал Вам…
На Ваше желание посвятить мне стихотворение я могу ответить только поклоном и просьбой – позволить мне посвятить Вам в будущем ту мою повесть, которую я напишу с особенною любовью».
Чехов посвятил Полонскому рассказ «Счастье».
В декабре 1887 года в Петербург приезжал Фет. К Полонскому он не зашел, и огорченный Яков Петрович написал такое стихотворное письмо Страхову:
Гранит и небеса и все в туман одето.
По улицам в толпе брожу я одинок.
Не греет даже слух, что здесь недавно где-то
Мелькал в морозной мгле румяный образ Фета,
Я этого певца нигде поймать не мог.
Кой черт – почем я знал, что случай или поток
Житейских волн, его пригнав, угонит снова,
Что он, как музами взлелеянный цветок,
Уронит здесь один отпавший лепесток,
А для меня, злодей, не выронит ни слова.
Страхов Полонскому все объяснил.
Давным-давно, еще в 1874 году, Полонский в письме Тургеневу передал слух, что, по словам Фета, он, Тургенев, говорил с какими-то юношами и «старался заразить их жаждой идти в Сибирь» – иначе говоря, настраивал на революционный лад. Тургенев процитировал письмо Полонского в письме к Фету и написал: «…полагаю лучшим прекратить наши отношения, которые уже и так, по разности наших воззрений, не имеют raison d’etre [разумного основания]».
Полонский не знал, что его сообщение послужило поводом (не причиной – причина была глубже) для разрыва между Тургеневым и Фетом. И содержание своего злополучного письма он забыл: «Хоть убей, не помню, что такое мог я Тургеневу о тебе писать! – уверял он теперь Фета. – А если не помню, то и не могу оправдываться, – никто не без греха. Почем я знаю, может быть, я и передал ему какую-нибудь литературную сплетню, которой я не придавал никакого значения».
Но Фет и сам рад был дружеские отношения восстановить.
«Собираюсь на недельку в Киев, – сообщал ему Полонский. – Сильно хочется мне хоть под старость посмотреть на Днепр». В Киев его приглашал Адриан Андреевич Штакеншнейдер.
Только что Полонский получил за долголетнюю службу «звезду» – орден Станислава 1-й степени: «Есть же на свете люди, которые думали, что они меня таким сюрпризом обрадуют… Эх, ну что бы этим великим мира сего, которые мне звезду прислали (за которую придется платить), наградить бы меня даровым билетом в Киев и обратно».
Фет пригласил Полонского заехать по дороге – хоть на день или два – к нему в имение. Находилось оно в Курской губернии, недалеко от железнодорожной станции Коренная Пустынь. Полонский решил навестить друга на обратном пути.
По железной дороге, через Москву и Курск, он 26 мая приехал в Киев. Остановился у Штакеншнейдеров на Большой Житомирской.
Погода стояла чудесная, настроение у Якова Петровича было превосходным.

Вспомнив, что в Киеве живет Ясинский (они познакомились, когда Ясинский приезжал в Петербург), Полонский узнал его адрес и зашел к нему. Ясинский рассказывает в книге «Роман моей жизни»: «Благоуханный воздух, тополевые бульвары, южное солнце ободрили старика, подняли его нервы, он как-то вдруг помолодел, и костыль не помешал ему исходить со мною пешком чуть ли не весь город».
Полонского особенно восхитила архитектурой своей Андреевская церковь – на крутизне над Днепром – светлая, легкая, праздничная («лучшая по архитектуре церковь не только в Киеве, но и, думаю, в России»).
Не успел оглянуться – пролетело девять дней, надо было уезжать.
На обратном пути из Киева он сошел с поезда на станции Коренная Пустынь и провел в имении Фета Воробьевке два дня.
Вернувшись в Петербург, послал ему письмо: «Как я рад, что побывал у тебя…» С удовольствием вспоминал «сад, полный росы и птичьего гама».
Фет из Воробьевки писал ему:
«Тургенев говорил, что блаженствует, когда лежит перед женщиной носом в грязи, а я всем кричу, что блаженствую, когда лежу перед истинным поэтом, начиная с тебя…
Ты говоришь, что, помня наизусть мои стихи, не помнишь ни одного майковского, я говорю то же самое по отношению к тебе».
Но при том, что Полонский высоко ценил поэтический талант Фета, а Фет – Полонского, при том, что оба от души радовались вновь обретенной дружбе, они оставались очень разными людьми. Разные сложились у них мировоззрения…
Фет склонялся к чрезвычайному консерватизму, был сторонником крутых полицейских мер по отношению к революционерам и утверждал в письме: «…лучше у человека, бегущего с горящей папироской в пороховой погреб, выбить последнюю кулаком по рылу, чем читать ему мораль до тех пор, пока он все не взорвет на воздух».
Полонский возражал: «…я не ворвусь, как буян, в область твоего миросозерцания, ты тоже не начнешь меня дубасить за то, что я не считаю государство пороховым погребом и преспокойно курю свои сигары. А вообрази я, что государство пороховой погреб и что в нем невозможен никакой очаг, никакой горн, никакая лампада, у меня явилось бы страстное желание взорвать его – что за охота жить в пороховом погребе!» Ведь если правительство вообразит, «что государство – пороховой погреб, оно каждого будет лупить за всякое употребление огня – а как жить без огня!» И далее Полонский замечал: «Хотим мы с тобой прогресса или не хотим, а все-таки и твоя и моя поэзия – маленькие толчки к прогрессу…»
В декабре 1888 года он писал Фету: «Кто-то, вероятно в шутку, говорил мне, что ты просишься в камергеры. Верить этому не хочу, потому что не можешь ты не сознавать, что звание поэта выше, чем сотня камергеров, из которых, наверно, целая половина гроша медного не стоит».
Фета больно задело это письмо. Потому что слух был верен: действительно, он желал возвыситься «в свете», получив камергерское звание. В свое время он уже постарался отделаться от своей недворянской фамилии Фет и добился, чтоб ему разрешили носить дворянскую фамилию отчима – Шеншин. Тогда же Тургенев с беспощадной резкостью написал ему: «…как Фет, Вы имели имя, как Шеншин, Вы имеете только фамилию».
Но честолюбие – странная болезнь…
И вот Полонский написал Шеншину, который для него оставался Фетом: «Если верить сегодняшнему № газеты „Новое время“, ты – камергер высочайшего двора… Если ты этим порадован, то радуюсь и я. Если ты доволен, то и я доволен. Судить о тебе по своей собственной натуре считаю несправедливостью».
В июне 1889 года Полонский с дочерью отправился в путешествие по Волге. Ведь он, дожив до старости, до сих пор Волги не видал… Сели на колесный пароход в Рыбинске, решили плыть до Сарепты (за Царицыном). В каютах по вечерам зажигался – это было новостью – электрический свет.
Через месяц, уже на обратном пути из Сарепты, они сошли с парохода в Саратове. Остановились в гостинице. К ним в номер постучался кто-то, желавший видеть Полонского, – оказалось, это Николай Гаврилович Чернышевский. Он теперь жил в Саратове (несколько лет назад вернулся из сибирской ссылки). Полонский рассказывал потом (в письме к редактору «Исторического вестника»): «Чернышевский, узнавши, что я проездом нахожусь в Саратове, прибежал ко мне в номер и весь следующий вечер провел у меня за чайным столом. Словом, мы встретились по-братски, и тогда не мог я не убедиться, до какой степени он был душевно расположен ко мне». Ну, что касается степени душевной расположенности, то, возможно, Полонский несколько заблуждался. Но, конечно, если бы Чернышевский видел в нем человека чуждого, вряд ли он стал бы искать этой встречи.
Фет звал его в свою Воробьевку – если не теперь, то на следующее лето.
Полонский отвечал:
«Прошлое лето я был в отпуску, и закону могу получить новый отпуск только через два года на третий…
Прошли незабвенные времена, когда у нас председателем был Тютчев, когда можно было на целые полгода уезжать и когда на это никто не обращал внимания.
Но ты же не прочь от того, чтобы на Руси была дисциплина.
И вот дисциплина завелась: подписавши мне в июле отпуск, начальник Главного управления по делам печати тотчас же прислал в комитет бумагу – уведомить его, вернусь ли я в срок, т. е. ровно через два месяца, или не вернусь? И если бы я не вернулся, у меня бы вычли жалованье за все мной просроченное время…
– Вот ты тут и живи! – повторяю восклицание покойного Ивана Сергеевича Тургенева.
…Но мы живем в стране неожиданностей.
Может случиться, что меня выгонят со службы и я останусь искать себе места дворника.
…Если случится моей семье в будущем году быть в Воробьевке, все, что могу я, это взять свидетельство (а не отпуск) и прикатить к тебе на неделю (так я ездил в Киев – по одному свидетельству, подписанному А. Н. Майковым, без всякого разрешения от высшего начальства)».
Как бы то ни было, на следующее лето Полонские смогли приехать в Воробьевку всей семьей.
«Вот уже две недели, как я у нашего поэта Фета, – сообщал Полонский Майкову в конце июня. – Истины нет, говорит Фет, мы ничего не значим, поэзия есть не что иное как безумие, а потому она ближе к истине… Если поэт не сумасшедший – то какой же он поэт! Чепуха в стихах – это лучшая похвала стихам, и тому подобное.
На этом я часто ловлю его, и когда он говорит, что в России происходит чепуха, я подхватываю это слово и говорю, что в устах его это лучшая похвала России… И право, если бы мы не спорили, было бы скучно. Если бы Фет (или Шеншин Аф. Аф.) не был оригиналом и притом не был бы чем-то цельным и единым, несмотря на сотни противоречий и софизмов, трудно было бы с ним ужиться, – но я его понимаю, и живем мы, слава богу, по-приятельски.
Нас здесь балуют, и скупой, расчетливый Фет не скупится на всякого рода угощения…
Только от мух нет житья…
Я иногда беру в руки палитру и малюю. Теперь списываю с натуры фонтан, воздвигнутый Фетом. На днях он негодовал, что фонтан этот с починками обошелся ему около 600 рублей, – и зачем он его воздвиг! – так как он его никогда не видит, одышка мешает ему спускаться с горы вниз [к фонтану] и подниматься к дому, на гору».
По возвращении в Петербург Полонский послал Фету только что вышедшую из печати новую книжку стихов своих «Вечерний звон».
Позднее писал ему:
«По твоим стихам невозможно написать твоей биографии и даже намекать на события из твоей жизни, как нельзя по трагедиям Шекспира понять, как он жил…
Увы! по моим стихам можно проследить всю жизнь мою. Даже те стихи, которые так тебе нравятся: „Последний вздох“, затем „Безумие горя“, „Я читаю книгу песен“ – факты, факты и факты – это смерть первой жены. Мне кажется, что, не расцвети около твоего балкона в Воробьевке чудной лилии, мне бы и в голову не пришло написать „Зной, и все в томительном покое“… А не будь действительно занавешены окна в той комнате, где я у тебя спал, может быть, не было бы и стиха „Тщетно сторою оконной“».
Ночами сочинял он стихи не только за письменным столом, но и позднее, лежа в постели. «Нередко видел я, – рассказывал он Фету, – как на потолке моей комнаты исчезали отражения уличных фонарей и становилось темнее, это значило, что фонари погашены, так как наступает время появиться новой заре, – тут только я догадывался, что ночь прошла, что нужно заснуть хоть один, хоть два, если не на три часа, чтобы весь день не походить на таракана, посыпанного персидской ромашкой».
Еще год назад прочел Полонский новое произведение Толстого «Крейцерову сонату». В России эта повесть была запрещена цензурой (сочтена безнравственной), но в литографированных оттисках читалась повсюду и вызывала горячие споры. Полонскому она показалась «гениальной по своей уродливости».
В марте 1890 года он рассказывал в письме к Фету: «В воскресенье (11 марта) неожиданно посетил меня К. П. Победоносцев и часа полтора со мной беседовал, – я нападал на запрещение „Крейцеровой сонаты“, которое не мешает ей расходиться в тысячах литографированных оттисков и в то же время мешает писать о ней, критически разбирать ее, и на ту честь, которая удостоила жалкую картину Ге „Христос перед Пилатом“ – тем, что приказано убрать ее с выставки».
Но вот в конце года Майков как председатель комиссии иностранной цензуры поручил Полонскому как цензору сделать доклад об английских изданиях (в английском переводе) книг Толстого, запрещенных в России.
Впервые Полонский попал в столь тяжелое и сложное положение: по всем существовавшим правилам он обязан был эти английские издания запретить…
Он мог утешаться разве только мыслью, что издания эти все равно не получили бы разрешения комитета, независимо от его личной позиции.
По пятницам у Полонского дома бывало теперь многолюдно. Нередко появлялись личности незнакомые, кто-то рекомендовал их Якову Петровичу, – к этому он привык.
Однажды приключилась история конфузная. Вместе с издателем журнала «Осколки» Голике пришел приехавший из Москвы Чехов, которого Полонский еще не знал в лицо. Чехов представился, но Яков Петрович его фамилии не расслышал.
«Полонский и остальные гости не обратили на меня никакого внимания, – рассказывал потом Чехов, – и просидел я молча целый вечер в уголке, недоумевая, зачем я понадобился Полонскому или зачем нужно было знакомым уверять меня, что я ему интересен. Наконец стали прощаться. Полонскому стало неловко и захотелось сказать мне что-нибудь любезное. „Вы, – говорит он мне, – все-таки меня не забывайте, захаживайте когда-нибудь, ведь мы с вами, кажется, и прежде встречались, ведь ваша фамилия Чижиков?“ – „Нет, Чехов“, – сказал я. „Батюшки, что же вы нам раньше-то этого не сказали!“ – закричал хозяин и даже руками всплеснул. Очень смешное приключение вышло…»
Молодой литератор Виктор Бибиков написал Полонскому из Москвы…
«Странный человек Чехов! Он Вас, Яков Петрович, крепко любит, но… Вы ему (да простит его господь!) кажетесь немножко „литературным генералом“, и так как Чехов – восплощенная скромность, то боится „навязываться“… Напрасно я разубеждал его, он стоял на своем и в доказательство рассказал мне, что однажды, придя к Вам с Голике, был узнан Вами только перед его уходом, а около двух часов сидел в Вашем кабинете в качестве таинственного незнакомца… Не знаю, правда ли это (сбивается на анекдот!), и если правда, чем Вы виноваты, что не узнали Чехова? Не Наполеон же он Первый, не Байрон, лица которым всем известны… Но все-таки он очень хотел навестить Вас в этот приезд».
Кто только к Полонскому по пятницам не приходил…
В числе новых знакомых был знаток древнего искусства и церковной живописи Михаил Петрович Соловьев – человек, близкий Победоносцеву.
Соловьев был навязчив, стремился проповедовать и поучать. Общественная позиция Полонского была ему неясной, но он считал, что поэта можно привести к общему знаменателю – общему с кругом Победоносцева – и, так сказать, приплюсовать к этому кругу. Он написал Полонскому письмо с изложением своей позиции: «Я позволю себе приравнять себя к Майкову в одном отношении. В духовном мире для нас общее важнее частностей. У нас идей немного, но наличные царствуют, и кроме них мы решились не видеть другого ничего… Оттого мы тенденциозны, оттого мы в тенденцию верим и ею руководимся. Это может показаться узким и доктринерским, но так уж богу угодно – пожалуй, осуждайте нас. Вам вложил бог любовь к свободе – благо Вам; я же на Вас вижу страдания, ею причиненные, и не принадлежу к ее ратникам». Далее Соловьев заявлял, что для борьбы с «тлетворным духом» социализма «есть два могучих орудия, ресурсы которых безграничны: самодержавие и церковь, далеко не развернувшие всех своих сил; их нет на Западе. Силен папа римский, да рук-то у него нет, и давно ему ни одно государство не верит».
Полонский ответил с плохо скрытым раздражением: «Вы пишете, что в папу уже никто не верит, а кто верит в нашего константинопольского патриарха?! Кто из народа знает его хотя бы по имени? Один раз Тертий [Филиппов, государственный контролер, подголосок Победоносцева]… да те члены Синода, которые почему-то никогда не ходят пешком, как ходили апостолы и наши св. иерархи… Отчего ни на одном образе не видать ни одного едущего в карете праведника, а наше высокопоставленное духовное лицо иначе и вообразить себе нельзя, как едущим в карете…»
О себе Полонский сказал потом – в ответах на вопросы «Петербургской газеты». Вот некоторые из них:
«Главная черта моего характера. – Уживчивость.
Достоинство, которое я предпочитаю у мужчин. – Оригинальность и неподкупность.
Достоинство, которое я предпочитаю у женщин. – Глубокое понимание близких ей людей, в особенности недюжинных.
Мое главное достоинство. – Все мне кажутся главными.
Мой главный недостаток. – Излишняя откровенность.
Мой идеал счастья. – Слишком далек, чтобы говорить о нем.
Кем бы я хотел быть. – Человеком – так, как я его понимаю.
Мой девиз. – Все, что человечно, то и божественно».
Большим почитателем его поэзии был директор одной из московских гимназий Поливанов. По поручению Академии наук он написал рецензию на сборник стихов «Вечерний звон», и Академия присудила Полонскому за этот сборник Пушкинскую премию.
После юбилейных комплиментов не часто слышал о себе Полонский лестные отзывы. Поливанов его растрогал.
Завязалась переписка. Лично они еще не встречались, но уже чувствовали друг к другу глубокую симпатию.
Полонский сетовал в одном из писем к новому московскому другу: «…спросите теперь любого молодого студента или юношу, какой его любимый поэт? Он удивится. Молодежь – и в том числе мой сын – прямо заявляют мне, что в поэзии они не находят ничего дурного, но она их мало занимает, она отошла уже на последний план или уступила место иным вопросам – вопросам политики и социологии. Я даже и понять не могу, откуда такое множество стихов и новых стихотворений! Их в журналах пропускают даже сентиментальные барышни!»
В ноябре 1892 года Полонский узнал о смерти Афанасия Афанасьевича Фета. Умер последний из друзей его юности…
Летом следующего года побывал он в тех местах, куда приезжал тридцать девять лет назад, – в Воронове, под Москвой, бывшем имении поэтессы графини Ростопчиной. Теперь сюда пригласил Полонского нынешний владелец имения граф Шереметев.
В Воронове Яков Петрович хорошо отдохнул. Здесь он, между прочим, набросал маленькое стихотворение – карандашом на листке бумаги:
Мысли вычитанной
Не хочу вписать.
Рифмой выточенной
Не к чему блистать.
Стиха кованого
Я люблю огонь —
То из Воронова
Ростопчинский конь.
Стих, исследующий
Глубину идей, —
Конь, не ведающий
Кучерских плетей.
Старый поэт рифмовал здесь так, как будут рифмовать в XX веке: «вычитанной» – «выточенной», «кованого» – «Воронова». Он владел музыкой стиха, владел словом, как истинный мастер.








