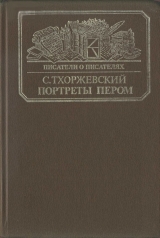
Текст книги "Портреты пером"
Автор книги: Сергей Тхоржевский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 31 страниц)
Правда, его отставка не была опалой. Царь Александр II разрешил ему каждую пятницу являться в Зимний дворец. Бывший управляющий Третьим отделением мог без доклада входить к его величеству во время утреннего чая. Как рассказывает биограф Дубельта, «государь всегда оказывал ему самый милостивый прием и удостоивал его продолжительными беседами и совещаниями о различных делах».
Однако волна перемен катилась дальше. Новый царь подписывал указы об амнистии и о возвращении дворянства многим осужденным при покойном царе Николае. Это было время, когда многие из Сибири и других мест ссылки возвращались домой. Многие, но не все. Так, отпущенный с каторги Петрашевский должен был оставаться в Иркутске на поселении…
Только в июле 1857 года смог вернуться из олонецкой ссылки в родную Киевскую губернию Виктор Липпоман.
Назначенный ему шестилетний срок ссылки окончился еще в марте 1855-го. Но это отнюдь не означало, что он может сразу же, никого не спрашивая, ехать домой. О том, что Липпоман просит разрешения вернуться на родину, тогдашний олонецкий губернатор письменно докладывал министру внутренних дел Бибикову. «Липпоман во время нахождения его в Олонецкой губернии, – писал губернатор, – вел себя хорошо. Что же касается состояния его здоровья, то имею честь присовокупить, что он, Липпоман, изувечен и ходит с помощью костылей».
Когда-то, будучи киевским генерал-губернатором, Бибиков не колебался: отправлять дерзкого молодого человека в ссылку или нет. Теперь же, когда шесть лет жизни Виктора Липпомана были загублены и пришел срок отпустить этого калеку на костылях, Бибиков заколебался: отпускать или нет, – и переправил копию письма олонецкого губернатора графу Орлову.
Орлов ответил так: «Липпоман, находясь уже в Петрозаводске, оказался вновь виновным в списывании и хранении недозволенных стихотворений, вследствие чего высочайше поведено… усугубить за Липпоманом учрежденное за ним наблюдение. Таким образом, это последнее обстоятельство лишило уже Липпомана права возвращения его на родину через 6 лет… и, по настоящему положению политических дел, я полагаю оставить его в Олонце, впредь до приказания».
В итоге Липпоман вернулся домой не через шесть, а через восемь лет. О его возвращении был уведомлен департамент полиции: «…проживает в д. Рыбчинцах у своего родственника, помещика Липпомана; за прибывшим учрежден секретный надзор».
А менее чем через год, в мае 1858-го, киевский вице-губернатор извещал министра внутренних дел: «Сквирский земский исправник в рапорте от 27 минувшего апреля донес мне, что состоявший под секретным надзором, возвратившийся по всемилостивейшему прощению из Олонецкой губернии Виктор Липпоман, отлучась для приискания себе службы в г. Киев и отсюда в г. Житомир, там застрелился».
«С 1857 года в Николаеве построение судов почти прекратилось, – рассказывает один из современников, – одним словом, Николаев лишился той деятельности, которая создала его, чрез что он принял какой-то мертвый вид». Опустел рейд, моряков переводили с Черноморского в Балтийский флот, жители города стали разбредаться. На улицах появилось множество бездомных собак…
Летом этого года полицейский надзор за Александром Пантелеевичем Баласогло наконец был снят. Оставалось в силе только запрещение въезда в столицы.
Теперь он мог что-то зарабатывать: ему разрешили преподавать в штурманской роте. Мария Кирилловна со времени своего приезда в Николаев давала в частных домах уроки музыки и французского языка, теперь у нее возникла идея открыть в городе училище для девиц. Она стала хлопотать о разрешении.
Наконец-то получил разрешение покинуть холодный Архангельск Георгий Андрузский. И уехал домой, в Полтавскую губернию.
Уже могли жить в Петербурге возвратившиеся из ссылки Василий Белозерский и Эдвард Желиговский.
Теперь смог приехать в столицу, после Долгих лет вынужденной отлучки, Тарас Григорьевич Шевченко. На другой день по приезде – в марте 1858 года – он навестил Белозерского. Тут его уже, конечно, ждали – вечером собрались друзья. Пришел и Желиговский. «Радостная, веселая встреча», – записал Шевченко в дневнике.
В один из майских дней Желиговский, Шевченко и Белозерский распили втроем бутылку шампанского за успех будущей польской газеты «Слово».
С января 1859 года газета стала выходить. Издавать ее взялась тесная группа петербургских поляков, объединенных давней и неизменной нелюбовью к царскому правительству. «Как создателем, так и душой газеты был Желиговский», – свидетельствует Бронислав Залесский. Но уже в конце февраля издание «Слова» было запрещено. За то, что газета поместила письмо польского историка Лелевеля. Само по себе это письмо не содержало ничего криминального, но старик Лелевель жил в эмиграции, считался государственным преступником уже почти тридцать лет… Издатель «Слова» Иосафат Огрызко был посажен на месяц в Петропавловскую крепость (правда, выпущен раньше срока). «Это первая жестокая мера по отношению к печати в нынешнее царствование», – записал в дневнике Никитенко. И добавил ниже: «Главный недостаток царствования Николая Павловича тот, что все оно было – ошибка. Восставая целых двадцать девять лет против мысли, он не погасил ее, а сделал оппозиционною правительству».
Запрещение «Слова» привело Желиговского к выводу, что в Петербурге ему нечего делать и незачем оставаться. Он уехал в родные края, в город Ковно, оттуда в Варшаву, а затем и за границу, во Францию.
С большим запозданием новый журнал «Архитектурный вестник» сообщил, что 18 ноября 1858 года в Тифлисе умер архитектор Петр Петрович Норев.
Когда-то, едучи на Кавказ, он, конечно, никак не думал, что ему уже никогда больше не возвращаться в Петербург. Он твердо намерен был оправдать доверие Академии художеств и составить проект восстановления древнего храма в Пицунде. Причем составить не кое-как, а с полным сохранением стиля этого сооружения.
Однако местные власти в Пицунде не желали ему помогать. Целый год он убил в бесполезных хлопотах, но не мог даже добиться доставки бревен для подмостьев. А через год ему прекратили выплачивать жалованье.
Он переехал в Тифлис. Там он занялся проектами строительства новых и восстановления старинных зданий. Мечтал издать свои многочисленные зарисовки кавказских архитектурных памятников… Но не успел.
Во время поездок по Грузии он схватил малярию и годами не мог от нее избавиться. Эта перемежающаяся лихорадка подточила его здоровье. Зрение у него ухудшалось, уже и в очках видел плохо, и за несколько дней до смерти он ослеп. В Петербурге о нем уже мало кто помнил.
Оба сына Александра Пантелеевича обучались в кадетском корпусе в Петербурге. Старшего сына, Володю, перевели сюда из Новгорода. Но летом 1858 года он был исключен из корпуса по состоянию здоровья и приехал в Николаев.
Он оказался свидетелем полного разлада в семье.
Совместная жизнь с Марией Кирилловной стала для Александра Пантелеевича невыносимой. Невыносима была ее лживость, невыносимо ее враждебное отношение к тому единственному, что придавало смысл его жизни, – к его неистребимой страсти к сочинительству. Он ушел от жены и стал жить отдельно.
Сначала снял комнату в доме мещанки Пашковой. Но Мария Кирилловна не оставила его в покое, в ней закипела ревность, а семнадцатилетний Володя даже побил Пашкову – по наущению матери. Александру Пантелеевичу пришлось перейти с этой квартиры на другую. Старик отец, Пантелей Иванович, теперь уже целиком был на его стороне и считал, что Александр совершенно правильно поступил, уйдя от такой жены.
Мария Кирилловна пробовала жаловаться новому военному губернатору Николаева, контр-адмиралу Григорию Ивановичу Бутакову, но не встретила в нем сочувствия.
Смириться с уходом мужа она не желала никак. В марте 1859 года она по старой памяти написала жалобу в Петербург, в родное и близкое ей по духу Третье отделение.
Она, во-первых, просила перевести ее мужа из Николаева в Новгород (поближе к Петербургу) и определить его в Новгороде на службу. Далее писала: «Он оставил меня с детьми в чуждом для меня городе на произвол судьбы, сам живет на особенной квартире, завел оскорбительную для меня связь и поддерживает свое существование частными занятиями. Не перестает проповедовать свои противозаконные идеи… Здешний губернатор молодой человек… Мой муж знал его ребенком, и поэтому, может быть, из деликатности он не делает ему никаких замечаний или потому, что не желает выслушивать его дерзких возражений».
Мария Кирилловна должна была понимать; донося в Третье отделение о том, что муж ее «не перестает проповедовать свои противозаконные идеи», она подставляет его под удар…
Но Леонтий Васильевич Дубельт уже был в отставке и на его благосклонное внимание Мария Кирилловна теперь не могла рассчитывать. Новый шеф жандармов князь Долгоруков послал контр-адмиралу Бутакову письменное предложение проверить донос.
Бутаков в свою очередь поручил проверку доноса полицмейстеру и начальнику николаевской жандармской команды.
В июне оба представили свои рапорты. Полицмейстер сообщал, что Баласогло, «вследствие неоднократных семейных с женою его ссор, точно живет на отдельной квартире; но кто более из них в этом виновен, сказать трудно, даже невозможно положительно узнать, впрочем полагать должно – по несходственности в характерах, ибо жена Баласогло ревнива и имеет неспокойный характер, а он вспыльчив и раздражителен; относительно преступной будто бы связи с подозреваемою ею женщиной, то это есть клевета; самое же подозрение породилось от ревности, по кратковременному его квартированию в доме николаевской мещанки Пашковой, которая поведения хорошего и которую она не только очернила, но и нанесла ей лично обиды, а сын даже побои, о чем в Одесской части производится следствие. О распространении будто бы Баласогло вредных идей до сих пор еще никаких слухов не доходило, а напротив того – он преподает в Черноморской штурманской роте историю и географию, следовательно если бы замечена была какая-нибудь неуместная или вредная выходка, то ему в то же время было бы отказано в преподавании».
Жандармский начальник в рапорте сообщал, что Баласогло живет теперь «в доме караима, где, по крайней бедности своей, довольствуется одною комнатой и содержанием из дома своего отца… а между тем он, Баласогло, около пяти раз [в неделю] является на квартиру жены своей и преподает там уроки малолетним девицам, которых воспитывает жена его, не получая от нее платы, а единственно чтобы улучшить ее средства к жизни… Донос сделан женою Баласогло, которая желает принудить его жить с нею, а для того вознамерилась отдалить его от отца и чтобы он был сослан на жительство в другой город».
Получил Бутаков еще один рапорт – от управляющего штурманской ротой генерал-майора Манганари. В этом рапорте было сказано, что Баласогло «преподает историю, в которой имеет очень хорошие познания, а географию не преподает. В распространении же вредных идей не замечен».
Прочитав все эти рапорты, Бутаков написал в Третье отделение князю Долгорукову: «Полученное Вашим сиятельством сведение… не заслуживает внимания».
Так что, к огорчению Марии Кирилловны, донос ее никаких последствий не имел.
Она стала снова хлопотать о разрешении ей открыть в Николаеве училище для девиц. Не дождавшись разрешения, решила уехать с сыном и дочерью в Петербург. В тот самый день, в феврале 1860 года, когда она садилась в сани, чтобы отправиться в путь, ей принесли разрешение на право преподавания наук в Николаеве. Но она уже не захотела оставаться.
В Петербурге Мария Кирилловна с детьми остановилась в доме своих сестер на Широкой улице.
Первого марта она послала письмо Михаилу Александровичу Языкову: сообщала о своем приезде и просила оказать ей возможную помощь. Должно быть, она уже слышала, что в Петербурге недавно создано «Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым» – Литературный фонд.
Языков решил ее навестить.
Об этом своем визите он рассказал в письме Павлу Васильевичу Анненкову, который тогда был членом комитета Литературного фонда. Сообщил о бедственном положении госпожи Баласогло. О том, что она надеется старшего сына «определить в университет, согласно его желанию. Дома он занимается теперь преимущественно, как он мне сам говорил, языками, т. е. переводами с французского и немецкого, с целью вырабатывать деньги». Дочерей госпожа Баласогло надеется определить «в какое-либо казенное заведение». Старшая дочка, пятнадцатилетняя Оля, кривобока и временами страдает болями в боку. «Сама же мать… хотела бы исходатайствовать себе какую-нибудь небольшую пенсию и давать уроки в музыке». Она сказала Языкову, что муж ее, слабый здоровьем «и притом поврежденный в уме, остался в Николаеве на попечении своего престарелого отца…».
Она скрыла от Языкова, что Александр Пантелеевич преподает в штурманской роте, ибо тогда Языков усомнился бы в правдивости ее рассказа о муже, «поврежденном в уме»…
В письме к Анненкову Языков припоминал: «Сам г. Баласогло, до приключившегося с ним несчастья, очень ревностно занимался литературой… был одним из самых скромных и честных тружеников, что, конечно, подтвердят знавшие его братья Майковы, А. А. Краевский, С. С. Дудышкин, И. А. Гончаров и прочие…»
Глава десятая
Под средневековое иго
Уже не клонится никто,
И хоть пред нами та же книга,
Но в ней читаем мы не то,
И новый образ пониманья
Кладем на старые сказанья.
Вл. Бенедиктов «Борьба» (1859)
С лета 1857 года в Петербурге, да и по всей России, в домах людей образованных тайно читали и передавали друг другу новую газету «Колокол». Ее начал издавать в Лондоне Александр Иванович Герцен.
Герцен получал множество писем из России – самых разных. Ему сообщали новости и сенсационные разоблачения, его приветствовали, с ним спорили, на него обрушивали град обвинений – в письмах было все.
На осуждающее письмо одной русской дамы он отвечал на страницах «Колокола»: «Вы говорите, что я браню все на Западе, царей и народы, браню все в России – без различия сана и лет…Что касается сана и лет – это мы отложим в сторону; лета только тогда достойны уважения, когда они служат доказательством не только крепости мышц и пищеварения, но и человечески прожитой жизни… бывали и на Руси старцы, которых все уважали… у нас и теперь есть наши старцыСибири, наши старцыкаторжной работы, и мы перед ними стоим с непокрытой головой. Но уважать эти седые пиявки, сосущие русскую кровь, этих николаевских писцов, ординарцев… оттого что их смерть не берет и они, пользуясь этим, сделались какими-то мозолями, мешающими ступить России шаг вперед?.. Если взять табель о рангах и прочность желудка за меру уважения, где же поставим границы ему? Эдак мы дойдем лет через пять до уважения Дубельта…»
И ведь, наверно, Дубельт эти строки читал. Еще несколько лет назад он говорил о Герцене с ненавистью: «У меня три тысячи десятин жалованного леса, и я не знаю такого гадкого дерева, на котором бы я его не повесил!» И повесил бы! Да вот руки оказывались коротки.
В июне 1860 года Герцен в «Колоколе» вновь неуважительно и насмешливо помянул Дубельта, задаваясь вопросом: какой бы титул стоило дать Леонтию Васильевичу? А вот какой: «князь Дубельт– Филантропский!Он в апреле месяце нынешнего года даже императрицу тронул своим попекательством о каких-то бедных девушках (зри „Московские ведомости“). Он и прежде был страшный филантроп; и тоже по части бедных девушек, воспитывавшихся в театральной школе Гедеоновым [директором императорских театров] и им».
«Молчание кругом, подобострастное исполнение, подобострастная лесть приучают у нас самых дельных людей к страшной необдуманности, к безграничной самонадеянности и в силу этого вовлекают их в большие ошибки» – так высказался однажды Герцен, имея в виду Муравьева, генерал-губернатора Восточной Сибири.
А ведь Муравьев был действительно незаурядным человеком, умным, энергичным, деятельным. По Восточной Сибири он исколесил не одну тысячу верст, добирался до Камчатки.
Чиновную бюрократию Муравьев презирал. Подчиненных своих делил на две категории: нужных и ненужных. Нужных всячески поддерживал, ненужных изгонял. И при этом не церемонился.
В течение нескольких лет он всемерно содействовал капитану Невельскому, который вопреки петербургской инструкции плавал к устью Амура и поднял там русский флаг и установил, что Сахалин – остров, а не полуостров, как считалось до сих пор. Но независимый характер Невельского не нравился восточно-сибирскому генерал-губернатору. И вот уже Муравьев послал в Петербург великому князю Константину Николаевичу письмо: «Невельской здесь теперь вовсе не нужен, ни на Амуре, ни в Иркутске; я принял на себя смелость представить об отчислении его – он выслужил узаконенные сроки и контр-адмирал». И контр-адмирала Невельского отозвали в Петербург. По одному из позднейших писем Муравьева видно, как он был раздражен «сумасшедшим Невельским»…
Когда освобожденные с каторги по амнистии Петрашевский и Спешнев прибыли в Иркутск на поселение, Муравьев пригласил их побывать в его доме. Он вообще не шарахался от политических ссыльных, видел в них энергичных и полезных людей. Вскоре Муравьев поручил Спешневу редактировать «Иркутские губернские ведомости». Никакой другой генерал-губернатор не решился бы доверить редакцию газеты ссыльному, не имевшему к тому же и самого малого чина…
И Петрашевскому, и Спешневу еще не было сорока лет. Петрашевский уже сильно облысел, обрюзг, у него отросла большая, апостольская борода. Спешнев тоже носил бороду, в ней видна была преждевременная проседь. Теперь он был очень сдержан и молчалив. Один иркутский купец рассказывал: «Спешнев – в некотором смысле философ, решивший, что все делается потому, что так должно делаться – скверно ли, хорошо ли, но ничего иначе быть не может». Поэтому он уже не лез на рожон. Как редактором газеты генерал-губернатор был им весьма доволен.
А Петрашевский очень скоро стал Муравьева раздражать. Потому что не смирялся и не считал своим долгом соглашаться с генерал-губернатором всегда и во всем. Муравьев же, как вспоминает один из его тогдашних подчиненных, «быстро менял милость на гнев, как только кто-либо позволял себе осуждать те или другие принимаемые им меры».
Весной 1859 года Муравьев – теперь уже по царскому указу граф с двойной фамилией Муравьев-Амурский – отправился с дипломатической миссией в Японию. Правителем путевой канцелярии он взял с собой Спешнева. И вот ссыльнопоселенец Спешнев ехал за границу, в экзотическую страну, – благоволение Муравьева он должен был оценить…
В отсутствие генерал-губернатора в Иркутске произошло мрачное событие: стрелялись два чиновника, причем одного из них стреляться вынудили, он-то и был убит. Петрашевский открыто заявлял: это не дуэль, а убийство. Убийца уверен в своей безнаказанности, потому что пользуется покровительством Муравьева. Такова истина!
Вице-губернатор Корсаков приказал немедленно выслать Петрашевского из Иркутска, чтобы не мутил воду. Куда? В Енисейскую губернию!
Не по решению суда, а по явному произволу властей выслан из Иркутска Петрашевский, об этом сообщалось в тайном письме в «Колокол». И вот уже Герцен в «Колоколе» задавал вопрос: «Неужели прогрессивный генерал-губернатор не понимает, что вообще теснить сосланных гнусно, но теснить политических сосланных времен Николая, т. е. невинных, преступно?»
Муравьев, разумеется, на такие вопросы не отвечал. Высылку Петрашевского из Иркутска он одобрил безоговорочно.
Позднее один из прежних сослуживцев Муравьева написал о нем: «Говорят, его считают красным. Плохо же различаются у нас цвета».
В начале 1861 года Муравьев уехал в Петербург и расстался с Сибирью навсегда. И увез с собой Спешнева, хотя тому еще не было разрешено приезжать в столицу.
Что ж Петрашевский? Он остался в глухом сибирском селе, в избе, где с низкого потолка сыпались тараканы и где он оказывался одинок и заброшен как никогда до сих пор.
В петербургской Академии художеств каждый год проводились выборы новых членов. Осенью 1860 года в числе новоизбранных академиков оказались Тарас Григорьевич Шевченко и Александр Егорович Бейдеман.
Оба они были почитателями Герцена: Бейдеман, будучи за границей, послал Герцену в подарок свой рисунок колокола; Шевченко передал отъезжавшему за границу Николаю Макарову (с ним его познакомил Белозерский) сборник своих стихов «Кобзарь» и попросил: «Передайте его Александру Ивановичу с моим благоговейным поклоном».
Бывшие кирилло-мефодиевцы начали издавать в Петербурге свой журнал.
С молодых лет они чувствовали себя единой группой, но теперь объединяло их, в сущности, только стремление возродить украинскую национальную культуру. Самым ярким среди них был Шевченко. Первоначально предполагалось, что редактором журнала будет Николай Макаров, но в итоге ему предпочли Белозерского. Хотя Белозерский, как и Макаров, литератором не был. Но, будучи состоятельным человеком, он мог сам как-то субсидировать издание.
Журнал назвали «Основой». Программу журнала составили в самых общих выражениях: «просвещение, уразумение общей пользы…».
Третье отделение не питало ни малейшего доверия к редакции «Основы». Особенно после того, как в июле 1862 года был арестован младший брат Василия Белозерского Олимпий. Арестован потому, что побывал в Лондоне и не упустил возможности познакомиться с Герценом. В следственном «деле о лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами», Олимпий Белозерский занял самое незначительное место, но одиночной камеры в Алексеевском равелине все же не избежал.
Когда издание «Основы» уже было прекращено, на квартиру Василия Белозерского нагрянула полиция – с обыском. У бывшего редактора оказалось много всяких бумаг. Просмотр этих бумаг отложили на другой день, квартиру опечатали. Белозерский вместе с семьей вынужден был временно перебраться в гостиницу, с тревогой ожидал, что же будет… Нет, не обыска он боялся – он был слишком осторожен, чтобы хранить недозволенное, – но мало ли за что могут привлечь… Может, брат Олимпий сказал на следствии что-то лишнее… Неужели все пережитые мытарства начнутся сначала?.. Из гостиницы Василий Белозерский послал записку Анненкову: «…Ради моей жены и семьи употребите свое доброе участие в мою защиту. Уверяю Вас всем для меня святым, что я ничего не сделал, не написал сколько-нибудь преступного; что я не принадлежал и не принадлежу ни к какому тайному обществу, что я не имел никаких преступных связей… Я опасаюсь, что, вместе с обыском, меня арестуют».
Опасения оказались напрасными – его не арестовали. При обыске ничего компрометирующего, конечно, не нашли. Однако ему было объявлено, что он должен оставить службу – а служил он в канцелярии Государственного совета.
Белозерскому предложили небольшую должность в Варшаве, и пришлось ему покинуть Петербург.
Мария Кирилловна Баласогло получила пособие – двести рублей – от Литературного фонда. Должно быть, при содействии Языкова и Анненкова вышло второе издание книжки «Буква Ѣ», скромный доход от этого издания предназначался в пользу семейства автора.
Мария Кирилловна просила пособия также в Третьем отделении, но прошли времена, когда Леонтий Васильевич давал ей по три сотни. Теперь ей тут выдали на бедность десять рублей, и все. Она подала прошение «на высочайшее имя». Случилось так, что одновременно подала такое же прошение вдова художника Антонелли, мать известного доносителя. Царь соблаговолил выдать им обеим по сто рублей.
О приближенных императора Николая, что оставались у власти после его смерти, поэт Федор Иванович Тютчев однажды сказал, что они напоминают волосы и ногти, продолжающие расти на трупе.
Весной 1861 года умер, дожив до старческого маразма, уже не граф, а царской милостью князь – Алексей Федорович Орлов. Он вышел в отставку незадолго до смерти. Перед самой его отставкой к нему однажды явился управляющий делами комитета министров Валуев и был поражен изменившейся внешностью старика. «Взгляд по временам прежний, в другие минуты блуждающий, нерешительный, как у сумасшедшего или онемелого», – записал в дневнике Валуев. Последние же месяцы перед своим концом бывший могущественный шеф жандармов, по рассказу Валуева, «находился в состоянии, которое можно назвать животным в полном значении этого слова. Он молчал, ползал на четвереньках по полу и ел из поставленной на полу чашки, как собака».
Годом позже скончался и многолетний его соратник по Третьему отделению Леонтий Васильевич Дубельт. Газета «Русский инвалид» напечатала некролог. «Имя генерала, – говорилось в некрологе, – конечно, известно многим вследствие его обширной и разнообразной деятельности. Мы слышали, что покойный генерал оставил после себя любопытные мемуары. Очень жалеем, что не можем сообщить теперь читателям описание его поучительной и не лишенной интереса жизни».
Плакала ли Мария Кирилловна, узнав о его смерти, не знаем. Она продолжала обивать пороги Третьего отделения. Там этой назойливой просительнице посоветовали искать заработка, она выразила готовность, и ее устроили в семью одного чиновника – няней. В этой семье быстро оценили ее по достоинствам и выставили за дверь. Отец семейства написал возмущенное письмо рекомендателям из Третьего отделения: «…из жалости к бедности г-жи Баласогло, которой муж, попавшийся в деле Петрашевского, сошел с ума, взяв ее в дом в качестве няни при трех наших малютках, мы и не воображали, до какой степени притворства может дойти женщина, испытанная, кажется, всевозможным горем!.. Бестолковость ее в обхождении с детьми, наклонность к дрязгам, ссорам с людьми… Ни единому слову поверить нельзя: все притворство и все ложь!»
А каково было ее мужу, который прожил с ней много лет…
В Николаеве уже не считали его сумасшедшим, а в Петербурге репутация сумасшедшего за ним укрепилась: слухи, первоначально исходившие из Третьего отделения, ныне подтверждала его жена. Для нее это было удобным объяснением, почему она с ним не живет, и, кроме того, усугубляло сочувствие к ее несчастной судьбе, а значит, повышались шансы на получение какого-либо пособия.
Бумаги Александра Пантелеевича за весь период его жизни в Николаеве не сохранились, так что мы не знаем, получал ли он письма от своих давних петербургских друзей. Возможно, и не получал: кто же станет переписываться с сумасшедшим…
После нескольких лет омертвения и запустения город Николаев оживился летом 1862 года, когда в устье Ингула был открыт коммерческий порт. Сюда потянулись по степи вереницы возов с зерном. «Но устройство порта было самое несчастное, самое деревенское, – рассказывает один из николаевских жителей. – Нагрузка хлеба совершалась у одной деревянной пристани… Во время нагрузки хлеба широчайшие николаевские улицы буквально запруживались к околице порта подводами и людьми… Оборванный босяк, не имевший и шапки, с одним лишь кнутом в руке выходил на биржу и зарабатывал в день до 8 рублей. А кто выходил с пароконной подводой, зарабатывал в день до 30 рублей. Население окольных деревень со всеми своими повозками проводило дни на улицах Николаева. Большая половина этих неслыханных заработков тут же пропивалась. Босяк без шапки быстро преображался в франта с часами и цепочкой. С фуляровым платком в одной руке и таким же в другой, с гармонией, ложился этот франт в фаэтон и, горланя, разъезжал по улицам от трактира до трактира, пока не превращался опять в прежнего босяка без шапки. Буйство, драки, грабеж, убийства, стон, рев стояли в воздухе днем и ночью в течение всей навигации».
В здании закрывшейся Черноморской штурманской роты в Николаеве теперь была открыта мужская гимназия. Преподавателем в эту гимназию Александра Пантелеевича не пригласили. Ему оставалось пробавляться частными уроками, весьма немногими, это давало лишь самые скудные средства к жизни.
Престарелый отец его уже вышел в отставку.
Весной 1863 года Александр Пантелеевич получил письмо от жены с обычными жалобами. Но, кроме того, она писала, что нынешний управляющий Третьим отделением Потапов в ответ на ее просьбы о муже посоветовал: пусть муж подаст прошение местному начальству в Николаеве о своем переводе в Петербург.
Подобный совет никак не вязался с объявленным ему запрещением въезда в столицу. Поколебавшись, Александр Пантелеевич все же написал такое прошение и передал его вице-адмиралу Глазенапу, новому военному губернатору Николаева. Просил Глазенапа написать Потапову, «возможно ли основываться на том, что прописывает мне моя жена», и добавлял, что, если разрешение на приезд в столицу будет получено, он, Баласогло, все равно не сможет выехать: нет денег на дорогу. И неоткуда взяться деньгам, если только военный губернатор не найдет возможным «изыскать средства к дарованию мне, – писал Баласогло, – способов предпринять путь в Петербург, где меня ожидает хворая жена и дети, нуждающиеся в самом необходимом, и где мне будет предстоять столько хлопот, чтобы получить себе хотя ту ничтожную пенсию, которую я должен буду отдать всю своей жене и детям, не имея для себя собственно опять-таки решительно ничего верного на остаток своих дней на земле!»
Глазенап отнесся к нему сочувственно и послал письмо в Петербург, в департамент полиции, с просьбой оказать содействие Баласогло «исходатайствованием ему права на пребывание в Петербурге и на пенсию». Прошло еще полгода, и наконец департамент полиции известил Глазенапа, что его величество соизволил разрешить Баласогло вернуться в Петербург.
Однако воспользоваться долгожданным разрешением Александр Пантелеевич не мог. Безденежье оказывалось невылазной ямой. В пенсии отказали и на этот раз (ранее контр-адмирал Бутаков также ходатайствовал о пенсии Баласогло, и также безуспешно).
Начала издаваться газета «Николаевский вестник», и, можно сказать, в городе как-то пробудилась умственная жизнь. Газета поднимала завесу над неприглядной картиной действительности. Так, «Николаевский вестник» сообщил, что в городе на сорок тысяч жителей число питейных заведений достигло четырехсот. «Сколько трагических сцен происходило по ночам на широких и темных улицах Николаева… едва ли сотая часть этих мрачных событий передавалась к общему сведению посредством печати. И в настоящее время небезопасно ходить ночью по нашим улицам без какого-нибудь орудия для защиты своей личности от покушений ночных бродяг». Только две главные улицы освещались газовыми фонарями, на остальных не было никакого освещения.
У Александра Пантелеевича украли единственную дорогостоящую вещь, какую он имел, – его шубу. А из дома его старых родителей утащили среди прочего сундучок, в котором мать его хранила письма сына за много лет…








