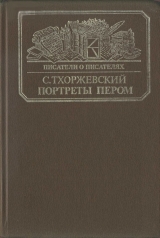
Текст книги "Портреты пером"
Автор книги: Сергей Тхоржевский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 31 страниц)
Министру показалось, что эти «сцены не для сцены» получились у Полонского «во многом весьма удачно». Однако дать личное разрешение печатать «Разлад» он не счел возможным – рукопись должна пройти цензуру обычным путем.
Полонский принес рукопись в редакцию «Современника» Некрасову.
Некрасов прочел – и заколебался. Послал рукопись ближайшему своему сотруднику Антоновичу и приложил записку: «Пожалуйста, Максим Алексеевич, прочтите эту вещь поскорее (т. е. завтра, например, к обеду). Что до меня, то я такого мнения, что ее следует взять в „Современник“. Она эффектна, об ней говорят и будут говорить, а относительно содержания (обстоятельство, по которому преимущественно я препровождаю ее Вам) тоже, кажется, не представляется препятствия. Этот вопрос предоставляют окончательно решить Вам».
Но Антонович и другие сотрудники редакции решительно воспротивились публикации «Разлада» в «Современнике». Они сочли, что вещь эта так или иначе оправдывает подавление польского восстания. Кроме того, они считали, что бестактно писать подобным образом о побежденных: лежачего не бьют.
Некрасов не хотел отказывать Полонскому напрямик и послал ему такое дипломатическое письмо:
«Я свел счеты по Современнику и пришел к неутешительным результатам: подписка уже кончилась, а денег у нас очень мало.
Заплатить Вам дешево не могу, да и Вы и не возьмете; дать много не из чего. Поэтому пристройте Вашу вещь в другой журнал. Если же вздумаете напечатать отдельно, то предсказываю большой сбор, и между тем на издание могу Вам дать лично, из своего кармана,что понадобится. Пьесу посылаю.
Весь Ваш Н. Некрасов».
Что же оставалось делать Полонскому?
«Разладом» заинтересовался редактор «Русского вестника» Катков: ему эту вещь рекомендовал в письме Галахов.
«Я еду в Москву, – рассказывал Полонский в письме к Пыпину. – Михаил Никифорович Катков собирает своих знакомых, зажигает лампы и просит меня приступить к чтению. Чем больше я читаю, тем больше он морщится. На другой день утром он возвращает мне мою рукопись. Узнаю, что Катков в негодовании. Сцены мои найдены лишенными всякого русского патриотизма…»
С подобной оценкой Полонский, разумеется, не мог согласиться. Удрученный вернулся он в Петербург.
Оставалась еще одна возможность: новый журнал Достоевских «Эпоха», разрешенный к изданию вместо запрещенного «Времени».
В этом журнале и был принят и напечатан «Разлад».
Отзывы критики не заставили себя ждать: они были уничтожающими.
Рецензент «Отечественных записок» справедливо замечал: «Если бы в Польше все были одни паны Славицкие, восстание продержалось бы разве неделю, да и то при содействии наивности господ Таниных… Какая же необходимость была избрать такиелица?»
Рецензент «Библиотеки для чтения» восклицал: «И стоило положительно даровитому поэту тратить столько труда, времени на достижение столь скудных результатов!»
Это был провал. Напрасно автор взялся писать о том, о чем знал лишь приблизительно, однобоко, со стороны…
В сентябре 1864 года умер Аполлон Григорьев. Журнал «Эпоха» напечатал воспоминания о нем, написанные Страховым, и письма Григорьева к автору воспоминаний.
Среди этих писем одно прямо относилось к Полонскому – к его «Свежему преданию». Об этой вещи Григорьев писал: «Мелок захват, и оттого все вышло мелко: и Москва мелка, да и веянья могучей мысли эпохи захвачены мелко». Далее в печати опущены были наиболее резкие выражения в адрес Полонского. Приводились еще такие слова Григорьева: «…думаю, что Полонский никогда и не знал Москвы, народной, сердцевинной Москвы, ибо передние, или же, все равно, салоны разных бар, – это не жизнь, а мираж; а он в них только и жил».
Прочитав эту книжку журнала, Полонский написал Страхову:
«Григорьев был человек замечательный – был одарен несомненно громадными способностями…
Совершенно неумышленно раза два в мою жизнь и оскорбил самолюбие Григорьева – и этого он никогда мне простить не мог…
Григорьев пишет, что я только и жил в салонах московских бар, – это самое обидное и самое несправедливое обвинение!.. Григорьев был студентом, во всем обеспеченным, ездил в своем экипаже, на своих лошадях, был маменькин сынок и нигде не смел засиживаться позднее девяти часов вечера, – я же жил без всяких средств, часто не знал, где преклонить свою голову, ночевал беспрестанно в чужих домах, и если посещал салоны, то именно те самые, где было веянье той могучей мысли,о которой пишет Григорьев».
Много лет спустя Полонский писал Фету: «Григорьев напал на мой стихотворный роман „Свежее предание“, утверждая, что московский дух мне совершенно неизвестен, а я о московском духе и не думал…» В этом все дело: Григорьев искал и не находил в «Свежем предании» то, чего там не было и быть не могло – не входило в замысел автора. Григорьев и Полонский смотрели на жизнь разными глазами. И никогда не могли найти общего языка…
Москву Полонский снова вспоминал в начатой им поэме «Братья»:
Он помнил одинокие прогулки,
Старинные пруды, как озера.
Кривые, спутанные переулки,
Кануны праздников и вечера
В ограде Спаса – ряд огней во мраке,
И пенье клироса, и «паки, паки
Помолимся», и дымные столпы
От ладана, и шорохи толпы
Молящейся, – и много, много, много
Такого, что являло в звездной мгле
На небе восседающего бога
И умирающего на земле.
Герой поэмы – русский художник – уезжает из Москвы в Рим и там принимает участие в восстании 1848–49 годов. Симпатии автора были очевидны.
Полонский писал о том, что слава
…зовет нас в поле, —
Где марширует смерть, меняя роли
Народов, полководцев и владык, —
Ведет на кафедру, раба язык
Вооружает жалом истин смелых,
В толпу заносит правды семена
И в глубину пустынь оледенелых
Людей заносит, – но не имена.
«В глубину пустынь оледенелых» занесло друга его Михаила Михайлова. В августе 1865 года пришло известие о смерти Михайлова в Сибири…
Полонский не раз принимался вести дневник – начинал и бросал. В начале 1866 года вел лишь самые краткие записи в календаре.
«3 февраля. —Мороз. Ясно. Утром в типографии – Оттискиуже напечатаны – дорого – чтоб окупилось издание, надо продать 600 экземпляров».
«Оттисками» назвал Полонский свой новый сборник стихов. Заработать на книге он не рассчитывал – лишь бы окупились расходы по изданию…
«15 февраля. – …Граф [Кушелев] кладет на музыку мой „Последний вздох“».
Стихотворение Полонского об умирающей жене – «Последний вздох» – произвело на многих сильное впечатление. Кушелев иногда сочинял – и печатал – романсы (среди них есть очень неплохие – например, «Что ты клонишь над водами…» на слова Тютчева). Он был музыкально одаренным человеком, играл на фортепиано и на цитре и, кто знает, может быть, в состоянии был бы стать настоящим композитором, если бы… Если бы он, граф Кушелев-Безбородко, не был изнеженным сибаритом, не ведающим, что такое трудолюбие.
Жене своей граф уже надоел. Она жила отдельно, но разоряла его по-прежнему. Он был теперь далеко не так богат, как прежде…
Полонский записывал в календаре:
«7 марта. – …Обедал у графа Кушелева-Безбородко. Прочел у него на себя пасквиль в „Будильнике“».
В этом юмористическом журнальчике об «Оттисках» Полонского без всякого стеснения писалось так: «Это просто собрание каких-то смутных недомолвок, полуслов, намеков, которых вся поэзия заключается в общей бессмыслице: какая-то музыка чепухи, какой-то неизлечимый лирический насморк…»
Ну, разве не обидно было все это читать?
Но прошел месяц, и Полонский уже не вспоминал про эту обиду – о таких ли пустяках стоило думать, когда произошло событие необычайное, потрясающее. О нем он записал в календаре кратко:
«4 апреля. – Покушение на жизнь государя неизвестного человека у Летнего сада».
Всякое насилие Полонскому было внутренне чуждо, и сочувствовать террору он не мог. Но его сразу же взволновал вопрос: почему стреляли в царя? Ради чего?
Он ожидал, что на этот вопрос ответить сможет человек, близкий к революционным кругам. Среди его знакомых таким человеком был Петр Лаврович Лавров.
На другой день после покушения на царя Полянский записал в календаре:
«5 апреля. – Вечером у Лаврова».
Когда еще Полонский жил в Риме, Лавров появился впервые в доме Штакеншнейдеров. Пригласить его настоятельно рекомендовал Бенедиктов. «Вы, вероятно, скоро познакомитесь с ним… – говорил Бенедиктов Елене Андреевне, – и тогда сами увидите, что в кругу ваших знакомых нет никого ему подобного, что он выше всех; и тогда все мы, которые окружаем вас теперь, отойдем на задний план, иначе нельзя, иначе нельзя!»
Лавров был полковником артиллерии и преподавал математику в артиллерийской академии. Но главным в его жизни было другое. «Его мечтой была революция, – читаем в воспоминаниях Елены Андреевны Штакеншнейдер. – Революция, которая сломает и унесет все старое, изжившее, все предрассудки и суеверия, весь износившийся строй жизни и расчистит место новому».
Как объяснял ему Лавров покушение молодого террориста Каракозова на царя, мы не знаем. Записи в календарике Полонского предельно скупы.
Из этих записей видно, что после выстрела Каракозова Полонский неоднократно заходил к Некрасову, зная обо всех опрометчивых шагах его в стремлении спасти от ожидаемых репрессий журнал «Современник»: о стихах Некрасова, читанных им 9 апреля в честь того, кто, как говорили, спас царя, и – неделей позже – об оде его генералу Муравьеву, который принялся искоренять в столице чуждый самодержавию дух.
Утром 19 апреля в зале Благородного собрания состоялось чтение в пользу бесплатной школы. Полонский читал первую главу поэмы «Братья»:
Гражданскую и всякую свободу
Свободой поэтической моей
Предупредив, я буду петь природу,
Искусство, зло, добро, – родник идей —
Все буду петь – и все, что человечно,
То истинно, – что истинно, то вечно.
Так разум мой – есть разум общий всем,
Единый, не смущаемый ничем, —
Как бог, он светит всем народам в мире.
И если есть народы на звездах,
И там – все те же «дважды два четыре»,
И там – все тот же Прометей в цепях.
Впрочем, это чтение прошло незамеченным.
По городу прокатилась волна арестов. 25 апреля были арестованы Лавров, Минаев…
В этот день Полонский записал в календарике своем: «Обедал у Некрасова – очень грустен, мрачен – не в духе – больше молчал – я понимал причину и почти молчал».
По поводу ареста Минаева (в крепости его продержали около двух месяцев) Полонский написал тогда стихотворение «Литературный враг»:
Глава седьмая
Господа! я нынче все бранить готов —
Я не в духе – и не в духе потому,
Что один из самых злых моих врагов
Из-за фразы осужден идти в тюрьму…
Признаюсь вам, не из нежности пустой
Чудь не плачу я, – а просто потому,
Что подавлена проклятою тюрьмой
Вся вражда моя, кипевшая к нему.
Сестра и брат Жозефина и Антон Рюльманы были незаконнорожденными (носили фамилию матери), их родителей уже не было в живых. Средства к существованию давала им служба в доме Петра Лавровича Лаврова. Антон, студент-медик, был домашним учителем сына Лаврова, Жозефина – компаньонкой его жены Антонины Христиановны (родным языком обеих был немецкий).
Минувшей зимой Антонина Христиановна умерла. Теперь Лавров предложил Жозефине быть компаньонкой его старой матери. Девушка согласилась.
Положение усложнилось тем, что Петр Лаврович влюбился в Жозефину. Как рассказывает Елена Андреевна Штакеншнейдер, Жозефина, «приученная смотреть на него глазами его семьи как на нечто не от мира сего, не знала, что делать, и только трепетала. Он тоже не знал, что делать, но себя понимал отлично и поэтому глубоко презирал».
Жозефина решилась посоветоваться с братом, брат в свою очередь, обратился за советом к доктору Конради, который бывал у Лавровых.
Доктор Конради и его жена решили вмешаться. «Молодую девушку Конради взяли к себе и поспешили разгласить эту историю под секретомповсюду, где только могли, – вспоминает Елена Андреевна, – от них узнала ее и я».
А тут наступило 4 апреля – покушение Каракозова на царя. Еще никто не мог предполагать, что ожидает Лаврова…
Жена доктора Конради, видимо, начала тяготиться взятой на себя ролью покровительницы Жозефины и решила уговорить ее выйти за Лаврова замуж.
20 апреля она сказала Елене Андреевне, что завтра едет с мужем за город, а Лавров и Жозефина пойдут в Эрмитаж. Вечером все соберутся на квартире Конради – в доме на углу Надеждинской и Саперного переулка.
В тот вечер Елена Андреевна также была приглашена к Конради. Ужинали поздно. Среди ночи вдруг раздался звонок.
Елена Андреевна вспоминает:
«Конради встал и со словами „верно, к больному“ пошел со свечой в темную прихожую. Звякнули шпоры, и послышался чужой голос: „Полковник Лавров здесь?“ Лицо Конради было бледно и свеча нетвердо держалась в руке его, когда он объявлял Лаврову, что его спрашивает жандармский офицер. Лавров поспешно встал и вышел, но не прошло и минуты, как он уже снова был посреди нас и объявил, что ему надо ехать домой с присланным от Муравьева жандармским офицером. Он не был бледен, как Конради, напротив, лицо его оживилось… В начале вечера он был пасмурен, и Конради были не в духе, и тихая красавица была еще печальнее, чем обыкновенно. Прогулки по Эрмитажу и обед вдвоем, по-видимому, не подвинули дела ни на шаг».
В эту ночь в квартире Лаврова на Фурштадтской был обыск и кабинет его опечатали.
А 25-го вечером жандармы взяли его самого.
16 апреля Полонского пригласили на домашний спектакль в частный пансион для девочек. Он записал в календаре:
«Вечер этот для меня был тяжел: я встретил С. М. [Софью Михайловну Дурново], с которой мое знакомство 20 лет тому назад кончилось таким позорным для меня образом несмотря на то, что во мне не было ни дурных мыслей, ни дурных намерений. Напротив… Она теперь, как кажется, была задета неожиданной встречей. Странная во мне симпатия к этой девочке – хочется назвать ее и дочерью и сестрой…»
Она оставалась для него девочкой и теперь – в ее сорок лет. Но прежних чувств не было…
13 мая в календарике Полонского появляется запись:
«Был в первый раз у Конради. M-lle Рюльман – глаза».
У нее были темные глаза и темные волосы, матовый цвет лица.
Потом он ездил в Москву навестить больную сестру, вернулся в Петербург, и вот 30 мая записывает в календарь: «У Конради. Жозефина Антоновна».
Муж и жена Конради вместе с Жозефиной жили теперь на даче в Павловске, – Полонский, видимо, застал ее в городе случайно, во время краткого ее приезда.
«31 мая. – Сильный дождь с утра… Хотел ехать в Павловск, сильно тянуло…
1 июня. – …поехал в Павловск. Вечер у Конради. Прогулка, музыка… Для моего сердца готовится или новое горе, или новая радость… Опоздал к последнему поезду в Петербург. Ночевал в кафе ресторана.
2 июня. – Весь день дождь. Обратный путь в Петербург… Конради у меня я отдал ему письмо к ней. Он советовал подождать, но письмо взял – и так в несколько строк я заключил все мое будущее – я никогда не женюсь, если она откажет…»
Вот его письмо к Жозефине:
«Если бы в голове моей возникло хоть малейшее сомнение в том, что я люблю Вас, если б я в силах был вообразить себе те блага или те сокровища, на которые я мог бы променять счастье обладать Вашей рукою, если бы я хоть на минуту струсил перед неизвестным будущим, я счел бы чувство мое непрочным, скоропреходящим, воображаемым – и, поверьте, не осмелился бы ни писать к Вам, ни просить руки Вашей.
Не сомневайтесь в искренности слов моих, так же, как я не сомневаюсь в них.
Простите меня, если мое признание не обрадует, но опечалит или обеспокоит Вас…
Ваше „нет“, конечно, будет для моего сердца новым, великим горем; но, во имя правды, я мужественно снесу его – не позволю себе ни малейшего ропота и останусь по-прежнему
Вас глубоко уважающий, Вам преданный и готовый к услугам
Я. Полонский».
Она дала согласие.
Нет, она его не любила. Ведь он был даже старше Лаврова (уже стукнуло сорок шесть) и далеко не красавец. Но никто за нее не сватался, кроме Лаврова и Полонского, и Полонский имел то преимущество, что не был обременен семьей и не сидел теперь в крепости.
По словам Елены Андреевны Штакеншнейдер, Жозефина решила тогда выйти замуж потому, что «ей некуда было голову приклонить».
Полонский почувствовал ее холодность и с болью сказал, что без ее сердца ему не нужно ее руки. Она попыталась как-то изобразить, что любит его, – у нее это плохо получалось…
«Если не любишь, – написал ей Полонский, – …скажи мне это перед свадьбой. Я скажу, что я не сумел приобрести твоего расположения – и ты, по чистой совести, отказала мне… Все это я мог бы на словах передать тебе, но обо всем этом мне тяжело говорить!»
«За несколько недель до свадьбы он посылал меня к ней, – вспоминает Елена Андреевна, – и просил: „Сойдись с ней и узнай ее, дойди до ее сердца и скажи ей, что если она меня не любит, то пусть мы лучше разойдемся“. Я, после тщетных попыток проникнуть, куда он меня посылал, т. е. к ее сердцу, отвечала ему: „Дядя, у меня ключа от ее сердца нет“.
17 июля Яков Петрович Полонский и Жозефина Рюльман венчались в церкви.
Счастливыми себя не чувствовали ни он, ни она.
Он невесело написал Елене Андреевне 24 августа: „У меня еще не было медового месяца, и, стало быть, отрезветь мне не от чего… Задаю себе одну из труднейших для меня задач в жизни – это приучить жену мою хоть со мною поменьше церемониться“.
Надо же было как-то друг к другу привыкать…
А Лавров был выпущен из крепости в конце того же года и отправлен в ссылку – в лесную глушь, в Вологодскую губернию.
Осенью новый и малозаметный журнал „Женский вестник“ напечатал первые две главы поэмы „Братья“.
Летом 1867 года Федор Иванович Тютчев, едучи в Москву, взялся передать третью главу „Братьев“ и новые стихи Полонского Каткову, для „Русского вестника“. И третью, и несколько последующих глав поэмы „Братья“ Катков принял и напечатал.
Запальчивые строки о поэзии прозвучали в четвертой главе:
Бросайте же в нее комками грязи
Вы, загрязненные, вы, пошляки,
Которым нужны взятки, сплетни, связи,
Чины, покой, рога и колпаки!
И вы, аскеты, вы, идеалисты
Без идеала, или реалисты
Без знанья жизни, вы гоните прочь
Безумную, гоните с тем, чтоб ночь
Невежества была еще темнее.
Решил Полонский снова обратиться к прозе и написать большую вещь – роман. Придумал заголовок: „Признания Сергея Чалыгина“.
Из письма его к Тургеневу узнаём:
„Мысль или, лучше сказать, план романа объясняется в двух словах.
Юный Чалыгин вдруг оказывается без бумаг и без всяких доказательств на свое законное происхождение (друг матери его, взятый под арест, забыл эти бумаги у себя в кармане, и они отобраны следственной комиссией или жандармами)…
Десять лет Чалыгин борется с людьми николаевского времени, с бюрократией, с полицией, со своими страстями и, когда достигает прав своих, чувствует, что он уже устал для дела, что прошла его молодость, что нечего ожидать.
Что значит в России человек без документов и как вся жизнь от них зависит – вот что я хотел показать.
И конец должен был быть такой же грустный, как начало романа, и заключать в себе грусть николаевского времени“.
Над романом Полонский трудился год и оборвал повествование, написав только о детстве и юности своего героя.
Роман почти одновременно писался и печатался – с марта по декабрь 1867 года – в новом журнале „Литературная библиотека“. В то же самое время прояснялась, к большому огорчению Полонского, сугубая реакционность этого журнала и нетерпимость его издателя к писателям-демократам.
Полонский решил объясниться с издателем „Литературной библиотеки“ Богушевичем и порвать с этим журналом. В черновом письме к Богушевичу написал:
„…лучше быть преследуемым, нежели преследующим людей за то только, что они заблуждаются или же не так думают, как я. В лагере Ваших противников я не нахожу такой нетерпимости… Я должен заявить о том, что между мною и Вашими сотрудниками нет ничего солидарного“. Переписывая письмо начисто, Полонский решил выразиться иначе: „Вы правы – я должен быть или с Вами – и казаться вполне солидарным со всем тем, что высказывали и будут еще высказыватьВаши сотрудники, или удалиться… К сожалению, характер мой мягче моих убеждений… но я поставлен в положение, не допускающее молчания (наиболее свойственного моему характеру)… С Вами я должен разойтись во имя убеждений“.
Но тут прекратился и выпуск этого журнала (издатель прогорел), так что печатание романа оборвалось бы все равно, если б даже Полонский не порвал отношений с редакцией.
Журнальные критики не обращали внимания ни на его поэму „Братья“, ни на „Признания Сергея Чалыгина“. Самолюбие Полонского страдало, в этом он признавался в письмах к Тургеневу.
Тургенев отвечал: „…можешь утешиться мыслью, что то, что ты сделал хорошего, – не умрет и что если ты „поэт для немногих“ – то эти немногие никогда не переведутся“.
И в другом письме: „…подобно тому как, в конце концов, никто не может выдать себя за нечто большее, чем он есть на самом деле, точно так же не бывает, чтобы что-нибудь действительно существующее не было признано… со временем; твой талант тобою не выдуман – он существует действительно – и, стало быть, не пропадет“.
Так что оставалось уповать на будущее.
Печатание поэмы „Братья“ в „Русском вестнике“ было прекращено. Полонский рассказывал: „Русский вестник“ не печатает продолжения моей поэмы „Братья“ – просит изменить тон и не хвалить Гарибальди. Изменить тон я не соглашаюсь, делать исключения дозволяю – неволя велит: деньги получены вперед за рукопись и, издержав их, воротить не могу – средств не хватает».
Неудивительно, что последние главы поэмы «Русский вестник» не напечатал: они были неприемлемы для такого убежденного монархиста, каким был Катков.
Новая жена Полонского, по словам Елены Андреевны Штакеншнейдер, первое время была холодной и молчаливой, «как статуя». «Потом обошлось, они сжились. Голубиная душа отогрела статую, и статуя ожила».
Летом 1868 года у них родился сын. Назвали его Александром.
Рождение сына принесло родителям не только радость, но и необходимость новых расходов. Эта необходимость вынудила Полонского вновь принять на себя нерадостную роль домашнего учителя в семье богатых людей. На сей раз его пригласил крупный делец Поляков, наживший миллионы на строительстве железных дорог. Он предложил Полонскому пять тысяч в год. Таких денег бедному поэту еще никто никогда не предлагал…
Он мог взять на себя обязанности домашнего учителя, не оставляя службы в комитете иностранной цензуры. Мог совмещать. Будучи младшим цензором, обязан был являться на службу раз в неделю, на остальные дни ему давали работу на дом – груду новых иностранных журналов и книг, – следовало разрешить их или не разрешить к продаже в России. Полонскому давали на прочтение журналы и книги на французском, английском и итальянском языках. По-французски он уже читал довольно свободно, по-английски и по-итальянски – с трудом, никак не без помощи словаря. Но он не столько читал, сколько просматривал, так что свободного от служебных занятий времени оставалось достаточно.
Он писал Тургеневу, что есть много причин, заставляющих его согласиться на предложение Полякова:
«Первая из них – жажда хоть когда-нибудь на закате дней добиться независимости, о которой я мечтал всю жизнь и которая мне, вечному рабу безденежья, никогда не удавалась, – для того, чтобы иметь возможность поселиться и жить в более благодатном климате (хоть в России), для того, чтобы писать не для журналов и не для цензуры – а так, как бог на душу положит. Надо годика на три или четыре закабалить себя – приготовить моего птенца [сына Полякова] к какому-нибудь общественному заведению, хоть к 1 классу гимназии, потом раскланяться и удалиться хоть с небольшими средствами».
У Полякова было три дочери и – самый младший – сын Даниэль, которого дома звали Котей, предельно избалованный мальчик лет семи.
Летом 1869 года Полонский принял предложение Полякова и должен был ехать с ним в Липецк – на липецкие минеральные воды.
Как железнодорожный магнат, Поляков разъезжал в особом вагоне.
Полонский рассказывал в письме к жене, как они выехали из Москвы на юг: «В вагоне ехали Поляков Самуил Соломонович, казначей Майден с женой, с двумя сестрами жены – очень милыми, образованными и приличными особами, профессор медицинского факультета Кох – красивый и очень любезный старик, в белом галстуке и, по моему мнению, очень похожий в профиль на Гете – того Гете, который поддерживает нашу керосиновую лампу». Стены вагона оказались обиты бархатом и увешаны зеркалами. «В вагоне были всякие удобства и роскоши, была зельтерская вода – в изобилии, были сливы, апельсины, конфеты, сухой шоколад и превосходные сигары, но твоему мужу пришлось не спать, ибо все места были заняты и я должен был спать сидя. И что я ни делал, чтоб заснуть, никак не мог, – так прошла бессонная ночь; несмотря на грозу ночью и несмотря на то, что все почти окна были открыты, жара была страшная – даже ночью».
В августе семья Поляковых вместе с домашним доктором, (Кохом) и домашним учителем (Полонским) перекочевала «в великолепном, чуть ли не в царском вагоне» из Липецка в Харьков.
В Харькове Полякову пришло по телеграфу известие, что строительство железной дороги в Крым предоставляется ему. «Поляков просиял, – рассказывал Полонский в письме к жене, – да и нельзя не просиять – новые миллионы впереди ожидаются».
Наконец они вернулись в Петербург.
Поляков снял для семьи прекрасную квартиру в доме на Исаакиевской площади. В том же доме пришлось нанять квартиру и Полонскому – только подешевле.
Он замечал, что расходы его растут и откладывать удается гораздо меньше, чем он предполагал.
Он рассказывал в письме к Тургеневу:
«Встаю я в 7 часов утра, стало быть, и по ночам работать [над сочинениями своими] не могу, а и без работы страдаю бессонницей и часто дремлю целый день, перемогаясь и бодрясь.
Не за легкое взялся я дело.
В доме меня все любят и уважают, но мне от этого не много легче. Что всего более меня смущает, это то, что едва ли и цель моя будет достигнута, т. е. цель составить себе на старость хоть какой-нибудь капиталец ради спокойной жизни или хоть ради воспитания моего сына».
О службе своей у Полякова писал он Тургеневу и в другом письме:
«На этот новый шаг в моей жизни я смотрю как на выгодное для себя несчастие – как на такое несчастие, которому многие завидуют и которого я стыжусь…»
Петербургский издатель Вольф предпринял издание сочинений Полонского в четырех томах.
В сентябре 1869 года «Отечественные записки» напечатали отзыв на вышедшие первые два тома. Отзыв без подписи, но в литературных кругах не было секретом, что автор его – такой известный писатель, как Салтыков-Щедрин.
Щедрин отозвался о Полонском сурово и едко:
«По-видимому, он эклектик, то есть берет дань со всех литературных школ, не увлекаясь их действительно характеристическими сторонами… Бесконечная канитель слов, связь между которыми обусловливается лишь знаками препинания: несносная пугливость мысли, не могущей вызвать ни одного определенного образа, формулировать ни одного ясного понятия; туманная расплывчатость выражения, заставляющая в каждом слове предполагать какую-то неприятную загадку, – вот все, чем может наградить своего читателя второстепенный писатель-эклектик… С именем каждого писателя (или почти каждого) соединяется в глазах публики представление о какой-нибудь физиономии, хорошей или плохой; с именем г. Полонского не сопрягается ничего определенного. Во внутреннем содержании его сочинений нет ничего, что поражало бы дикостью; напротив того, он любит науки и привязан к добродетели, он стоит почти всегда на стороне прогресса, и все это, однако ж, не только не ставится ему в заслугу, но просто-напросто совсем не примечается. Начните читать любое стихотворение этого автора, и вы можете быть уверены, что во время чтения будете чувствовать себя довольно хорошо; но когда вы кончите, то непременно спросите себя: что ж дальше?»
Щедрин далее привел для примера слабое стихотворение «Царство науки не знает предела…», которое счел, однако, «одним из лучших во всем собрании», дал уничтожающий его разбор и закончил отзыв словами: «Пора наконец приучаться употреблять слова в их действительном значении, пора и поэтам понять, что они должны прежде всего отдать самим себе строгий отчет в том, что они желают сказать».
Тургенев, прочитав этот отзыв, решил выступить в защиту Полонского и написал открытое письмо в «Санкт-Петербургские ведомости». В письме заявлял, что критик, произнесший подобный приговор поэзии Полонского, тем самым показал, что
«лишен чутья– понимать, лишен умения проникнуть в чужую личность, в ее особенность и значение». И если про кого должно сказать, что он «пьет хотя из маленького, но из своегостакана, так это именно про Полонского. Худо ли, хорошо ли он поет, но поет уж точно по-своему». «Талант его представляет особенную, ему лишь одному свойственную, смесь простодушной грации, свободной образности языка, на котором еще лежит отблеск пушкинского изящества, и какой-то иногда неловкой, но всегда любезной честности и правдивости впечатлений». В заключение Тургенев не удержался от резких слов по адресу Некрасова, которого не любил. «Что же касается до критика „Отечественных записок“, – написал Тургенев, – то ограничусь тем, что выражу ему одно мое убеждение, над которым он, вероятно, вдоволь посмеется. Нет никакого сомнения, что в его глазах патрон его [редактор журнала], г. Некрасов, неизмеримо выше Полонского, что даже странно сопоставлять эти два имени; а я убежден, что любители русской словесности будут еще перечитывать лучшие стихотворения Полонского, когда самое имя г. Некрасова покроется забвением. Почему же это? А просто потому, что в деле поэзии живуча только одна поэзия и что в белыми нитками сшитых, всякими пряностями приправленных, мучительно высиженных измышлениях „скорбной“ музы г. Некрасова – ее-то, поэзии, и нет ни на грош…»
Письмо Тургенева появилось на страницах газеты.
«Читая письмо твое, – написал ему Полонский, – я чувствовал то же самое, что, вероятно, чувствует полувысохшее в зной растение, когда его поливают.
Но благодарность не исключает правды. Выскажу тебе откровенно, что заключение твое о Некрасове меня немножко покоробило. Ты скажешь мне, что это твое искреннее убеждение, – но не всегда возможна и должна быть подобная откровенность».
Полонский почувствовал необходимость объясниться с Некрасовым и написал ему по поводу выступления Тургенева в «Санкт-Петербургских ведомостях»: «Из этого письма я увидел, что одна несправедливость в литературе вызывает другую, еще большую несправедливость. Отзыв И. С. Тургенева о стихах Ваших глубоко огорчил меня…»








