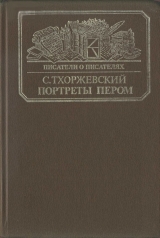
Текст книги "Портреты пером"
Автор книги: Сергей Тхоржевский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 31 страниц)
Сохраню ль к судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?
А. С. Пушкин
В Париже революция! Во Франции провозглашена республика! Эти известия взбудоражили весной 1848 года весь Петербург.
Император Николай решил, что надо стеной оградить Россию от проникновения революционных идей. Он повелел учредить негласный комитет высшего надзора за духом и направлением всего, что печатается в России. Комитет должен был с пристрастием рассматривать то, что уже вышло из печати, контролировать таким путем цензуру и о всех наблюдениях доводить «до высочайшего сведения». Во главе «комитета 2 апреля», как его называли, был поставлен действительный тайный советник Бутурлин, человек деспотичный и желчный.
Бутурлин рьяно принялся исполнять указания царя. Любая книга бралась им под подозрение.
Даже в напечатанном церковном акафисте покрову божьей матери Бутурлин усмотрел революционные фразы, кои следует вырезать из текста. Он сказал об этом министру юстиции графу Блудову. Блудов ответил, что видеть в тексте акафиста что-то предосудительное – значит осуждать святого Дмитрия Ростовского, который сочинил сей акафист.
– Кто бы ни сочинил, тут есть опасные выражения, – настаивал Бутурлин. – «Радуйся, незримое укрощение владык жестоких и своенравных…»
Блудов сказал:
– Вы и в Евангелии встретите выражения, осуждающие злых правителей.
– Так что ж? – возразил Бутурлин и уже как бы в шутку добавил: – Если б Евангелие не была такая известная книга, конечно, надобно б было цензуре исправить ее.
В докладах Бутурлина, барона Корфа и других членов «комитета 2 апреля» особо неблагоприятный отзыв давался о журнале «Отечественные записки».
Редактора журнала Краевского вызвал к себе Дубельт – для объяснений. О своем визите в Третье отделение Краевский затем рассказал Никитенко, и тот не решился занести услышанное в дневник. Лишь по его позднейшим воспоминаниям мы знаем, что в тот день Дубельт сказал Краевскому.
– Ну что, милейший мой, – начал Дубельт. – Что вы, господа литераторы, все нападаете да нападаете на всех русских, на Россию…
«Краевский стал объяснять, – рассказывает Никитенко, – что никаких нападок литература себе не позволяет, что указания, какие в ней делаются на недостатки русского общества, исходят из чувства любви к родине…»
– Э-эх, милейший! – сквозь зубы произнес Дубельт. – Если вам станут говорить о любимой женщине, что у нее на руке нарыв, на спине другой, на щеке бородавка и тому подобное, разве вы станете от этого больше ее любить? Нет-с, полноте! Наши писатели так и норовят нас задушить! Только я вам скажу, голубчик, пока еще вы будете собираться, я вас всех перевешаю!
Через несколько дней, на страстной неделе, Краевский снова был вызван в Третье отделение, на сей раз вдвоем с Никитенко, который с прошлого года официально числился редактором «Современника» вместо Плетнева.
Ждал их граф Орлов, шеф жандармов. Можно себе представить, как они, пригнув голову и холодея, вошли к нему в кабинет.
«Громадная фигура Орлова поднялась перед нами…» – вспоминает Никитенко. Сжав кулак, Орлов потребовал от обоих редакторов подписку о том, что они ничего не будут печатать против правительства. Разумеется, Краевский и Никитенко тут же дали эту подписку.
Орлов сел и продолжал:
– Ведь вот вы пойдете и будете говорить, что Орлов человек необразованный, грубый… Но я вам скажу: я до могилы буду защищать моего государя! Если у меня голову отрубят, то мое туловище встанет на защиту престола моего государя!
Краевский и Никитенко стояли, не смея проронить слово.
– Вот у вас Белинский! – продолжал Орлов. – Чего только он не пишет! Чего только не трогает! Он…
– Ваше сиятельство, – робко прервал era Никитенко, – Белинский уже так болен, что смерть его неизбежна…
– Ну и царство ему небесное! – воскликнул Орлов, перекрестясь. – Для него же лучше, что помрет…
Когда оба редактора вышли – дай бог ноги – из Третьего отделения на набережную Фонтанки, Никитенко спросил Краевского:
– Скажите, Андрей Александрович, что вы подумали, когда Орлов подошел к вам с поднятым кулаком?
– Я подумал, что он начнет нас колотить:
– Представьте, то же подумал и я, – сказал Никитенко.
После этого дня к «Отечественным запискам» был приставлен новый цензор, который принял возложенную на него обязанность, как тяжкое бремя. Рад был бы от нее отказаться, но не посмел… В совершенно подавленном состоянии пришел к Краевскому и сказал:
– Ну, Андрей Александрович, и вы, как редактор, и я, как цензор, оба мы предназначены в Сибирь, так поведем уж дело так, чтоб отдалить эту поездку на возможно дальний срок. Начнем так и действовать.
В мае царь при встрече с бароном Корфом спросил:
– Ну, а что теперь Краевский после сделанной ему головомойки?
– Я в эту минуту именно, – сказал Корф, – читаю майскую книжку и нахожу в ней совершенную перемену, совсем другое направление… Повешенный над журналистами дамоклов меч, видимо, приносит свои плоды.
А в конце мая умер от чахотки Белинский, которому этот журнал был обязан огромной своей популярностью. Белинский умер как раз тогда, когда «комитет 2 апреля», вкупе с Третьим отделением решили зажать ему рот.
Редактору «Литературной газеты» Зотову Сергей Дуров предложил тогда фельетон под заголовком «Опыт перевода с русского языка». В этом фельетоне Дуров едко замечал, что ныне в русском языке слова употребляются в противоречии с их подлинным смыслом. «Да употребляется там, где следует нет,а нетупотребляется вместо да».Бывают случаи, «когда вас спрашивают, довольны ли вы настоящим порядком вещей» (редактор Зотов зачеркнул «настоящим порядком вещей» и вписал «вашею судьбою, вашим положением»), «вы говорите да,а между тем неттак и рвется из сердца». И вот уже слова требуют истолкования, перевода. «Добрый начальник – значит злейший враг общества… Поэт – сумасшедший. Помещик – грабитель. Судья – долженствующий быть подсудимым. Крестьянин – ничто». Зотов собственноручно внес исправления, вместо «добрый начальник» поставил «добрая душа», вместо «судья» – «делец», вместо «крестьянин» – «бедняк», про помещика вообще вычеркнул.
Затем уже цензор сократил фельетон вполовину. Он вычеркнул и то, что было исправлено редактором. От перечня по-новому понимаемых слов осталась в напечатанной газете одна исправленная фраза: «Поэт – часто значит сумасшедший».
«Когда по случаю западных происшествий, – рассказывает Баласогло, – ценсура всею своею массой обрушилась на русскую литературу и, так сказать, весь литературно-либеральный город прекратил по домам положенные [приемные] дни, один Петрашевский нимало не поколебался принимать у себя своих друзей и коротких знакомых – это обстоятельство, признаюсь, привязало меня к человеку навеки. Он, как и все его гости, очень хорошо знал, что правительство, внимая чьим бы то ни было ябедам… во всякую минуту могло схватить, так сказать, весь его вечер», но не смутился духом, ибо «веровал в то, что исповедовал».
А вот что свидетельствует сам Петрашевский: «Не раз говорил я моим знакомым – это едва ли не всем было хорошо известно, – что тайная полиция давно уже на меня пристально смотрит, что – правый или виноватый – я должен ждать первый ее захвата и что их тоже может постигнуть та же участь. Но потребность разумной беседы была так сильна, что заставляла пренебрегать этим…»
Один из самых заметных участников собраний у Петрашевского, Николай Спешнев, говорил о том, «что с тех пор, как стоит наша бедная Россия, в ней всегда и возможен был только один способ словесного распространения – изустный, что для письменного слова всегда была какая-нибудь невозможность. Оттого-то, господа, так как нам осталось одно изустное слово, то я и намерен пользоваться им…»
На собраниях у Петрашевского председательствующий обычно звонил в колокольчик, когда кто-либо собирался начать речь. Слухи об этом расползлись по городу, причем колокольчик толковался как явный признак организованного опасного общества. Баласогло рассказывает: «…я не раз просил Петрашевского удалить со стола, во избежание всяких толков в городе, колокольчик в другую комнату; но он мне отвечал: „Собака лает – ветер носит! Если уж толкуют, значит, будут толковать и о том, что у Петрашевского уже нет на столе колокольчика, а поэтому и не видно, кто председатель!“ И он был совершенно прав».
Баласогло сознавал все трудности и препоны на своем пути, но стремление к издательской деятельности продолжало жить в нем, не угасая.
Павел Кузьмин, весной получив наследство, хотел купить себе в Петербурге небольшой дом, и Александр Пантелеевич мог надеяться, что Кузьмин, став домовладельцем, предоставит за умеренную плату помещение для типографии, для граверов и рисовальщиков и лично для него, Баласогло.
В июне Кузьмин ехал по командировке Генерального штаба в Тамбовскую губернию. В его отсутствие Александр Пантелеевич сам искал ему в Петербурге дом. «Мне, собственно, желательно было, чтобы дом отыскался на Васильевском острове, так как там Академия художеств и все художники по большей части живут около нее; а для моих целей это было весьма важно». В августе Кузьмин в письме из Тамбова благодарил его за содействие, замечал: «Что же касается убежища, то это не подлежит и сомнению, именно – зажили бы мы на славу». В конце письма сделал приписку: «Не лучше ли дом Шишкина в Коломне, возле М. В.?» Это значило – возле Михаила Васильевича Петрашевского. С ним Баласогло познакомил Кузьмина еще весной…
К сожалению, подходящий дом, удобный и дешевый – по средствам Кузьмина, – найти не удавалось.
В семье Баласогло родилось еще два сына: в 1846-м – Ростислав и в 1848-м – Всеволод. Мария Кирилловна не умела быть экономной и рачительной хозяйкой, дети питались чем придется и болели «английской болезнью» (то есть рахитом). У дочки от этого появилось заметное искривление позвоночника, бедняжка росла кривобокой.

Денег в семье постоянно не хватало, хотя Александр Пантелеевич уже имел чин надворного советника и получал две с половиной тысячи в год. Себе лично он позволял лишь один ощутимый расход – покупал книги. У него уже составилась большая, любовно подобранная библиотека.
Мария Кирилловна с детства немного музицировала и теперь – за небольшую плату – давала уроки музыки в частных домах, хотя ее собственная игра на фортепьяно была далека от совершенства. Минувшей зимой, по совету мужа, она сама брала уроки у молодого пианиста Николая Кашевского, друга Пальма и Дурова.
На квартире Баласогло в Кирпичном переулке этот учитель музыки познакомился с Петрашевским. И оказался тоже человеком свободомыслящим. И приглашен был посещать по пятницам собрания друзей.
Не случайно, думается, так получалось, что новые знакомцы Александра Пантелеевича становились знакомыми Петрашевского. Вероятно, оба стремились расширить круг участников собраний… Правда, не все новые знакомцы умели Петрашевского оценить. Преподаватель истории в кадетском корпусе Кропотов по настоятельному совету Баласогло стал посещать собрания, но счел Петрашевского чудаком и оценил только его хлебосольство. А еще ранее заглядывал в этот необычный дом Войцеховский, всего раза два или три. Баласогло рассказывает, что этот его сослуживец, человек сугубо практический, «не нашед себе в обществе Петрашевского никакой солидной пищи, тотчас же отстал от его пятниц, как увидел, что тут собираются все философы и фантазеры».
Петрашевский и его друзья увлечены были новейшими социальными теориями Фурье. Петрашевский любил повторять формулу Фурье: «Les tendances sont proportionelles aux destinées» (стремления соответствуют предназначению) – эта формула укрепляла в нем веру в свое призвание, в правильность избранного пути. Фурье утверждал, что страсти человека должны будут слиться, подобно цветам радуги, в одну страсть единения с миром, и тогда будет создано гармоническое общество – без эксплуатации человека человеком, где будет царить свободный труд в соответствии с влечениями каждого, так что исчезнет необходимость принуждения к труду…
Собрания у Петрашевского были для Баласогло радостной возможностью встречать людей, близких ему по духу; вместе с ними, в откровенных разговорах, он пытался заглянуть в будущее…
Дома он себе такой отдушины не находил. Жена была глубоко безразлична к его литературным интересам, к его замыслам. Разговоры с ней никак не могли выйти из круга будничных забот, И кто знает – может быть, с самого начала не было у Марии Кирилловны истинной любви к мужу и он заблуждался, поверив ее рассказам, что она выбрала его среди многих, а в действительности она пошла за него замуж только ради того, чтобы уйти из семьи, где ей нелегко жилось…
Александр Пантелеевич уже признавался друзьям, что женитьбу свою считает тяжелой ошибкой. Он «описывал, сколь умел ярче, все ужасы человека в семействе без верного куска хлеба», уверял, что «для обыкновенного гражданина это еще, пожалуй, хоть сносно, но для ученого или художника – просто смерть». С ним охотно соглашался только Дуров. В свои тридцать с лишним лет Дуров оставался холостяком, считал, что родственные связи опутывают человека, но втайне страдал от ощущения тоскливой незаполненности в сердце и писал такие стихи:
Озябло горячее сердце мое
О стужи дыханья людского…
А с желчным рассудком плохое житье:
Рассудок учитель суровый!..
Холодным намеком, насмешкою злой
Он душу гнетет и тревожит:
Смеется над каждою светлой мечтой,
А тайны открыть нам не может.
Осенью Александр Пантелеевич перебрался на новую квартиру – на Галерной, в доме, который дворовым флигелем примыкал к Румянцевскому музеуму. А музеум выходил фасадом к Неве.
В том же доме жил знакомый ему художник Евстафий Бернардский с женой и двумя детьми. Александр Пантелеевич теперь постоянно захаживал к Бернардскому. Тут собирались друзья, молодые художники – все южане: Константин Трутовский из Харьковской губернии, Лев Лагорио из Феодосии, по происхождению итальянец, и Александр Бейдеман, чья настоящая фамилия звучала немножко иначе – Бейдемани (его отец был греком, как и отец Александра Пантелеевича). Приходил к Бернардскому и Павел Андреевич Федотов, художник необычайного таланта и святой правдивости. Он появлялся реже, так как жил далеко, на 21-й линии Васильевского острова, и неохотно отрывался от своей работы – красками или карандашом…
Вечерами в кругу художников Баласогло с жаром излагал свои планы. Он хотел теперь издавать «Листки искусств». Предполагал, что это будет «род выставки собственно учено-художественных – не беллетристических, не полемических, не фельетонных произведений», при широком участии друзей-художников. Собственно, всякая полемичность была по нынешним временам просто невозможна.
А еще Павел Андреевич Федотов задумал издавать художественно-литературный «листок» с невинным названием «Вечером вместо преферанса» либо «Северный пустозвон». Федотов передал Бернардскому для гравирования много своих рисунков. Но не было средств для издания, не было опыта и, главное, не было разрешения что-либо издавать…
Баласогло мечтал об издании «Листков искусств» – с иной, не юмористической, серьезной программой, о листках по самой дешевой цене и доступных самым широким кругам читателей. В надежде найти мецената, который согласился бы дать деньги на новое издание, Александр Пантелеевич составил, по своему обычаю, обстоятельный проект.
Он писал, что, хотя ни «Художественная газета», ни «Памятник искусств» не удержались «на сцене», по-прежнему жива потребность в журнале, «который бы обозревал весь горизонт искусств», тем более что «большинство русских художников все-таки остается вне возможности совершать свое призвание по собственной мысли и жертвует собою и своими чудными способностями в угоду тех грубых заказывальщиков и поощрителей таланта, которых блаженно почивающие мысли едва тронуты о сю пору „духом века“, этим аквилоном общественной жизни мира, который, доходя до наших гиперборейских пущ, становится едва-едва похожим на самый тиховейный зефир!..»
«Мы хотим издавать, – писал Баласогло, – Листки…по всем главным отраслям искусства:
а. Рисованию и живописи.
б. Ваянию.
в. Зодчеству и убранству жилищ.
г. Музыке.
д. Словесности и театру.
е. Применению искусств ко всем наукам.
…Мы, прежде всего, берем на себя роль посредников, проводников… Кажется, это и будет настоящее служение искусству!
…Мы только думаем, что как вообще в образованном мире долг общежития требует снисходительности и часто внимания к тому, что не совсем согласно с нашим образом мыслей и даже иногда диаметрально ему противоположно, так и в деле суждения об искусстве полезно, если не в высшей степени необходимо, выслушивать все, сколько ни есть, мнения, взвешивая доводы каждого…
…Если б нашлись просвещенные люди, не зараженные всеобщим разочарованием, со средствами двинуть это дело, которое не может осуществиться в течение шестилетних исков, издатель будет рад хотя бы тем 2000 рублей серебром, без которых оно не может быть начато».
Деньги требовались в первую очередь на покупку двух печатных станков. А собственные станки нужны были для того, чтобы не зависеть от владельцев типографий – таких, как Фишер…
На первых двух «Листках» Баласогло предполагал дать стихотворения Лермонтова «Сон» и Пушкина «Русалка» с гравюрами Бернардского по рисункам Бейдемана.
Он рассчитывал, что в дальнейшем в «Листках» примут участие знакомые литераторы: Пальм, Дуров и, может быть, Аполлон Майков.
Вдохновленный своими планами, Баласогло писал: «Это будут Летучие Листки Искусства…»
Но что-то не находилось богатого человека, который бы выразил готовность рискнуть во имя Искусства двумя тысячами рублей.
Наступил 1849 год, не обещавший перемен к лучшему.
Александр Пантелеевич по-прежнему ходил по пятницам к Петрашевскому, вступал в споры, горячился, далеко не всегда был осторожен в словах.
Когда преподаватель статистики Ястржембский в пылу спора заявил напрямик, что в России нет народной любви к царю, Баласогло не скрыл собственной нелюбви к самодержцу.
Когда Дуров заявлял, что «всякому должно показывать зло в самом его начале, то есть в законе и государе, и вооружать подчиненных не противу начальников, которые в свою очередь точно так же подчинены и, следовательно, только невольные проводники зла, но против самого корня, начала зла», – Баласогло вместе с архивистом Кайдановым и студентом Филипповым возражал, говоря, что, «напротив, должновооружать подчиненных противу ближайшей власти или начальства и, вооружив их против нее, тогда уже показать, что самое-то зло происходит не от этой ближайшей власти, но от высшей…»
В страстную пятницу, 1 апреля, вернулся в Петербург из Тамбова Павел Кузьмин. В первый же вечер, желая повидать друзей, он направился на Покровскую площадь, к Петрашевскому.
Тут он встретил Баласогло, пришедшего вместе с Бернардским. Александр Пантелеевич чувствовал себя больным, но все же пересилил недомогание и вот выбрался к Михаилу Васильевичу. И почти весь вечер вынужден был пролежать на диване – не в той комнате, где собралось общество, а в другой, меньшей.
В эту пятницу у Петрашевского собралось человек двадцать, штатских и военных. Совсем молодой Василий Головинский решительно заявлял: «Крестьяне не могут долее сносить своего положения, они готовы восстать… Крестьянам надобно диктатора, который повел бы их!» «Как, – тихо, но твердо прервал его Петрашевский, – диктатора! который бы самоуправно распоряжался! Я ни в ком не терплю самоуправства, и если бы мой лучший друг объявил себя диктатором, я почел бы своею обязанностью тотчас убить его». А Баласогло сказал Головинскому: «Что ж, не на площадь же выходить…» Он, наверно, подумал: ведь вот декабристы выходили на площадь – и ничего этим не добились…
Поручик Момбелли заявил, что если рано думать об освобождении крестьян, то уже теперь священной обязанностью каждой помещика должна была бы стать забота об их образовании, заведение сельских школ. С этим никто не спорил, но поручик Григорьев заметил, что правительство запрещает учреждение школ и деревням, и, например, его брат хотел в своем селе открыть школу, но ему запретили.
Среди участников собрания заметен был мало кому знакомый «блондин небольшого роста» – этот господин, «судя по участию, какое принимал он в разговорах, был не без образования, либерален во мнениях, но участие его было по преимуществу вызывающее других к высказыванию. Особенное внимание его ко мне, – вспоминает Кузьмин, – потчевание заграничными сигарами и вообще нечто вроде ухаживания заставило меня спросить в конце вечера Александра Пантелеевича Баласогло об этом господине; он отвечает, что это итальянчик Антонелли, способный только носить на голове гипсовые фигурки [точнее – лоток с гипсовыми фигурками, – с таких лотков торговали разносчики-итальянцы]. „Для чего он здесь бывает?“ – спросил я. „Да вы знаете, что Михаил Васильевич расположен принять и обласкать каждого встречного на улице“».
Бернардский потом признавался: «…у меня было какое-то невольное предчувствие, когда я у Петрашевского был, какой-то безотчетный страх!»
Александр Пантелеевич болел и выходил из дому только для краткой прогулки днем, по солнцу. Так что следующее собрание у Петрашевского он пропустил и явился к нему лишь через две недели, в очередную пятницу.
Уже он пообещал назавтра, в субботу, быть вечером у Павла Кузьмина, который его очень звал, ручаясь Марии Кирилловне, что доставит мужа к ней здрава и невредима.
Сегодня Кузьмин тоже приехал к Петрашевскому. «Вскоре по приезде, – вспоминает он, – Петрашевский уводит меня в другую комнату и показывает записку, которую передал ему Антонелли от Толя [учитель словесности Феликс Толь был добрым знакомым Петрашевского и Баласогло]. В записке Толь извиняется, что он по причине головной боли не может быть в этот день на вечере; далее, что он переехал в дом Штрауха, где квартирует вместе с Антонелли, и приглашает на другой день… к себе на новоселье, просит пригласить меня и еще некоторых, уверяя, что кроме нашихникого не будет». Принимать это приглашение Петрашевскому совсем не хотелось. А тут Кузьмин в свою очередь пригласил его на завтра к себе. Петрашевский охотно дал согласие. Они вместе вышли в общую комнату, и Кузьмин объяснил Антонелли, что не может прийти на новоселье, так как сам завтра ждет гостей, в том числе Михаила Васильевича.
– Так милости просим с гостями вашими, – сказал Антонелли.
«Мне так странен показался этот способ составлять у себя вечера, – вспоминает Кузьмин, – что я взглянул на Антонелли и, не встретив его взора, отвечал: „Я не думаю, что я мог предложить моим гостям подобное переселение“».
Антонелли спросил, не может ли он все же отложить вечер до воскресенья. Кузьмин объяснил, что вскоре снова уезжает из Петербурга и хочет перед отъездом встретиться с приятелями, а живет он на Васильевском острове, и есть опасение, что по Неве пойдет лед и разведут мосты.
– Теперь лед плох на Неве…
Но Антонелли не отставал. Он сказал Кузьмину, что, вероятно, большая часть его гостей сегодня здесь, так что их можно предупредить…
– Из тех, которые здесь, я просил только господина Петрашевского и господина Баласогло, – ответил Кузьмин и счел долгом вежливости добавить. – Сделайте моему вечеру честь вашим посещением и прошу вас передать мое приглашение господину Толю…
– Кто же еще будет у вас, кого вы не можете привести к нам?
– Будет брат мой, будут гости моих товарищей по квартире, потому что я живу не один.
– Кто же будет? – допытывался Антонелли.
Кузьмин перечислил приглашенных.
Разговор этот произошел в самом начале вечера. Когда все уже были в сборе, известный писатель Федор Михайлович Достоевский прочел вслух ненапечатанное письмо покойного Белинского к Гоголю.
Это письмо привело в восторг всех участников собрания, и особенно Александра Пантелеевича Баласогло.
В письме Белинского он услышал многое, что оказалось необычайно созвучно его собственным мыслям. Белинский писал Гоголю: «Не буду распространяться о вашем дифирамбе любовной связи русского народа с его владыками. Скажу прямо: этот дифирамб ни в ком не вызвал сочувствия…» Далее: «…вы утверждаете за великую и неоспоримую истину, будто простому народу грамота не только не полезна, но и положительно вредна. Что сказать вам на это? Да простит вас ваш византийский бог за эту византийскую мысль, если только, передавши ее бумаге, вы ведали, что творили…» И еще: «Вы, сколько я вижу, не совсем хорошо понимаете русскую публику. Ее характер определяется положением русского общества, в котором кипят и рвутся наружу свежие силы, но, сдавленные тяжелым гнетом, не находя исхода, производят только уныние, тоску, апатию. Только в одной литературе, несмотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и движение вперед».
Назавтра Александр Пантелеевич чувствовал себя так же скверно, но решился выехать из дому, вспомнив, что Павел Кузьмин обещал его познакомить со своим старшим братом Алексеем. Рассказы Павла о старшем брате позволяли Александру Пантелеевичу надеяться, что Алексей Кузьмин окажется тем благодетелем, который рискнет дать деньги на издание «Листков искусств». И, можно сказать, через силу потащился Александр Пантелеевич через Исаакиевский мост на Васильевский остров. Весь вечер он провел в разговорах с Алексеем Кузьминым, но тот, естественно, не считал возможным вот так, сразу дать определенный ответ…
В воскресенье Александр Пантелеевич был на новоселье у Толя и Антонелли.

Не мог он знать, что Антонелли – секретный агент министерства внутренних дел и что уже в одном из первых донесений начальнику, в январе, сообщал о Петрашевском: «Из лиц ему знакомых он говорил только о Баласогло, как о своем приятеле, с которым он часто видится…»
Без приглашения придя впервые на собрание к Петрашевскому, агент услышал первой речь Толя о происхождении религии. Решив, что в этом обществе Толь – одна из главных фигур, агент сразу обратил на него особое внимание. Учитель словесности оказался очень доверчив, его легко было вызвать на откровенный разговор.
Антонелли выспрашивал у Толя, что за цель у их общества. И Толь, поверив, что говорит с единомышленником, объяснил: цель их – «приготовлять способных людей на случай какой-нибудь революции. Чтобы при избрании нового рода правления не было недоразумений и различия мнений, но чтобы большая часть уже были согласными в общих началах. И, наконец, приготовлять массы к восприятию всяких перемен».
Антонелли стал с ним чрезвычайно предупредителен, обещал устроить ему приватные уроки, как учителю словесности. И вот уговорил Толя вместе снять меблированные комнаты и поселиться вдвоем.
В пятницу, 22 апреля, Баласогло встретил у Петрашевского знакомые лица: Дурова, Момбелли, Михаила Достоевского (брат его Федор не пришел), Толя, Антонелли и других. Был один новый посетитель – профессор химии в Технологическом институте Витт. Как написал Антонелли в секретном донесении, «про этого последнего Баласогло и Момбелли говорили, что это человек совершенно ортодоксальный, что он враг всех социальных вопросов и совершенно идет противу господствующих в Европе идей; они даже упрекали Петрашевского за то, что он приглашает подобных людей к себе на собрания».
Возможно, присутствие Витта заставило всех быть более осторожными в разговоре, чем обычно. Петрашевский с досадой говорил о том, что русским литераторам недостает образования, а журналистам – стремления к истине и что на цензоров можно воздействовать убеждением. Дуров спорил с ним, говорил, что на цензоров нужно действовать не убеждением, а обманом, учитывая, что они «преследуют более фразы и слова, нежели самые идеи…».
«Наконец, после ужина, – доносил Антонелли, – Баласогло попросил позволения, в кругу 5 или 6 еще оставшихся человек, излить свою желчь, и действительно тогда досталось бедным, несчастным литераторам! Он говорил, что это люди тривиальные, без всякого образования, убивающие время в безделье и между тем гордящиеся своими доблестями больше какого-нибудь петуха. Что хоть, например, Достоевские и Дуров, посещающие собрания Петрашевского уже три года, могли бы, кажется, пользоваться от него книгами и хоть наслышкой образовываться… Момбелли заступился тогда и сказал, что не надо бранить тех литераторов, которые принадлежат к их обществу, что их и то уже большая заслуга в наше время, что они разделяют общие с нами идеи. В таким духе разговор продолжался еще часа полтора, и наконец часа в 3 все разошлись по домам».
…А на рассвете в дом на Галерной, где жили Баласогло и Бернардский, явились жандармы и арестовали обоих.








