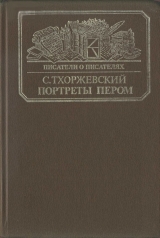
Текст книги "Портреты пером"
Автор книги: Сергей Тхоржевский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 31 страниц)
«Ты пишешь, что попал в море семейных споров, несогласий и хлопот в твоей семье и удивляешься пошлости, тривиальности, глупому порядку жизни в Рязани», – писал Золотарев Полонскому в ответ на письмо с рассказом о приезде к отцу в Рязань.
Полонский тогда ясно ощутил, как отдалился он от своих родных, от их быта, от узкого круга их интересов и забот. И отец, который любил его, жил словно бы в ином мире. Озабоченный материальным и служебным положением сына, он был безразличен к его призванию литератора.
Яков Полонский задержался в Рязани всего на несколько дней.
Еще в Тифлисе он составил для себя список знакомых, которых непременно надо посетить в Москве и в Петербурге. В списке московских знакомых первым у него значился доктор Постников. Потому что в доме доктора можно было надеяться встретить Соню или ее сестру.
Правда, Соня уже носила другую фамилию – Дурново, она недавно вышла замуж, и, вероятно, Полонский об этом уже знал…
Застревать в Москве он теперь не собирался. У Постникова был, но увидеть Соню не привелось. Навестил многих знакомых – Вельтмана, Аполлона Григорьева, Кублицкого и других. Заглянул по старой памяти в университет, пожал руку университетскому сторожу Михалычу.
Кублицкий теперь считал себя музыкальным критиком: печатались иногда в «Московских ведомостях» его отзывы о спектаклях и концертах. При этом он, по словам Полонского, «очень гордился своим кабриолетом, своим костюмом, кой-какими успехами у дам и своими рецензиями…»
Григорьев снова жил в Москве. Он уже был постоянным критиком журнала «Москвитянин». Полонский прочел ему вслух «Дареджану», и Григорьев нашел, что эта вещь не без достоинств.
Надо было двигаться дальше.
Солнечным утром запряженный четверкой лошадей дилижанс привез его в Петербург.
Надежды свои возлагал Полонский в первую очередь на рекомендательное письмо князя Воронцова – касательно «Дареджаны» – директору императорских театров Гедеонову.
«Гедеонов принял меня гордо и холодно, – вспоминает Полонский, – не как заезжего гостя, а как подчиненного, пробежал письмо князя наместника и сказал мне, чтобы я потрудился за ответом обратиться в Третье отделение». То есть в то самое грозное учреждение, что вело тайный контроль за направлением умов и могло всякую неблагонадежную личность скрутить в бараний рог.
К кому же именно следовало обратиться? Гедеонов «назвал мне лицо (фамилии которого я не помню)… – рассказывает Полонский. – Я отнес ему рукопись Дареджаны– он принял ее и обещал мне свое содействие. Через месяц или два это же лицо с необыкновенной ласковостью в глазах и голосе убеждало меня, что драма моя не может быть на сцену допущена – по той простой причине, что она историческая, а историческая она потому, что в ней действуют цари и царицы – хоть и имеретинские 17 столетия – и все-таки невозможные для сценического представления. Лицо (очень приличное, длинноватое, гладко выбритое, с хитрым блеском в серых глазах и с тонкими улыбающимися губами) советовало мне отечески о драме отложить всякое попечение и написать что-нибудь другое, а лучше всего ничего не писать».
Полонскому стало ясно: шансов напечатать «Дареджану» в Петербурге нет. Что ж оставалось делать? Он сразу же переслал рукопись драмы в Москву – Кублицкому. В письмах Кублицкому и Григорьеву просил попытаться пристроить ее в «Москвитянин».
Получил он письмо от Сони – теперь уже Софьи Михайловны Дурново – и взволнованно отвечал:
«Я в сотый раз перечитываю письмо ваше и вижу, что на него отвечать никогда не поздно – но что отвечать? – что я помню все – что я уважаю вас – что видеть и слышать вас желал бы от всей души, от всего сердца – зачем? Я и сам не знаю. Много прожил с тех пор, как мы расстались… Из этого омута страстей и впечатлений, всего того, что мы называем жизнью, душа моя вынесла и до сих пор сохраняет свято образ ваш…
Вы пишете, что стали женщиной довольно пустой и нелепой,я вам не верю – что вам за охота унижать себя. В вас был такой богатый запас всего истинно прекрасного и прекрасно женственного, что я не верю вам – не верю точно так же, как когда-то я не верил вашему сердцу – и не ошибаюсь точно так же, как я не ошибался за несколько дней до моего выезда из Москвы…
Вы пишете, что во имя дружбы я многое могу простить,извинить вам. Боже мой! В чем вы виноваты? В чем я могу обвинять вас. Разве не довольно для меня и того, что вы меня помните. Я был прав, когда без цели, без плана ускакал из Москвы, чтобы только испытать себя, чтоб не обмануть и не обмануться.Вы были также правы, когда отдали ваше сердце другому. И всего лучше обратиться к настоящему – как вы поживаете, что делаете? Скучны или веселы? Пишите к вашему старому другу!»
Она больше не написала ничего.
И что-то ни от Кублицкого, ни от Григорьева не было никакого ответа. Прождав месяца два и уже совершенно упав духом, Полонский послал письмо редактору «Москвитянина» Погодину – хотел узнать наконец о судьбе рукописи.
Другое письмо послал Золотареву. Спрашивал совета: не махнуть ли рукой на свою злосчастную драму и не вернуться ли, не задерживаясь дольше, в Тифлис?
За август и сентябрь ему из Тифлиса еще высылали жалованье, но затем перестали высылать. Не мог же он рассчитывать, что ему будут платить жалованье за время самовольной задержки в отпуске.
Однако Золотарев написал: «…советую оставаться в Петербурге… Подумай, во что обойдется дорога сюда, снова обзаведение всем нужным…»
«Вернуться на Кавказ я не мог, – вспоминает Полонский, – на дорогу не хватало денег, занять было не у кого – и я послал в Тифлис просьбу об отставке – признаюсь, послал не без невольного сожаления».
Утешало одно: Погодин взялся напечатать «Дареджану» в своем журнале.
В апреле 1852 года Полонский ненадолго прикатил в Москву. Драма его печаталась в «Москвитянине» с цензорскими исправлениями и сокращениями – начиная с заголовка «Дареджана, царица Имеретинская» – тут было вычеркнуто слово «царица».
Никакого успеха автору «Дареджана» не принесла. Журнал «Современник» поместил краткий и, надо признать, справедливый отзыв: «…г. Полонский человек несомненно даровитый, он пишет очень хорошие стихи, которые, между прочим, печатались и в „Современнике“, но это еще не значит, что г. Полонский может создать драму».
Денег она ему тоже не принесла. Сохранилась записка Полонского, посланная Погодину в Москве: «Письменно я прошу вас о том же, о чем просил вас лично. Вы должны мне девяносто семь руб. 75 копеек; без этих денег не могу я двинуться в Петербург… Приехал бы сам, да дороги извозчики».
В Петербурге он снимал комнату в дешевой квартире на углу Колокольной и Дмитровского переулка. На службу устроиться не удавалось. За стихи в журналах платили ему по пятнадцать копеек за строку.
Ежедневно он шатался по Невскому проспекту, где всегда мог встретить кого-нибудь из новых знакомых.
В Петербурге «судьба свела меня, – рассказывает Полонский, – с одним милейшим человеком, всеми силами души своей преданным литературе, образованным, страстным любителем поэзии – почти энтузиастом – и в то же время простейшим из простейших смертных. Этот человек был маленького роста, худенький, одетый щеголевато, постоянно в желтых перчатках и в круглой новомодной шляпе, но – бледный, как мертвец». Его «как бы не совсем прорезанные глаза казались двумя черными щелками» под высоко поднятыми черными бровями. По близорукости он носил очки.
Это был молодой литератор Михаил Илларионович Михайлов. «Мы сошлись с ним сразу, – вспоминает Полонский, – я прочел ему свой рассказ „Тифлисские сакли“, он наизусть прочел мне мои же стихотворения». И пригласил Полонского к себе – жил он на Малой Морской.
Полонский пришел, поднялся на четвертый этаж.
– Слушай, хочешь жить со мной рядом? – спросил Михайлов, едва Полонский вошел в его комнату.
– Разумеется, хочу, а что?
– Есть комната, пятнадцать рублей в месяц. Хочешь, посмотрим?
Вышли в коридор, Михайлов открыл соседнюю дверь. Предлагаемая свободная комната оказалась маленькой, с одним окном, зато чистой, с паркетным полом и высоким потолком. «Сразу она мне понравилась, – вспоминает Полонский, – позвали мы хозяйку и условились, на другой же день я переехал».
У хозяйки квартиры, польской дамы, был слуга Сигизмунд, по утрам он приносил самовар в комнату к Михайлову, затем стучался к Полонскому – звал чай пить.
Так что виделись они теперь каждый день; «чай, сахар, булки покупались на общие деньги, – вспоминает Полонский, – только обедали мы порознь – где бог послал. Естественно, что, поселившись так комфортабельно, надо было добывать средства» на повседневные расходы – хотя бы рублей тридцать в месяц.
Хорошо еще, что на том же этаже, только в другой квартире, жил доктор Каталинский: «Каталинского мы все называли литературным доктором, потому что ни с одного литератора за визиты он никогда не брал ни копейки».
Встретился Полонский с художниками, знакомыми по Тифлису, – Бейдеманом и Тиммом.
Бейдеман принимал его радушно у себя, но о тифлисском долге своем – о восьмидесяти рублях – словно бы начисто забыл, а Полонский стеснялся напомнить.
В июльском номере «Отечественных записок» был напечатан его рассказ «Тифлисские сакли», сокращенный безбожно. Упоминать в печати о любовницах и содержанках считалось безнравственным, так что цензор не оставил и намека на то, что героиня рассказа Магдана была чьей-то любовницей.
Номер журнала с этим рассказом прочли друзья и знакомые в Тифлисе. Один из них сообщил Полонскому: «Софья как узнала, что вы выставили ее в этой повести, – ужасно рассердилась. Она дала слово никогда не связываться с писателями и потому, кажется, прилепилась к Игнациусу, который ей читал эту повесть». Впрочем, читая «Тифлисские сакли», ни Игнациус и никто другой не могли бы догадаться по тексту рассказа о былых отношениях Полонского и Софьи Гулгаз.
«Читал я на днях твои „ Тифлисские сакли“, – писал ему Золотарев, – цензура сделала из них настоящий тришкин кафтан, обрезала, окорнала, изуродовала… Но ты сам виноват, прислал бы ты твои Саклив их отчизну – и статья твоя явилась бы в ином виде; конечно, может быть, ты не получил бы за них денег, – но едва ли и в Петербурге ты много взял за ⅓ твоего произведения».
Позднее, в другом письме, Золотарев написал: «Я недавно видел на Эриванской площади твою бывшую красавицу, – она все еще хороша, особенно глаза…»
Ради заработка сочинил тогда Полонский рассказ «Глаша». Уже зная по собственному опыту чрезвычайную строгость цензуры, выбрал он тему самую невинную – написал о влюбленности мальчика в сестру товарища. Рассказ приняла к печати редакция журнала «Современник».
Полонский вспоминает:
«Я с величайшим нетерпением ожидал гонорара – и вдруг удар – цензура не пропускает… Решаюсь на другой день самолично явиться к цензору и спросить его.
Являюсь к цензору – рекомендуюсь – говорю ему: так и так, за что такая напасть, помилуйте. Вот уж никак вообразить не мог…
– Э, батюшка! – говорит мне цензор (старичок в очках). – Нет, вы меня не надуете, не надуете! Пожалуйста сюда! Я вам покажу-с, я не придираюсь, помилуйте-с, за что я стану придираться! Вот она-с, ваша повесть… Я всячески желал бы ее отстоять, но не могу-с – никак не могу…
– Да что же в ней такое?
– А вот, извольте.
Оказалось, что я имел дерзость поместить лампадку в головах кроватки, на которой спал мой маленький герой, таким образом, что лампадка освещала его ноги.
– Это кощунство! – воскликнул цензор. – Это вы не без умысла…»
Полонский пытался уверить его, что никакого кощунства тут нет.
В конце концов, про лампадку можно вообще вычеркнуть… Оказалось, однако, что цензор имеет и другую, более существенную претензию: в рассказе изображена школа, причем «всякий может вообразить себе, что это гимназия», а гимназию вообще изображать в печати не дозволено. Но почему ж? А просто – нельзя, и все тут.
– Мне самому за вас достанется, – говорил цензор. – Я сам нахожусь под вечным страхом.
Расстроенный автор ушел ни с чем.
Написал он после этого другой рассказ – «Статуя весны». На сей раз – о шестилетнем мальчике, который в школу еще не ходит. Рассказ принял в «Отечественные записки» Краевский.
«Заранее расчел, что получу около 100 рублей и расплачусь с кем следует… – вспоминает Полонский. – Проходит недели две – вдруг записка от Краевского.
Съездите, пишет он, к цензору, узнайте, отчего не пропускает он вашего рассказа…
Теперь старичок в очках встретил меня и пригласил в кабинет.
– Я опять должен запретить рассказ ваш.
– За что?
– А! Вы от меня не скроете, какого это безнравственного мальчика вы нам вздумали изобразить!»
Старичок заявил, что ребенок, глядя на статуэтку, видимо, имел дурные эротические помыслы. Так что печатать рассказ невозможно…
Позднее Полонскому все же удалось напечатать оба рассказа – в сильно измененном виде. Вычеркнул все, что вызывало возражения. «Глашу» переименовал в «Груню» – наверно, для того, чтобы представить как якобы совсем новый рассказ.
В общем, литературным трудом прокормиться не удавалось. Осенью 1853 года Полонский поступил домашним учителем в дом генерал-майора графа Павла Матвеевича Толстого. Взялся подготовить пятнадцатилетнего сына графа к поступлению в самое привилегированное учебное заведение – Пажеский корпус.
В ноябре ему пришлось уехать в Варшаву вместе с семьей Толстых. Дорогой он зябнул в экипаже; от холода – а может, не только от холода – из глаз его катились слезы.
В Варшаве Толстой снял квартиру на Крулевской (Королевской) улице. В этой квартире у графа часто бывали гости, но никто не обращал внимания на домашнего учителя, «одинокого посреди многолюдства». Должно быть, знакомства Толстого были тут ограничены узким кругом русских офицеров и чиновников, служивших в Варшаве.
Зимой Полонский написал знакомому литератору Гаевскому в Петербург: «Кланяйтесь от меня Андрею Александровичу Краевскому, спросите его, правда ли, что о Варшаве запрещено печатать, я бы мог прислать ему несколько варшавских писем… да что даром хлопотать – как нельзя!.. Тоска меня не покидает, но я привык к ней, начинаю понимать по-польски, но сам еще плохо говорю…»
Весной он вместе с Толстым вернулся в Петербург.
Летом они ездили в подмосковное имение поэтессы графини Ростопчиной – Вороново. Ростопчина к тому времени разорилась, и Толстой покупал ее имение.
Сын его поступил в Пажеский корпус, и Полонский с Толстыми расстался.
«Живу теперь сам по себе на новой квартире, – сообщал он в письме Николаю Щербине в Москву, – и пробавляюсь уроками, яко же и вы. Квартира моя находится на Гороховой, близ Адмиралтейской площади… В Питере легче находить труд, чем в Москве. В Москве, напротив, легче жить без труда. Москва глядит – Питер шлифует и нередко зашлифовывает людей до смерти. Много горя я здесь перенес – и этого горя никто не знает. Питер учит притворяться и прикидываться спокойным… Кланяйтесь герою нашего времени Кублицкому».
В конце лета 1855 года вышел из печати новый сборник стихотворений Полонского – впервые вышел в Петербурге.
Об этом сборнике он слышал единодушные похвалы. В «Отечественных записках» прочел о себе такой отзыв: «В особенную заслугу г. Полонскому поставим мы прежде всего отсутствие в его стихотворениях общих мест, давно заученных фраз, избитых, истертых предметов песнопения, обветшалых чувств, полинялых картин, заплесневелых мыслей. Мы не хотим сказать этим, чтоб поэт воспевал что-нибудь новое, – нет, содержание его стихотворений взято из окружающего нас обыденного мира; но г. Полонский придает новый колорит этим предметам, освещает их новым светом, смотрит на них иначе, нежели смотрели другие».
В журнале «Современник» редактор его, поэт Николай Алексеевич Некрасов, поместил рецензию, в которой отмечал: «…произведения г. Полонского, кроме достоинства литературного, постоянно запечатлены колоритом симпатичной и благородной личности».
Дочь известного в Петербурге архитектора Штакеншнейдера писала тогда в дневнике:
«Поэтов изображают с лирой в руках, но у Полонского в руках не лира, а золотая арфа. Он так чуток, он передает такие для простых смертных неуловимые звуки человеческого сердца или природы, что кажется чем-то нездешним, небывалым; он, кажется, в самом деле имеет дар слышать, как растет трава».
В доме Штакеншнейдера на Миллионной улице Полонский стал бывать с прошлой зимы. Здесь был своего рода литературный салон: по вечерам за чайным столом собирались поэты Владимир Григорьевич Бенедиктов, Аполлон Николаевич Майков, Николай Федорович Щербина. С Майковым и Щербиной Полонский уже был знаком, с Бенедиктовым встретился тут впервые. «Он казался чистеньким, скромным, даже несколько застенчивым чиновником, – вспоминает Полонский, – глядел несколько исподлобья, говорил мало, улыбался добродушно, и только изредка в глазах его мелькал огонек светлого ума, и только иногда, когда он читал стихи (свои или чужие), голос его, густой и певучий, возвышался и становился неузнаваемым… Лично для меня он не был симпатичен, чувствовалось, что он несообщителен, неоткровенен и, быть может, внутренне недоволен собой и что, как улитка в раковину, при посторонних уходит и прячется душа его».
Бенедиктов особенно любил семью Штакеншнейдер.
В этом доме гостей встречала жена архитектора, Мария Федоровна; муж ее, Андрей Иванович, высокий, худой, неразговорчивый, появлялся далеко не всякий раз и большей частью молчал. Дочь Елена (по-домашнему – Леля) встречала гостей сидя в кресле, она была калекой и не могла ходить без костылей.
Снова предложили Полонскому место домашнего учителя. Жалованье – полторы тысячи в год.
Петербургский губернатор Николай Михайлович Смирнов пригласил его в свой дом быть учителем и воспитателем девятилетнего Миши, единственного сына Смирнова. В семье было еще три дочери, мальчик был самым младшим.
Полонский согласился. В доме Смирнова на Торговой улице ему отвели комнату в первом этаже, окном во двор.
В доме главенствовала жена Смирнова, Александра Осиповна урожденная Россет. Это о ней в свое время писал Пушкин:
Смеялась над толпою вздорной,
Судила здраво и светло,
И шутки злости самой черной
Писала прямо набело.
Теперь ей было сорок шесть лет. Полонскому запомнилось «сухое, бледное лицо ее, черные строгие глаза и правильный тонкий профиль». «Шутки злости самой черной» можно было услышать от нее и теперь, но уже далеко не всегда она «судила здраво и светло».
Быть учителем ее сына оказалось совсем не просто.
«Больная, нервная, озлобленная на мир, пиетически православная, она беспрестанно звала меня читать ей жития святых, – вспоминает Полонский. – Заставляла сына своего учить акафисты, посылала в церковь и всячески старалась изучить мой образ мыслей, что ей никак, однако же, не удавалось».
Кто его понимал – так это Леля Штакеншнейдер. Она записала в дневнике:
«Странный человек Полонский. Я такого еще никогда не видала, да думаю, что и нет другого подобного. Он многим кажется надменным, но мне он надменным не кажется; он просто не от мира сего… Доброты он бесконечной и умен, но странен. И странность его заключается в том, что простых вещей он иногда совсем не понимает или понимает как-то мудрено; а сам между тем простой такой по непосредственности сердечной… Он никогда не рисуется и не играет никакой роли, а всегда является таким, каков он есть».
В доме Смирновых Полонский не то чтобы играл какую-то роль, но усердно отмалчивался в разговорах с Александрой Осиповной.
«Я дал себе слово, – вспоминает он, – не проговариваться и не спорить с ней о религии; я был рад, что схожусь с ней в одном – в ее демократическом взгляде на жизнь.
В этот период своей жизни она действительно казалась демократкой. Презирала придворную жизнь, ненавидела свет и все его внешние условия. Одевалась очень просто и помогала бедным.
Не знаю, поняла ли она меня в то время, но я довольно скоро ее понял и перестал доверять ей. Из-под маски простоты и демократизма просвечивался аристократизм самого утонченного и вонючего свойства, под видом кротости скрывался нравственный деспотизм…»
Летом 1856 года Александра Осиповна решила отправить сына на дачу в Лесное, северное предместье Петербурга.
Полонский вспоминает: «Не хотелось мне переезжать в Лесное. Я хандрил, тосковал, упрекал судьбу свою, которая сделала из меня домашнего учителя, чуть не гувернера».
Александра Осиповна уехала к себе в имение. На даче в Лесном, кроме Полонского и Миши, жила старшая дочь Смирновых, Софья! с мужем, князем Андреем Васильевичем Трубецким, и детьми.
Дачники гуляли в парке, где бывало многолюдно; многие приезжали сюда из города по воскресеньям. Здесь Полонский однажды встретил Бейдемана, и, прогуливаясь под руку, они увидели в парке незнакомую голубоглазую девушку. «Вот с кого бы написать херувимчика!» – шепнул Полонскому Бейдеман.
Оказалось, что зовут ее Терезой, она воспитанница в семье Базилевских, живущих на соседней даче. Она уже просватана и в ближайшее время выходит замуж…
Вскоре проницательные дачницы заметили, на кого Полонский обращает внимание.
– Тереза очень просит вас написать ей какие-нибудь стишки, – сказала ему лукаво Маша Базилевская.
– О, это очень лестно! – ответил он.
И в тот же день, дома, с легкостью сочинил:
Промелькнув одним виденьем,
Для меня вы – светлый сон;
Кто же бредит сновиденьем,
Тот и жалок и смешон…
Встретить вас – и не встречаться,
Видеть вас – и не видаться,
Право, лучше пожелать
Снов подобных не видать…
Маша Базилевская охотно взялась передать стихи и пригласила его в ближайший четверг на бал к ним на дачу.
На другой день Полонский проходил мимо дачи Базилевских и увидел Терезу, она сидела на ступеньках террасы. Они встретились глазами, она смутилась и встала. И сказала неожиданно:
– Каким образом вы… Я вас не знаю… Вы меня вовсе не знаете… Чем же я заслужила ваше посланье? Что оно значит, позвольте вас спросить?
Стало ясно: вовсе она стихов не просила – это была выдумка Маши Базилевской…
Полонский рассказывает:
«Я почувствовал, что сердце у меня захолонуло…
– Вы произвели на меня сильное впечатление, – сказал я, приподнимая плечи и как бы преклоняя свою повинную голову».
В четверг он собрался на бал. «Вечером, часу в десятом, – рассказывает он далее, – при первых звуках бального оркестра, долетевших до меня через улицу, я надел фрак и зашел сначала к князю Трубецкому, который осмотрел меня, поправил на мне галстук, перенес часовую цепочку с нижней петли на верхнюю, словом совершенно по-родительски обошелся со мной (как великосветский лев с неопытным львенком)», – хотя Полонскому было уже тридцать шесть, и Трубецкой был года на два моложе.
«От Трубецкого я вышел на улицу… Увидев немало экипажей, как подъезжающих, так и отъезжающих, я заключил, что пора и мне.
Погода была сырая, на улице было грязно, и, несмотря на это, перед дачей Базилевских толпился дачный народ».
В зале, где уже начались танцы, Полонского представили хозяйке дома. Терезы еще не было. Он собирался сказать ей: «Сильное впечатление не всегда еще приводит к сильному чувству. От впечатления до любви так же далеко, как от Петербурга до Неаполя…»
Но вот появилась Тереза, он пригласил ее танцевать – и почувствовал, что она ему далеко не безразлична… Она сказала:
– В понедельник меня уже не будет, я уеду в Тулу.
В воскресенье предстояла ее свадьба…
Полонский вернулся домой, разделся, лег. И подумал: «Роман мой кончен. Будь я богат, я, быть может, и протянул бы его. Кто знает, быть может, я и накануне свадьбы увез бы ее…»
В третьем часу он встал, снова надел фрак, перешел улицу. Бал еще не кончился.
«Пили за здоровье Терезы… – вспоминает он. – Я подошел к Терезе и, кажется, сказал ей, что и я пил за ее здоровье.
– Я верю, – сказала она, протягивая мне руку, – все будет так, как вы желаете.
…В воскресенье, 29 июля, Тереза была обвенчана. Весь этот день я сидел за моим мольбертом и мазал масляными красками».
Его новым увлечением были краски, кисти, палитра и холст.
Быть может, у него и щемило сердце, но чувство к Терезе не захватило его глубоко, не вдохновило. Он написал:
Не сердце разбудить, не праздный ум затмить —
Не это значит дать поэту вдохновенье.
Сказать ли Вам, что значит вдохновить?
Уму и сердцу дать такое настроенье,
Чтоб вся душа могла звучать,
Как арфа от прикосновенья…
Сказать ли Вам, что значит вдохновлять?
Мгновенью жизни дать значенье
И песню музы оправдать.
Вернувшись к осени в город, он снова стал частым гостем у Штакеншнейдеров. Они тоже вернулись недавно с дачи.
«Пока нас не было в Петербурге, – записывала в дневник Леля Штакеншнейдер, – преобразились журналы. Я до сих пор еще не дотрагивалась до них, но Бенедиктов и Полонский в два вечера, проведенные с нами, прочитали нам четыре статьи, до того непохожие на все, что выходило из чистилища цензуры в прошлом году, что не верилось, что читают с печатного».
В феврале прошлого года умер император Николай, и вот уже все заметнее становился ветер перемен. Особенно заметен в печати.
За границей печатались бесцензурные сборники «Полярная звезда» Герцена и Огарева, эти сборники нелегально привозились в Петербург. И читались во многих петербургских домах, в том числе, конечно, у Штакеншнейдеров.
Полонский мог вспомнить, что ведь когда-то он имел случай познакомиться с Герценом лично. Еще в 1843 году встретил он однажды у Вельтмана «очень красивого молодого человека с таким интеллигентным лицом, что в его уме нельзя было сомневаться. Мы были втроем, – написал в воспоминаниях Полонский, – и, между прочим, я с большими похвалами отозвался о статье Герцена в „Отечественных записках“, напечатанной под заглавием „Дилетантизм в науке“. Они засмеялись. „А вот перед вами и сам Герцен – автор этой статьи, – сказал мне Вельтман…“»
Александра Осиповна Смирнова все более замечала, что учитель ее любимого сына не чужд нынешнего либерализма. Это ее беспокоило. Осенью 1857 года она уехала с двумя младшими дочерьми в Венецию, оттуда в начале января прислала письмо:
«Любезный Яков Петрович.
Отчего это вы не поздравили меня с новым годом и новым счастьем, по русскому обычаю?.. Ведь мы с вами не можем быть чужие, по крайней мере не должны быть чужие: у вас на руках мой милый и добрый Миша, которого вы любите…
Не знаю, имеете ли вы привычку всякий день молиться?.. Если нет, то обещайте мне только, что будете читать Отче нашсо вниманием. Собственные слова нашего Спасителя содержат такую силу, что для вас откроется целый мир; они заключают все, что нам нужно. Тогда вы примиритесь с собою и со своим положением, которое вам тяжко, я в этом убеждена.
Западные народы вне себя делали революции. Русский человек делает в себе революцию и посредством этой внутренней, душевной и благодатной революции должен произвести медленное, спокойное и законное преобразование общества. Вот, кажется, задача русского, если он остается верен своей церкви, без которой ничто не созиждется, и своему характеру. Вот в каком смысле я хочу вести своего Мишу, и вам, любезный Яков Петрович, как его лучшему другу, передаю свои убеждения. Вы скажете, что я ошибаюсь, но я убеждена, что все мои выводы верны, сознавая затруднения, которые нас окружают».
Полонского она не могла убедить уже потому, что проповедь ее не подтверждалась всем ее жизненным поведением. «Как славянофилка, она воспитала дочерей своих так, что в них нет ничего русского… – едко замечал Полонский. – Как русская патриотка, она не могла жить в России…»
Но она была проницательна и поняла, хоть он и старался это скрывать, что ему – в его положении – тяжело.
«Гувернер Смирнова (так называли меня в свете) мог ли надеяться на чье-нибудь особенное внимание или сердечную привязанность… – с горечью писал он потом. – Раз, обманутый вниманием одной светской дамы, родившейся в Сибири от отца-изгнанника [молодой вдовы Елены Сергеевны Молчановой, урожденной Волконской], я употребил все средства, чтобы заслужить ее расположение, не любовь, о которой я не смел мечтать… И как пустой мечтатель был жестоко наказан. Вероятно, ей показалось, что я не шутя волочусь за ней, и, когда однажды я зашел к ней после обеда, она велела мне сказать, что принять меня не может потому, что у нее гости.Этот ответ, сообщенный через лакея, так поразил меня, что у меня подкосились ноги, когда я спустился с лестницы. Я не помню, чтоб кто-нибудь так жестоко оскорбил меня. Как гувернер, я мог бывать у нее по утрам… и, быть может, если бы не было гостей, она приняла бы меня вечером. Но гувернер – и аристократка! Мой приход ей показался дерзостью… Так кончилась моя единственная в этот год начинающаяся привязанность. Быть может, она кончилась бы страстью, и я был бы несчастлив».
Весной он съездил в Москву. Там приятели попытались его сосватать, но он уклонился…
Редакция «Современника» приняла к печати его маленькую лирическую повесть «Шатков». Член редакции журнала, критик Николай Гаврилович Чернышевский, написал Полонскому о его новой повести: «…слог прекрасен, и я не такой вандал, чтобы решился, злоупотребляя Вашим позволением, изменить хотя бы одно слово».
Не во всякой редакции Полонский встречал такое отношение к себе…
С наступлением весны Александра Осиповна писала ему из Венеции: «Ожидаю с нетерпением выезда вашего за границу». Она хотела увидеть сына и мужа, а также, поскольку он был нужен мальчику, Полонского. Встреча была назначена в Германии, в курортном городке Баден-Бадене.
Николай Михайлович Смирнов взял отпуск. Купил билеты на пароход от Петербурга до Штеттина – по Балтийскому морю. Далее предстояло ехать в поезде через Берлин. Александра Осиповна написала Полонскому: «В Берлине у Шнейдера [книготорговца] есть ящик с книгами, они мои, можете взять что угодно для чтения, в том числе – дрянной Герцен». Догадывалась она, что именно интересует Полонского.
Из Петербурга отплыли 18 мая. «Помню, с какой радостью вступил я на пароход, – вспоминает Полонский. – Неясные предчувствия чего-то еще неведомого и неиспытанного влекли меня в даль».








