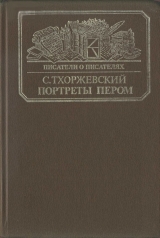
Текст книги "Портреты пером"
Автор книги: Сергей Тхоржевский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 31 страниц)
«Альпийский рог в горах, чудесное эхо. Вскоре потом пустился я пешком по крутым скалам в романтический Лаутербрун». Далее в Берн, из Берна в Лозанну, из Лозанны – на пароходе по Женевскому озеру – в Женеву. Тут остановился.
«Боже мой, уже октябрь на дворе…» – написал он брату. Сообщил, что намерен ехать в Италию, куда его толкают «и хворь, и соседство зимы». Погода все более портилась.
В середине октября покинул Женеву. За Симплонским перевалом небо прояснилось, засияло солнце – Италия!
Десять дней провел он в Милане, затем направился в Венецию. Дилижанс довез путников до морского берега, уже вечером они пересели в гондолу и поплыли. «При лунном свете начали мало-помалу вставать перед нами из глубины вод здания этого единственного, похожего, как выражается Байрон, на сновидение, города».
Три недели в Венеции Отсюда пароходом по Адриатическому морю – в Триест. Из Триеста – другим пароходом – в Анкону.
Здесь нанял ветурина (то есть извозчика – vetturino), который взялся отвезти его в Рим. На пути была граница Папской области, с пограничной стражей и таможней. Тепляков рассказывает в письме:
«26-го [ноября], откупясь единожды от полиции и дважды от таможни, въехали мы в дикую, бесплодную страну между обнаженных гор Апеннинских». И опять Тепляков торопился – на сей раз торопился достигнуть Рима. С раздражением писал: «27-го разбойник ветурин поднял меня на ноги в три часа утра для того, чтобы сделать в продолжение всего дня 30 миль!»
Только 1 декабря на горизонте показался купол собора святого Петра – наконец-то Рим!
В письмах к брату из Рима он поначалу тоже ворчал: «Ватиканская площадь – ничто по сравнению с парижской Place de la Concorde [площадью Согласия]». Но это презрительное замечание осталось в его римских письмах единственным: великий Рим пришелся ему по душе. С восторгом он осматривал развалины Колизея, десятки раз любовался картинами великих мастеров в галереях Ватикана.
В Риме не мог он не наткнуться на приезжих из России – аристократов и просто богатых людей. Жили в Риме и некоторые русские художники, но о встречах с ними он в письмах к брату не упоминает. Пишет же о богатых бездельниках: «Соотчичей наших, тмутараканцев, здесь многое множество; балы, музыкальные вечера и тому подобные забавы идут своей чередой». В этих вечерах он принимал участие «лишь в той степени, насколько это необходимо, чтобы фарисеи не побили меня камнями». Последние слова – уже из письма его к неизвестной даме, должно быть, в Одессу.
В этом письме он с чувством написал, что не может забыть тех, кто дарил его своим вниманием: «Это ускользнуло от проницательности Вашего друга, графини Эдлинг, которой таким „большим поклонником“ Вам угодно меня считать… После Парижа, где мадам Свечина иногда сообщала мне новости, я не знаю о мадам Эдлинг решительно ничего, кроме того, что ее муж лежит больной где-то на берегах Рейна». Тепляков умолчал в письме о том, что уже пропутешествовал вдоль Рейна – от Кельна, в нижнем течении, до Шаффгаузена, в верховьях, и нигде ему встретить графиню Эдлинг не удалось.
Как видно, у знакомой одесской дамы были основания считать его «большим поклонником» (grand admirateur) Роксандры Скарлатовны Эдлинг. Разница в возрасте – она на восемнадцать лет старше – кажется, не дает нам права предположить, что он был в нее влюблен, однако с 1834 года он всегда помнил о ней, писал ей отовсюду, и в их переписке можно уловить признания, выходящие за рамки эпистолярной галантности. В ее письмах к нему: «Будьте уверены в преданности, которую питаю именно к Вам…» И в его письмах к ней: «Мысль о том, что Вы меня забыли, была, конечно, одной из самых мучительных…» Правда, ее не считали красивой. Один из мемуаристов заметил только, что у нее был необычайно музыкальный голос. Судя по сохранившемуся портрету, она была внешне типичная гречанка, а Тепляков однажды отметил в дневнике, что гречанки, по его мнению, несравнимо красивее всех остальных женщин…
Но оставим догадки, может быть напрасные. Странно только, что ни одного другого женского имени, занимавшего его мысли и сердце, мы не можем найти. Была какая-то бедная «отверженица» в Константинополе, были – подобные – в Каире и, может, еще где-нибудь, были какие-то недолгие увлечения в Одессе и в Петербурге («тайный сердечный трепет»), но неужели не было ничего всерьез? Трудно представить…
В Риме он познакомился с женщиной, которая была любовью Байрона, – Терезой Гвиччиоли, «ныне красивой развалиной». И говорил с ней Тепляков, конечно, о великом английском поэте.
Он провел в Риме четыре с половиной месяца. По-итальянски говорил уже свободно. В первый день пасхи он стоял в толпе на площади святого Петра перед Ватиканом – в толпе, ожидавшей, как всегда в этот день, папского благословения urbi et orbi (городу и миру) – с высоты главного балкона дворца.
Из Рима он поехал в Неаполь. Увидел Везувий, «курящийся в обыкновенное время подобно зажженной куче хвороста». Рассказывал в письме к брату: «25-го [апреля] путешествовал я, за свои грехи, на вершину Везувия по огромным кускам лавы, застывшей подобно железной губке.
Все это происходило ночью, при свете зажженных факелов. В двух или трех местах на вершине вулкана видел я посреди клубящихся облаков дыма огромное огнище, слышал подземный шум, чувствовал жар под ногами и – ничего больше. Всем этим можно было бы полюбоваться в какой-нибудь кузнице».
В этом письме его – раздраженность, разочарование, боль души.
И, наконец, такое признание: «Мысль о непробудном сне начинает нравиться воображению; страждущая голова советует нередко последнее, самое верное средство к исцелению…»
Он уже устал метаться!
Что же еще? Куда теперь?
Из Неаполя пароходом к острову Сицилия, в Палермо – и обратно, затем на север, вдоль итальянских берегов, до Ливорно. В Ливорно, это было вечером, сел в экипаж и покатил во Флоренцию – ночью. «Лишенный способности спать в экипаже, я встретил восход солнца посреди зеленых холмов Тосканы», – рассказывал он в письме. Утром 5 июня прибыл во Флоренцию. Опять прогулка по картинным галереям…
В Италии становилось жарко, невмоготу. Обратный путь во Францию… Он прибыл в дилижансе в очередной рекомендованный врачами курорт – Виши.
Здесь он тоже пил, авось поможет, воду из минеральных источников. Весь июль и весь август. Наверно, так же как и все приезжие, пытался развлечься прогулками по окрестностям. Кавалькады на ослах направлялись обычно к зеленым холмам, откуда можно было увидеть вдали голубые вершины гор Пюи-де-Дом.
Он написал брату: «Виши уступит Бадену в блеске и затейливости, но мне это место кажется гораздо задушевнее».
Одна русская дама, которая как раз этим летом была там, на водах, рассказывала потом, что Виши «все смотрит прекрасною овернскою деревнею, где при блеске яркой зелени, пестрых лугов и светлого неба как-то забывается невольно и городской шум, и городской блеск, и городская пошлость. Может быть, потому Виши и казалась „задушевнее“ нашему грустному Теплякову».
«Я получил из Виши, – вспоминал годом позже брат его Алексей Григорьевич, – еще несколько писем, касающихся дел домашних, потом последнее письмо из Парижа, в котором, между прочим, он говорит: „Что же мне теперь с собою делать? Я видел все, что только есть любопытного в подлунном мире, и все это мне надоело до невыразимой степени“».
В Париже Виктор Григорьевич, по рассказам брата, теперь «скучал более, чем где-нибудь, и с грустью вспоминал о жизни своей на Востоке». Единственный человек, с которым он смог душевно сблизиться в Париже – Александр Иванович Тургенев, – еще в июле 1842 года уехал в Москву, так что на сей раз Тепляков его не застал.
А в октябре секретарь русского посольства в Париже Балабин вынужден был написать Алексею Григорьевичу Теплякову пространное письмо. Сообщал, что Виктор Григорьевич, по возвращении из Виши, «более чем когда-либо жаловался на многочисленные болезни, его удручающие, настроение его было грустное и мрачное, и он, наконец, глубоко возненавидел эту жизнь в Париже… 10 октября он пришел ко мне около пяти часов дня; страдание было написано на расстроенных чертах его; он едва отдышался и почти в изнеможении упал на кресло, которое я поспешил ему подвинуть. Он был печален и уныл; сообщил мне, между прочим, о своем намерении оставить Париж, который более не имел для него прелести, и поехать на зиму в Италию. Скоро, впрочем когда он совершенно пришел в себя, разговор оживился; он повеселел и, наконец, оставил меня в таком настроении, которое, увы, ввело меня в заблуждение насчет его действительного недуга, заставив меня предположить, что это был проходящий припадок мрачной меланхолии».
Но днем позже Балабин узнал, что Виктор Григорьевич при смерти: «Кажется, в тот же вечер, когда он приходил ко мне, его нездоровье приняло серьезный характер; ночью и на другой день им владело, видимо, страшное волнение, которое перешло потом в такое раздражение, что окружающие с трудом его сдерживали и принуждены были удалить от него все, чем он мог бы себе повредить или себя поранить. Когда больной потерял сознание, прибегли к медицинской помощи, от которой он до сих пор настойчиво отказывался».
Умер он 14 октября 1842 года (по новому стилю). Два врача, приглашенные к больному за два дня до его смерти, определили апоплексический удар. Так ли оно было на самом деле – можно усомниться. Когда больной скончался, эти врачи запросили за лечение (столь неудачное) пятьсот франков, затем выразили готовность согласиться на сумму в триста франков, а когда им дали только сто пятьдесят – ушли, явно довольные гонораром. Черт их знает, что это были за врачи…
Вещи покойного были распроданы, деньги ушли на оплату его квартиры, докторов и на похоронные расходы. Похоронили его тихо и незаметно, в Париже на Монмартрском кладбище.
Отчего же он умер? Ведь ему было всего тридцать восемь лет…
Брат его Алексей Григорьевич написал так: «Душа подобных людей, раздраженная мелочами и предрассудками, алчущая великого в простом, лучшего в истинном, не находит ничего приблизительного к идеалу, живущему в ней самой; душа подобных людей, осмеливаюсь думать, отражая в себе все недуги человечества, сосредоточивает в себе все горести его».
Он готов был трудиться во славу российской словесности, действовать на благо России, но чиновником, чинодеембыть не мог.
Каким тоскливым должно было казаться Виктору Теплякову такое существование! Он хотел жить с толком и смыслом – так, чтобы развернуться, раскрыться. И, вот такой, он был неудобен – его либо загоняли в угол, либо отшвыривали прочь.
Помните, что он записал в дневнике, когда плыл по морю от Яффы к устью Нила? «Когда бы бури! Но их нет для меня ни на море, ни в жизни!» И далее: «Но подождем еще немного только и потерпим; авось ли не проглянет солнце, авось ли не подует попутный ветер, или по крайней мере ударит гром, который все раздробит, все окончит!» И солнце не успело проглянуть, и попутный ветер не подул, и гром не грянул: быстро пролетела и кончилась жизнь.
Было время, он думал, что
…меньше всех лишь тот страдает,
Кто рад, как я, товарищ мой,
По свету пестрому скитаться
Затем, чтоб сердце приучить
Во всей Вселенной дома быть…
Оказалось, не так. И не смог приучить он сердце «во всей Вселенной дома быть». И страдал он никак не «меньше всех».
Слишком немногие услышали его поэтический голос – правда, в числе их был великий Пушкин. Может, именно оттого и замолк Виктор Тепляков, что после смерти Пушкина не слышал отзвука слову своему… А ведь по-настоящему слово начинает звучать лишь тогда, когда обретает эхо.
ИСКАТЕЛЬ ИСТИНЫ

Под белую хоругвь, под парус корабля,
Вербуя всякий ветр, попутный – непопутный.
Вручу фантазии крутой рычаг руля
И ринусь на валы, на штурм ежеминутный…
Александр Баласогло
Пусть в его биографии, горькой и необычайной, многое остается неизвестным, выдумывать я ничего не хочу и не буду. Непридуманность рассказа имеет, по-моему, свой особый, терпкий вкус.
Дорогой читатель, ты, наверно, ничего или почти ничего не знаешь об Александре Баласогло. Он был литератором, но из того, что он написал, напечатано менее половины, остальное либо существует в рукописном виде, в архивах, либо вообще утрачено.
Историкам известно его пространное письменное показание, вовсе не предназначавшееся для печати. Он писал его в камере Петропавловской крепости (оно было найдено в архиве и опубликовано много лет спустя). Это почти исповедь, в ней есть бесстрашно откровенные страницы о себе и своей жизни. Он рассказывал о пережитых мытарствах и не мог знать, что еще большие мытарства ждут его впереди.
О, если бы мне удалось со всей отчетливостью показать этого замечательного человека! Показать, каким он был…
Правда, с точностью неизвестно даже, как он выглядел. Не сохранилось ни единого портрета. Известно, что отец его был грек, а мать – русская. Иногда его принимали за турка или за армянина, так что он, очевидно, был черноволос и черноглаз. Кроме того, он всегда был худ, даже тощ. Дорисовать его облик может воображение.
Он родился в Херсоне. Отец его, морской офицер, служил на кораблях Черноморского флота, одно время командовал Дунайской флотилией. Поэтому в детстве Саше Баласогло привелось жить в разных портовых городах: Таганроге, Измаиле, Килии, Николаеве, Севастополе.
«Учился я весьма прилежно, – вспоминает он, – с 4 лет выучившись читать, уже бросил все игрушки…» Отец был строг и запрещал «читать книги собственно литературного содержания… Мать, напротив, не только не запрещала, но даже сама сообщала мне тайком романы и стихотворения, до которых я был жаден, и защищала меня всячески, если попадался отцу не с математикой в руках. Я не забуду по гроб благодарить ее в душе за то, что она первая ввела меня в мир поэзии… Впрочем, ни отец, ни мать и никто в доме меня не баловали. Я был старший, вечно с книгами, никогда не вертевшийся на глазах, с вопросами, на которые редко мне могли дать удовлетворительный ответ, и с боязнью проговориться – следственно, скрытный…» И, между прочим, «самою первою книгою, какая мне попалась в руки, была география, в которой довольно подробно описывалась жизнь, занятия, наряды, нравы и обычаи разных, народов, особенно Востока, Восточного океана и Америки». Юный Саша Баласогло так был пленен этой книгой, что решил во что бы то ни стало поступить во флот, добраться до Петербурга и оттуда на первом кругосветном корабле отправиться в дальние вояжи. «Два года, – рассказывает он, – я не переставал надоедать отцу, и матери, и всем домашним и знакомым, чтобы меня поскорее записывали в гардемарины. Наконец отец сдался, и я на 13 году от роду, в 1826 году, поступил на службу во флоте гардемарином. На флоте, я разумею Черноморский, я застал в тогдашнем гардемаринстве и молодом офицерстве нравы если не буйные, по крайней мере еще полудикие… встретил с неописанным изумлением и горестию это непостижимое для меня буйство, невежество и праздношатание. Впрочем, на службе они были, что называется, молодцы, и потому начальство вовсе не обращало на них внимания: лишь бы были исправны и послушны, а там хоть что хочешь!»
Тогда на флоте процветал мордобой, офицеры били матросов за любую провинность, а подростки-гардемарины должны были терпеливо сносить взбучки от тех, кто постарше чином и возрастом. Саша Баласогло не умел скрыть отвращения своего к таким порядкам, и оттого ему в первый год попадало особенно…
К счастью, последующие два года служить ему довелось на флагманском корабле «Париж» – на этом корабле плавал командующий флотом адмирал Грейг. Присутствие Грейга «невольно налагало на всех отпечаток его кротости и строгости в исполнении обязанностей. Я имел честь, – рассказывает Баласогло, – через каждые два дня, по заведенной очереди, в числе всех офицеров корабля, бывать у него за столом, наслышаться его суждений и насмотреться его обращения с подчиненными и деятельности в служебных и научных занятиях…»
И тут пришло грозное известие: началась война. Война с Турцией.
Саша Баласогло знал, что многим его родственникам, греческим дворянам, пришлось бежать в Россию – они спасались от постоянных гонений на греков в Турецкой империи. Он знал, что его отец восьмилетним мальчиком вывезен был из Константинополя и, став затем русским морским офицером, участвовал в сражениях на море против турок. Так что новую войну Саша сразу воспринял как справедливую.
Перед отплытием флота к турецким берегам суровый отец благословил Сашу и, указав на свой Георгиевский солдатский крест, произнес: «Добудь себе такой же знак!» Этот орден получил он за храбрость в памятном сражении при острове Тенедос, когда сам еще был гардемарином.
Саша горел желанием доказать, что и он достоин называться истинным воином и моряком…
Флагманский «Париж» поднял паруса и вместе со всем Черноморским флотом отплыл на юго-запад, к турецкой крепости Варна, уже осажденной русскими сухопутными войсками.
На расстоянии двух пушечных выстрелов от Варны остановились и выстроились в море русские корабли. С борта «Парижа» гардемарин Александр Баласогло мог ясно видеть минареты мечетей и амбразуры в крепостных стенах…
Потом он мог слышать в ночной тьме решительный бой, когда турецкая флотилия была разбита и с тонущих кораблей турки бросались в неспокойное темное море, чтобы вплавь достичь берега. Флагманский «Париж» непосредственного участия в этом бою не принимал.
День за днем русские корабли, приближаясь к берегу, из пушек обстреливали крепость, ядра пробивали стены и крыши, над городом вздымались тучи пыли…
Из Одессы к Варне на фрегате «Флора» направился тогда император Николай. К ночи налетел шторм, ветер понес «Флору» обратно к Одессе. На высоком берегу мерцали огоньки в окнах домов, но маяка не было видно (потом выяснилось, что он «по непростительной небрежности» не был зажжен), так что император высадился на берег в полной темноте. Переживания этой ночи оказались для него столь неприятны, что он предпочел отправиться в путь посуху.
Его вместе с большой свитой довезли по степным дорогам до Каварны, болгарского городка на черноморском берегу. Там император сел на борт подошедшей «Флоры», а затем перебрался на «Париж», к адмиралу Грейту.
Прикомандированный к адмиралу чиновник министерства иностранных дел впоследствии рассказывал в воспоминаниях, что командиром «Парижа» был тогда капитан I ранга Бальзам, «человек тучного сложения, страдавший по временам сильною одышкою и потому не могший похвалиться расторопностью». Император нерасторопных подчиненных не терпел, поэтому Грейг заменил капитана Бальзама капитаном Критским. Моряками Критский «был нелюбим за раздражительность своего характера и за грубое обращение с подчиненными», зато любое высочайшее распоряжение он исполнял в единый миг.
«Государь император поселился у нас на корабле со всею свитою, – рассказывает Александр Баласогло, – и потому все офицеры уступили свои каюты лицам первых классов», в соответствии с табелью о рангах. Гардемаринам (а их было всего двое) оставалось ночевать на голой палубе, укрываясь шинелью и кладя под голову фуражку. Но и эта возможность оказывалась не частой, потому что, как вспоминает Баласогло, «по сходе почти всех офицеров на берег в траншеи, мы, два 15-летних мальчика, исправляли должность офицеров и почти не сходили с катеров и барказов, где и высыпались, и обедали, и ужинали, грызя в буквальном смысле слова одни матросские сухари…» Они возили провизию для стола его величества и всей его свиты, возили пресную воду, «по целым дням пеклись на солнце», переправляли бесчисленные конверты с повелениями и донесениями «по всем военным судам, бывшим на рейде, и весьма часто на дежурные корабли и бомбардирские суда, под градом прыгавших около шлюпки ядер, издававших, подобно китам, фонтаны…» Гардемарин Баласогло не раз переправлял пакеты с корабля на берег, где садился верхом на казацкую лошадь и скакал по незнакомой гористой местности в военный лагерь. Он был еще мал ростом и садился верхом без седельной подушки, чтобы доставать ногами до стремян.
В один из таких разъездов он попался навстречу императору, который ехал из лагеря сухопутных войск обратно на корабль. Баласогло вез донесение о перестрелке на южной стороне и только что с трудом управился с лошадью, когда она, чувствуя на себе неумелого седока, пошла его носить по виноградникам. Император, думая, что гардемарин смешался и робеет, сам подъехал ближе и взял из рук донесение. «Я же робел вовсе не его присутствия, – вспоминает Баласогло, – а того, чтоб лошадь не вздумала понести опять куда-нибудь в сторону…»
«Я два раза тонул, – рассказывает он далее, – раз чуть было не был раздавлен барказом у борта корабля, на сильном волнении», раз послан был командиром «Парижа» Критским «с барказом и 18 бочками на южную сторону сыскать фонтан, находившийся как раз насупротив крепости, под ее выстрелами, и во что бы то ни стало доставить из него воды для стола его величества, так как Критский полагал, что эта вода лучше обыкновенной, с угрозой, что, если не привезу воду или вызову на себя хоть один выстрел с крепости, он заморит меня на салинге. Я отправился под вечер и, достигнув крайних пределов занятой нашими командами местности, стал разведывать у начальников, как бы пробраться к фонтану. Все изумлялись и советовали… не подвергаться, по их мнению, неминуемой опасности…» Но гардемарин Баласогло велел матросам «обернуть весла их же онучами или чем они хотят, чтобы не было слышно ни малейшего стука от гребли, и в самые глубокие сумерки подгреб сколько было можно ближе к берегу насупротив крепости, против самых ее стен. Барказ весьма далеко стал на мель». Они «едва-едва успели за ночь налить все бочки, так как фонтан едва цедил воду, а катать было довольно далеко, и все надо было делать с величайшей осторожностью…» Перед самым рассветом они отплыли от берега, и когда пристали к борту корабля – уже рассвело. Критский и не подумал похвалить гардемарина, только сказал: «Если б хоть одну бочку не налил, просидел бы у меня целый день на салинге, а к вечеру отправился бы ее наливать!»
В другой раз, когда не было никакой возможности из-за сильного ветра пристать к берегу, гардемарин Баласогло с несколькими матросами был послан на берег с пакетом к генералу Дибичу. Шлюпка быстро достигла пристани, но тут, вспоминает Баласогло, «налетевший вал поднял нас по крайней мере вдвое выше пристани и потом, спадая, так хватил оземь и отчасти об угол пристани, что мы в один инстинкт закричали: „Прочь, прочь, оттягивайся!“ – и весьма счастливо оттянулись до благородного расстояния от сокрушения вдребезги». Баласогло разделся и бросился в воду, в одну минуту был на прибрежном песке, но тот же вал, что донес его на берег, потащил его назад, и Баласогло бился «по крайней мере четверть, если не добрые полчаса, то налетая на берег, то уносясь от него в море. Наконец последним и отчаянным усилием, – рассказывает он, – я запустил руки как можно дальше от мокрого песка», потом матросам удалось кинуть ему на берег тюк – его собственную одежду, причем пакет был вложен в середину тюка. «Платье долетело до меня и развалилось… – рассказывает Баласогло, – все было мокрешенько, но конверт цел и едва-едва тронут с одной стороны водою. Я оделся, выбежал, весь дрожа, на гору, изумил своим появлением штаб-офицера, у которого были в распоряжении казацкие лошади…» Баласогло верхом поскакал к лагерю, уже в сумерках добрался туда, соскочил с коня и повел его на поводу. Встретил незнакомого адъютанта, спросил: «Где мне найти Дибича? Я к нему с пакетом, с „Парижа!“» – «Как! Да ведь ни одна шлюпка не может пристать! Государь император не может попасть на корабль и, вероятно, заночует на берегу; как вы попали сюда?» – «Я переплыл…»
Уже впотьмах он доставил пакет Дибичу. Возвратился к пристани и забрался было в палатку лечь спать, но в мокрой одежде было так холодно, что он выскочил из палатки и пошел бродить, чтобы согреться: «Так грелся я до утра и потом, видя, что нет никакой надежды попасть до вечера на корабль, проблуждал целый день в опустошенных виноградниках… К вечеру ветер стих, наехали шлюпки, и я очутился на корабле».
На палубе «Парижа» художник Воробьев, прибывший в свите императора, зарисовывал виды Варны, глядя на берег в подзорную трубу.
В сентябре под стены крепости удалось заложить мину. Раздался мощный взрыв, черное облако поднялось к небу и сразу осыпалось градом камней и земли.
Осажденные держались еще несколько дней и наконец вынуждены были сдаться русским войскам.
Император Николай в сопровождении своих генералов въехал в ворота крепости. «Нас обдало, – вспоминает генерал Бенкендорф, – таким невыносимым смрадом от бесчисленного множества падали всякого рода и человеческих тел, так дурно похороненных, что у иных торчали ноги…» Многие дома превратились в развалины.
В кварталах, где жили греки, армяне и болгары, жители радостно встречали русских солдат.
Император собирался возвратиться в Одессу по суше, но Грейг и Бенкендорф уговорили его сесть на корабль «Императрица Мария». На полпути к Одессе все-таки разыгрался шторм, которого он опасался. «Все особы свиты легли по койкам», – вспоминает Бенкендорф. Император, по его словам, стойко держался на ногах, однако «упрекнул» (а вероятнее, обругал) Бенкендорфа за совет «плыть морем».
По взятии Варны офицеры флота получили награды, чины, ордена, а двум юным гардемаринам с «Парижа» не было дано ровным счетом ничего. Александр Баласогло не мог отнестись к этому безразлично, он помнил: отец ожидает его возвращения с «Георгием» на груди… «Все командиры кораблей, кроме нашего, представили к солдатским Георгиям и к офицерским чинам всех своих гардемарин, – рассказывает Баласогло, – и когда, не дождавшись результата, стали напоминать Грейгу, адмирал дал вполне определенный ответ: „Я единственно потому не исполнил вашего желания, что оба моих гардемарина, которых службу и усердие я видел весь поход лично, до сих пор не представлены от командира корабля ни к чему. Когда будут представлены и они, тогда я с ними представлю и всех остальных“». Но Критский презирал своих гардемарин и ничего для них не сделал. А Грейг строго придерживался установленного порядка представлений к наградам и не хотел его нарушать. Казалось, мог бы попросту приказать командиру корабля представить гардемарин к награде, но и такой шаг адмирал Грейг посчитал неприемлемым нарушением принятых правил.
«Это смутило меня на целый месяц, я бродил как шальной… – вспоминает Баласогло. – Наконец, передумав и перечувствовав на годы вперед, очнулся от своей меланхолии человеком, совершенно и вполне освободившимся от всякого честолюбия и веры в справедливость раздаваемых отличий и наград».
Художник Воробьев за картину «Вид Варны с окрестностями» был награжден золотой табакеркой, осыпанной драгоценными камнями.
Когда на выставке в петербургской Академии художеств появилась его «Буря на Черном море», император остался доволен картиной и сказал Воробьеву: «Очень верно, прекрасно; но помнишь, я думаю, в натуре было еще страшнее!»
К весне 1829 года черноморские гардемарины – ровесники Александра Баласогло – были проэкзаменованы в Николаеве и ожидали, что вот теперь их произведут в мичманы. Но вдруг пришло известие, что император, «будучи сам свидетелем, как плохо знают черноморские гардемарины фронтовую [то есть строевую] службу, высочайше повелеть соизволил отправить всех представленных в Петербург и не производить их в офицеры, пока не узнают фронтовой службы».
Все были подавлены – кроме Александра Баласогло, для которого «это известие было лучом живейшей радости». Он думал: «В Петербург – значит, хоть матросом, хоть на палубе, завернувшись в шинель, да фуражку под голову, да в дальний вояж, в кругосветное путешествие!..» Ведь из черноморских портов тогда ни в какие дальние вояжи русские корабли не отплывали. Только с Балтики. «И я торопился как сумасшедший, – вспоминает он, – обманул родителей, что я выздоровел, хотя был совершенно болен», – и, проболев всю дорогу, приехал в Петербург.
В петербургском Морском корпусе прибывших гардемарин муштровали семь месяцев, потом они еще готовились к вторичному экзамену. Наконец к зиме они были произведены в мичманы и направлены в близкий, но отделенный Маркизовой Лужей от столицы город-остров Кронштадт.
Шесть лет прослужил Александр Баласогло в Балтийском флоте. На корабле «Император Петр I» плавал в Финском заливе и на корвете «Львица» по Балтийскому морю от Кронштадта до Мемеля и Данцига. Но не дальше.
Он вспоминает: «Я… был во всех тяжких на службе, лез из кожи – надо заметить, нисколько не из честолюбия, а единственно для того, чтоб выйти из рядов дюжины и отправиться в дальний вояж. Но дальние вояжи совершенно прекратились; наука была подавлена, убита, рассеяна… В офицерстве во всю мою бытность на флоте только и было слухов и толков, что государь император не терпит ни наук, ни ученых, называя последних, после 14 декабря [то есть после восстания декабристов], тунеядцами и мерзавцами, и что князь Меньшиков [начальник Морского штаба] не смеет и думать доложить государю о чем бы то ни было дельном и серьезном вообще, а тем более научном!»
Удрученный «особенно этими слухами о постоянно разъяренном состоянии государя императора», Александр Баласогло «решился оставить море и поискать счастья на суше».

Он поставил себе ближайшей задачей пройти курс изучения восточных языков. Надеялся, что потом, когда он будет знать хоть немногие восточные языки или хотя бы один арабский, его непременно примут на службу в министерство иностранных дел и пошлют с какой-нибудь ученой или дипломатической миссией на Восток.
Сначала он обратился к известному литератору, человеку ученому и влиятельному, Николаю Ивановичу Гречу, автору «Учебной книги российской словесности» и «Практической российской грамматики».
У Греча был собственный дом на набережной Мойки близ Почтамтского мостика, в этом доме хозяин устраивал приемы по четвергам. На приемах появлялись иногда серьезные писатели, но чаще – окололитературная братия, которая вилась вокруг Греча, ибо он издавал, вместе с Булгариным, журнал «Сын Отечества» и газету «Северная пчела». Десятки людей толпились каждый четверг в зале, где вдоль стен высились книжные шкафы, где зажигалось множество свеч в жирандолях и канделябрах и сам Греч вел разговоры о литературе, острил и казался душой общества.
«Он меня чрезвычайно обласкал, – вспоминал впоследствии Баласогло, – все его домашние меня полюбили и, я должен отдать им полную справедливость, кажется, принимали во мне самое неподдельное и внимательное участие, за что я навсегда останусь им благодарен; но сам Греч, от которого все зависело, в три года моей ходьбы в его дом и искренней дружбы с его сыновьями решительно ничего не умел или не хотел мне сделать». А молодой мичман Баласогло хотел, казалось бы, немногого: найти службу в Петербурге «с достаточным досугом для пройдения курса восточных языков, или службу на Востоке, или хоть поблизости, на Кавказе, в Сибири, но все-таки с досугом и книгами. Куда я ни бросался, все было как заговоренное, – вспоминает он. – „Нет вакансии!“ или „Странные у вас желания“ – вот все, что я слышал от немногих знакомых, каких имел. В министерство иностранных дел нельзя было и думать попасть; надо было или высочайшее повеление, или не письмо, но настояние какой-нибудь сильной особы, необходимой или опасной для графа Нессельроде [который был министром], или подкуп, начиная с его камердинера или швейцара, не помню – по 25 рублей ассигнациями за каждый впуск только в переднюю, а там выше и выше, как водится».








