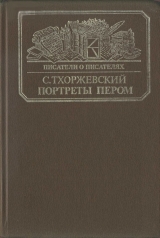
Текст книги "Портреты пером"
Автор книги: Сергей Тхоржевский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 31 страниц)
Федор Михайлович Достоевский особенно любил стихотворение Полонского «Колокольчик» и прочувственно отозвался о нем в романе «Униженные и оскорбленные». С января по июль 1861 года этот роман печатался в новом журнале «Время» (издателем журнала был сам Федор Михайлович вместе с братом Михаилом Михайловичем).
Конечно, Полонский читал роман и не мог не обратить внимания на вот эту страницу:
«Мы замолчали, продолжая ходить по комнате.
– Я все тебя ждала, Ваня, – начала она вновь с улыбкой, – и знаешь, что делала? Ходила здесь взад и вперед и стихи наизусть читала; помнишь – колокольчик, зимняя дорога: „Самовар мой кипит на дубовом столе…“, мы еще вместе читали:
Улеглася метелица; путь озарен,
Ночь глядит миллионами тусклых очей…
И потом:
То вдруг слышится мне – страстный голос поет,
С колокольчиком дружно звеня:
„Ах, когда-то, когда-то мой милый придет
Отдохнуть на груди у меня!
У меня ли не жизнь! чуть заря на стекле
Начинает лучами с морозом играть.
Самовар мой кипит на дубовом столе,
И трещит моя печь, озаряя в угле
За цветной занавеской кровать…“
– Как это хорошо! Какие это мучительные стихи, Ваня, и какая фантастическая, раздающаяся картина. Канва одна, и только намечен узор, – вышивай что хочешь. Два ощущения: прежнее и последнее».
Героиня романа Достоевского и дальше читает стихи Полонского наизусть:
То вдруг слышится мне – тот же голос поет,
С колокольчиком грустно звеня:
Где-то старый мой друг? я боюсь, он войдет
И, ласкаясь, обнимет меня!
Что за жизнь у меня! – И тесна, и темна,
И скучна моя горница; дует в окно…
За окошком растет только вишня одна,
Да и та за промерзлым стеклом не видна
И, быть может, погибла давно.
Что за жизнь! Полинял пестрый полога цвет;
Я больная брожу и не еду к родным,
Побранить меня некому – милого нет…
Лишь старуха ворчит…
«– „Я больная брожу“… эта „больная“, как тут хорошо поставлено! „Побранить меня некому“, – сколько нежности, неги в этом стихе и мучений от воспоминаний, да еще мучений, которые сам вызвал, да и любуешься ими… Господи, как это хорошо! Как это бывает!»
Журналу братьев Достоевских «Время» Полонский предложил тогда начатый им роман в стихах «Свежее предание». Передал журналу первые главы.
В майском номере появилось сообщение от имени редакции: «В следующей, июньской книге „Времени“ мы печатаем одно из замечательнейших произведений нашей текущей литературы: первые три главы из романа в стихах Я. П. Полонского „Свежее предание“. Мы говорим об этом произведении как о событии в литературе».
В этом стихотворном романе Полонский припоминал свою молодость, сороковые годы, Москву. Героем своим выбрал реального, некогда ему хорошо знакомого человека – поэта Клюшникова (вывел его, конечно, под другим именем). Невольно подражал Пушкину, – читая «Свежее предание», нельзя не вспомнить «Онегина», «онегинскую строфу». Правда, у Полонского роман получался не столь впечатляющим, но стих его был картинен и четок:
Метель, шумя по чердакам,
С дощатых кровель снег сдувает;
Фонарь таинственно мигает
Двум отдаленным фонарям,
Закрыты ставни у соседей;
Высоко где-то на стекле
Свет огонька дрожит во мгле.
Так умели писать немногие.
Получил он неожиданное письмо от Евгении Сатиной, – почему она вспомнила о нем? Сколько лет ее не встречал…
«Вас удивит, что я теперь вздумала писать к Вам, но я давно добивалась Вашего адреса, и никто не мог мне его сообщить, на днях же, читая „Время“, мне пришло в голову адресовать Вам письмо в редакцию этого журнала, вероятно там знают, где Вы живете… Я теперь человек совершенно самостоятельный и живу совершенно одна.
…Пожалуйста, не смейтесь надо мною, что я вздумала писать к Вам, поверьте, прежних глупостейу меня давно и в голове уже нету, и я не только самостоятельный,но и положительныйчеловек, пишу же я к Вам, как к хорошему старому знакомому, ежели же не хотите отвечать мне, то пришлите это письмо назад Евгении С.
Адрес мой: в Москве, близ Арбата, у Успения на Могильцах, в доме Букина.
Р. S. Может быть, Вам покажется странным, что я живу на квартире и не в моем доме на Рождественском бульваре, но я уже шестой год не живу там, т. е. с кончины маменьки, отец же женился на другой…»
Полонский это письмо не вернул ей, так что, видимо, ответил. Он, конечно, все вспомнил, но теперь, вероятнее всего, пожалел эту женщину и мягко, без обидных или резких слов, написал ей, что былого не воскресить…
Врачи советовали ему ехать на воды в Австрию, в горные альпийские курорты Ишль и Бад Гастейн – лечить колено: оно по-прежнему побаливало и опухало.
В июне он выехал из Петербурга по железной дороге в Вену. Оттуда – в Ишль. Из Ишля – в Бад Гастейн.
«Гастейнские воды мне, кажется, помогают, – писал он Марии Федоровне Штакеншнейдер. – …Лапа моя сильно болела после 8 ванн – но потом вдруг легче стало, и я ею очень свободно двигаю… Горы меня не давят, но воздух здесь так чист и редок, что подчас как будто не хватает для дыхания».
Под конец пребывания в Бад Гастейне получил он письмо от Федора Михайловича Достоевского: «Бесценнейший Яков Петрович, простите великодушно, что до сих пор не писал к Вам ничего… Пишете ли Вы, драгоценный голубчик? 3 главы Ваши вышли еще в июне и произвели сильно разнообразное впечатление… Друг Страхов заучил все эти три Ваши главы наизусть, ужасно любит цитировать из них, и мы, собравшись иногда вместе, кстати иль некстати, приплетаем иногда к разговору Ваши стихи. В литературе, как Вы сами можете вообразить, отзывов еще нет, кроме тех, которым не терпится, чтоб ругнуть».
Уже в июльской книжке «Русского слова» молодой поэт-сатирик Дмитрий Минаев насмешливо отозвался о первых главах «Свежего предания», причем как образчик поэтической нелепицы процитировал такие (по-моему, отлично выписанные) строки:
Ночь на исходе. Снежным комом,
Уединенна и бледна,
Висит над кровлями луна,
И дым встает над каждым домом,
Столпообразным облакам
Подобно; медленно и грозно
Он к потухающим звездам
Ползет.
Неу́жели так поздно?!
Лениво удаляясь прочь,
У башен спрашивает ночь,
– Да уж девятый!
Звонит ей Спасская в ответ,
И ночь уходит. Ей вослед
Глядит, зардевшись, кремль зубчатый
Сквозь призму неподвижной мглы.
Над серыми его зубцами
Кресты и вышки и орлы
Горят пурпурными огнями,
И утро с розовым лицом
Стучится в ставни кулаком:
«Вставай, лентяй! вставай, затворник!»
«Если вы умеете наслаждаться поэзией, – иронически замечал Минаев по поводу этих строк, – то на вас должны обаятельно-страстно подействовать эти образы – ночи, которая говорит с башнями, и розолицего утра, которое стучит своим кулаком в ставни окон». И далее сатирик, демонстрируя прискорбную глухоту и невосприимчивость к поэтическим метафорам, печатал собственную пародию на вышеприведенный отрывок.
Достоевский отнес Минаева к числу тех, кому «не терпится, чтоб ругнуть».
Из Бад Гастейна Полонский поехал еще на курорт Теплиц.
Вернулся из-за границы 5 сентября.
А 14 сентября литературный мир Петербурга был поражен известием об аресте Михаила Михайлова. За что арестовали – никто не знал. Дня через два в доме графа Кушелева собрались многие литераторы – обсудить то, что произошло, и что-то предпринять, чтобы выручить собрата из беды. Решили подать петицию министру народного просвещения Путятину. Петицию поручили тут же составить публицисту Громеке, а подать ее – депутации из трех человек: графа Кушелева, Громеки и Краевского. Подписали петицию тридцать литераторов самых разных направлений.
Полонский ее не подписывал – это можно объяснить только тем, что на собрании у Кушелева он не был и подписать ему не предложили.
Путятин не соизволил принять депутацию в полном составе, сделал исключение для графа Кушелева. Граф заявил, что он пришел как представитель сословия литераторов, – Путятин сердито сказал, что такого сословия не знает, однако петицию принял.
О ней доложили царю. Царь был возмущен, счел письмо литераторов «совершенно неуместным» и повелел исключить графа Кушелева-Безбородко из числа камер-юнкеров.
Минувшим летом Михайлов вместе с Шелгуновыми снова был за границей. Они приезжали в Лондон, встречались там с Герценом, и он согласился напечатать в типографии прокламацию «К молодому поколению» (составил ее Шелгунов).
Прокламация была обращена в первую очередь к русской студенческой молодежи: «Не забывайте того, что мы обращаемся к вам по преимуществу, что только в вас мы видим людей, способных пожертвовать личными интересами благу всей страны. Мы обращаемся к вам потому, что считаем вас людьми, более всего способными спасти Россию…» И наконец: «Мы хотим выборной и ограниченной власти, свободы слова, всеобщего самоуправления, равенства всех перед законом и в государственных податях и повинностях, точного отчета в расходовании народных денег, открытого и устного суда…»
Эту прокламацию в шестистах экземплярах Михайлов привез с собой в Петербург (он возвратился раньше, чем Шелгуновы). Ему удалось ее за два дня распространить, и об этом дозналось Третье отделение.
Непосредственно при Третьем отделении просидел он в камере месяц, затем его перевели в Петропавловскую крепость…
Студентам Петербургского университета неожиданно были объявлены новые правила. С начала учебного года министр Путятин вводил «матрикулы» – зачетные книжки, без предъявления которых в здание университета не впускали. Вводилась обязательная плата за обучение.
Студенты открыто возмущались.
«Университет в прошлое воскресенье закрыт и запечатан, – сообщал Полонский 27 сентября в письме к Софье Адриановне Сонцевой в Брюссель. – В понедельник толпа студентов, т. е. все студенты пошли к попечителю [от университета через весь город] узнать, что это значит, – их окружило войско… Ночью взято под арест до 70 студентов. Умы раздражены, весь город в волнении. Публика сочувствует студентам… Как хорошо, что вы не в Питере, как бы вы волновались, как бы негодовали!»
Две недели спустя толпа студентов собралась возле запертого университета, попыталась силой войти внутрь. Двести сорок человек было арестовано и доставлено в Петропавловскую крепость. Оттуда их через несколько дней перевели в Кронштадт. И заперли там в палатах госпиталя.
В числе арестованных студентов были сын Андрея Ивановича Штакеншнейдера Адриан и шестнадцатилетний Александр Сонцев, который и студентом еще не был. Отец его, Адриан Александрович, жил тогда в Витебске, и Полонский решил немедленно сообщить ему о происшедшем. «Нынче был я у Штакеншнейдеров… – написал он в письме. – За обедом, слышу, говорит Бенедиктов: „Вот и Сонцев был также взят, хоть он и не студент, и молодой человек сам не знает, за что его взяли“».
«Милый друг Адриан! – писал Полонский Сонцеву-старшему 1 ноября. – …Вчера пронесся слух, что кронштадтские пленники опять переведены в крепость. Нынче утром я туда отправился в объезд, ибо мосты все разведены. Виделся с комендантом [крепости], рассказал ему, в чем дело. Комендант сказал мне, что сейчас бы позволил мне видеться с твоим сыном, если бы он был в крепости, но все отвезенные в Кронштадт еще в Кронштадте. Ранняя зима с морозами до 10 градусов, застывшая Нева и снег по колено совершенно прервали всякое сообщение с Кронштадтом».
Софье Сонцевой Полонский послал еще одно письмо в Брюссель:
«Вы отчасти угадали причину моего молчания – я не очень здоров и хандрю… Но это вовсе не помешало бы мне написать к Вам. Если бы не было третьей причины, о которой Вы не догадываетесь. Это причина чисто психологическая. Мне противно было думать, что мое дружеское письмо к Вам, прежде чем дойдет до Вас, будет прочитано – черт знает кем. Здесь в Питере все убеждены, что все заграничные письма вскрываются и читаются… Живешь в России – кажется, можно бы привыкнуть ко всему. Ведь взята же вся моя переписка с Михайловым – и где она, кто ее изучает? Господь знает… Отчего бы, кажется, не привыкнуть? Так нет! Никак не могу угомонить души своей…»
В начале декабря было освобождено большинство арестованных студентов. И стало известно, что Михайлов осужден на шесть лет каторги.
«Вчера был у нового генерал-губернатора, – сообщал Полонский Сонцеву, – просил позволения видеться с Михайловым. Мне завидно, что он идет на каторгу, – кажется, с удовольствием пошел бы на его место…» Даже так!
Не знал он утром 14 декабря, что в это утро Михайлова заковали в кандалы и еще затемно (зимой в Петербурге светает поздно) привезли на площадь у Сытного рынка. Посмотреть на привезенного арестанта собралась на заснеженной площади небольшая толпа – случайные прохожие. На специально сооруженном помосте был совершен над Михайловым обряд гражданской казни: при барабанном бое поставили его на колени, прочитали приговор, переломили над головой осужденного шпагу. Затем его отвезли обратно в крепость.
В полдень к нему на свидание допустили нескольких близких ему людей, в том числе Шелгунова и Полонского.
В тот же день Михайлова увезли на каторгу в Сибирь.
В доме Штакеншнейдеров стали бывать новые гости, в их числе – выпущенный из-под ареста бывший студент Пантелеев (вот из таких горячих молодых людей незаметно зарождалось революционное подполье).
Впоследствии Пантелеев вспоминал:
«На вечерах у Штакеншнейдеров я познакомился с Я. П. Полонским; он с первого же раза стал держать себя как старший товарищ. Одно время я нередко бывал у него, даже сделал в его квартире своего рода склад, когда что-нибудь находил неудобным держать у себя. Раз как-то Я. П. и говорит:
– А послушайте, Пантелеев, что мне достанется, если найдут у меня?
– Если сразу скажете, что получили от меня, то не особенно много, а упретесь, то вам с вашей музой придется перебраться в Сибирь.
– Черт побери, я не хочу ни того, ни другого!
– Так я унесу обратно…
– Нет, я не к тому говорю, а надо, значит, спрятать, чтобы кто-нибудь не увидал».
Еще одним посетителем вечеров у Штакеншнейдеров стал писатель Помяловский.
Полонский рассказывал в письме к Сонцеву (в начале декабря 1861 года):
«Третьего дня вечером зашел ко мне некто Помяловский, человек молодой, очень умный и очень талантливый. Повесть его в Современникеимела успех. Когда он вошел, я ему сказал: – У вас распух глаз, и поэтому водки я вам не предлагаю. – Ничего, можно! – отвечал он. Ему подали. Просидел он у меня до часу ночи. Был мороз и ветер – ему идти было далеко – я оставил его ночевать. Что же, вы думаете, он делает у меня ночью? Заметив, где стоят графины с водкой, он к утру осушил их до капли. Водки мне, конечно, не жаль, а было нестерпимо жаль и горько думать, что вот и этот человек пропадет – пойдет по следам Мея или Аполлона Григорьева…»
«И сколько людей принимало в нем самое сердечное участие и старалось удержать его от слабости, губившей его, – вспоминает о Помяловском Пантелеев. – Особенно им был увлечен Я. П. Полонский; в 1862 г. он даже перевес его к себе на квартиру». Об этом вспоминает и сам Полонский: «…он жил со мной, в моей университетской квартире, около трех недель, старался не пить, и я знаю, каков он был – трезвый… Более всего ценил я в нем оригинальность ума – осмысленный, трезво-практический взгляд на все явления жизни – и его замыслы». Пантелеев рассказывает, что Помяловский, пытаясь избавиться от пристрастия к алкоголю, «плакал иногда, как ребенок, делал над собой невероятные усилия, останавливался на одну-две недели и затем вдруг пропадал, и Я. П., бывало, немалых трудов стоило разыскать его в какой-нибудь трущобе, и можно себе представить, в каком ужасном виде».
Продолжение «Свежего предания» печаталось в журнале «Время», но этот роман в стихах так и остался неоконченным. Взявшись выстраивать подобие сюжета и покинув лирическую стихию, Полонский почувствовал себя неуверенно – и спасовал. Некоторые уже написанные строфы он зачеркнул. В том числе такую строфу в конце:
Не умники спасут Россию.
В безумце своего мессию
Они увидят, но прости —
Не мне идти на подвиг трудный,
Ведь я такой же отрок блудный,
Не знающий, куда идти.
К тому же, Полонского чрезвычайно смутили насмешливые отклики, прозвучавшие со страниц «Русского слова».
К этому времени граф Кушелев уже устал возиться с журналом и полностью доверил его Благосветлову. Главным сотрудником нового редактора стал молодой критик Писарев.
Еще осенью 1860 года Писарев, никому тогда не известный двадцатилетний юноша, принес Полонскому свой стихотворный перевод из Гейне. Полонский рекомендовал его Благосветлову, и тот прислал записку: «Милейший Яков Петрович, г. Писарева приму, усажу и поговорю с ним…»
Прошел год – и на страницах «Русского слова» Писарев заявил: «Гг. Фет, Полонский, Щербина, Греков и многие другие микроскопические поэтики забудутся так же скоро, как те журнальные книжки, в которых они печатаются. „Что вы для нас сделали? – спросит этих господ молодое поколение. – Чем вы обогатили наше сознание? Чем вы нас шевельнули, чем заронили искру негодования против грязных и диких сторон нашей жизни? Сказали ли теплое слово за идею? Разбили ли хоть одно господствующее заблуждение? Стояли ли вы сами хоть в каком-нибудь отношении выше воззрений нашего времени?“ На все эти вопросы, возникающие сами собою при оценке деятельности художника, наши версификаторы не сумеют ответить».
Огорченный Полонский сетовал на «Русское слово» в письме к Тургеневу. Тургенев отвечал: «Отрывок из статейки г-на Писарева, присланный тобою, показывает, что молодые люди плюются; погоди, еще не так плеваться будут! Это все в порядке вещей – и особенно на Руси не диво, где мы все такие деспоты в душе, что нам кажется, что мы не живем, если не бьем кого-нибудь по морде. А мы скажем этим юным плевателям: „На здоровье!“ – и только посоветуем им выставить из среды своей хотя таких плохих писателей, каковы были те, в кого они плюют. Тогда они будут правы, а мы им пожелаем всякого благополучия».
Круг почитателей Писарева, увлеченных его радикальными взглядами и молодым задором, ширился с поразительной быстротой.
Полонскому запомнился вечер в художественном клубе в Троицком переулке:
«Было тесно и душно; публика захватила все кресла и занимала все проходы между рядами их. И не мудрено: в этот вечер на балюстраде ожидалось появление одного из корифеев тогдашней журналистики. Неистовым громом рукоплесканий был встречен и провожаем этот любимец интеллигентной толпы, в особенности молодежи. Когда он читал, каждое слово казалось ей законом. И что же было темой его поучений? Этого нельзя забыть. Он проповедовал, что занятие поэзией – сущий вздор, пустяк, нечто простительное одним только малоумным и пошлым людям… Я, разумеется, молчал».
Полонский пытался понять этих молодых людей, постигнуть новые веяния. «Читаю я теперь Фейербаха… – писал он Софье Сонцевой. – Атеизм никак не гармонирует с моей натурой, но ум и его признаёт… Быть может, люди нового поколения и в сфере полнейшего неверия сумеют совершенно акклиматизироваться и отрастить новые крылья – не знаю. Говорю о себе – до сих пор я был идеалистом. В новом воздухе – прежде, чем летать, нужно еще дышать привыкнуть».
Он написал такие стихи:
Была пора, когда уединенье
Манило в свой приют измученных душой,
И люди шли в леса искать себе спасенья,
Последнее свое ожесточенье
Меняя на таинственный покой.
………………………………………
Теперь не то, товарищ старый мой,
В уединенье нам не будет развлеченья,
Да и куда мы убежим с тобой?
Нет, что ни говори и как ни злись отныне,
Пустыня не для нас и мы не для пустыни.
Этим стихам он дал заголовок «Уединение». Поставил дату: 2 апреля 1862 года.
А 8 апреля Елена Андреевна Штакеншнейдер записала в дневнике: «Неожиданно сегодня приехал Полонский, удивил, обрадовал. Он привез свои стихи [должно быть, „Уединение“]. Еще привез он где-то добытую прокламацию…»
В его тогдашних черновиках сохранилась такая запись: «В настоящее время – как уверяют заграничные книгопродавцы – русские издания по Европе расходятся до 20 000 экземпляров ежегодно. Русские книги и газеты, издаваемые без разрешения русского правительства, продаются в Лондоне, в Париже, в Брюсселе, в Лейпциге, в Мюнхене, в Берлине и даже в Вене. Я сам видел их на водах в Австрии – в маленьких библиотечках в Ишле, в Бад Гастейне, в Теплице. Сколько же их расходится в Баден-Бадене, в Крейцнахе, в Эмсе, в Остенде, где русских каждое лето пребывает такое множество… Смело можно сказать, что в России, если сойдутся 5–6 человек и начнут беседовать, то эта беседа, если ее записать, будет не пропущена цензурой… Ведь то, что я пишу, я слышал 100 раз по крайней мере – а ведь не могу же я напечатать того, что пишу».
Что-то он тайно писал Герцену.
Не знал он, что 1 июля 1862 года агент Третьего отделения Балашевич, живший в Лондоне под именем графа Потоцкого, сообщил в Петербург коротенький список лиц, о коих ему стало известно, что они переписываются с Герценом. В этом списке значился Яков Петрович Полонский.
Елене Андреевне Штакеншнейдер он посвятил тогда такие строки:
Ползет ночная тишина
Подслушивать ночные звуки…
Травою пахнет, и влажна
В саду скамья твоя… Больна,
На книжку уронивши руки,
Сидишь ты, в тень погружена,
И говоришь о днях грядущих,
Об угнетенных, о гнетущих,
О роковой растрате сил,
Которых ключ едва пробил
Кору тупого закосненья…
Беспокойный был год. В мае – пожары в Петербурге, и как дым от них – слухи о поджогах. Якобы поджигали те, что хотят взбунтовать народ, – студенты, прокламаторами наученная молодежь. А корень зла – революционные идеи, проникшие в Россию через журналы, якобы растлевающие молодые умы вредными статьями. В июне правительство приказало прекратить на восемь месяцев издание журналов «Современник» и «Русское слово». В июле были арестованы и посажены в крепость Писарев и Чернышевский.
В Петербурге, в казармах лейб-гвардии Саперного батальона был задержан исключенный из университета восемнадцатилетний Алексей Яковлев – он пытался распространять листы герценовского «Колокола» среди солдат. Сразу после ареста Яковлев переправил записку другому бывшему студенту – Николаю Кудиновичу. Того также арестовали. Обоих посадили в крепость.
Оба уже попадали туда ранее – за участие в студенческих волнениях в прошлом году. После этого Кудинович бывал в доме Штакеншнейдеров, бывал и у Полонского.
Военный суд приговорил Яковлева к расстрелу. Смертный приговор был затем заменен шестью годами каторжных работ.
Полонский испросил разрешения свидеться с арестованным Кудиновичем, к которому относился с безусловной симпатией.
«На днях видел я К-ча – он еще в крепости, – сообщал он Софье Сонцевой в январе 1863 года. – Дело его кончено, и он осужден на 3 месяца». После того, как уже отсидел шесть. Итого – девять.
Привезли в Петербург из Сибири и тоже посадили в крепость Шелгунова (ему еще сидеть в одиночке полтора года, потом отправят в ссылку)…
Ко всему этому Полонский оставаться равнодушным не мог:
Писатель, если только он
Волна, а океан – Россия,
Не может быть не возмущен,
Когда возмущена стихия.
В зале петербургского Благородного собрания 10 апреля многочисленная публика собралась на литературно-музыкальный вечер. Первыми выступили Помяловский, Достоевский, Полонский.
Полонский прочитал стихотворение «Одному из усталых» (новый вариант «Уединения»):
Устал ли ты науку догонять
Иль гнаться по следам младого поколенья —
Не говори, что хочешь ты бежать,
В глуши искать уединенья.
К чему!..
И заканчивал так:
Не говори мне, что природа – мать:
Она детей не любит одиноких;
Ожесточенных, так же как жестоких,
Природа не умеет утешать.
И ничего не сделает природа
С таким отшельником, которому нужна
Для счастия законная свобода,
А для свободы – вольная страна.
В зале присутствовал агент Третьего отделения. Он затем доносил своему начальству: «Стихотворения Полонского „Твой скромный вид“ и „Одному из усталых“ не произвели никакого впечатления, хотя последнее и оканчивалось стихом, явно рассчитанным на эффект».
На другой день после выступления в этом зале Полонский принес Тютчеву полученную, как он сказал, по почте прокламацию нового тайного общества «Земля и воля».
С начала этого года в польских губерниях началось восстание за независимость Польши, за ее отделение от Российской империи. Восставшие явно не рассчитали свои силы, к лету их поражение стало очевидным.
Отношение к польскому вопросу раскололо все русское общество. В поддержку восставших выступил «Колокол» Герцена, восстанию сочувствовали русские революционеры. Консерваторы и монархисты были против.
Журнал Достоевских «Время» в апреле поместил статью «Роковой вопрос». Статья была продиктована стремлением подойти к польскому вопросу беспристрастно.
Тяжелым и неожиданным ударом для Достоевских было решение правительства запретить издание журнала – за эту самую злосчастную статью.
Федор Михайлович Достоевский писал Тургеневу:
«…нас обвинили в антипатриотических убеждениях, в сочувствии к полякам и запретили журнал за статью в высшей степени по-нашему патриотическую. Правда, что в статье были некоторые неловкости изложения, недомолвки, которые и подали повод ошибочно перетолковать ее… Мысль статьи (писал ее Страхов) была такая: что поляки до того презирают нас как варваров, до того горды перед нами своей европейской цивилизацией, что нравственного (т. е. самого прочного) примирения их с нами не предвидится. Но так как изложения статьи не поняли, то и растолковали ее так: что сами, от себя,уверяем, будто поляки до того выше нас цивилизацией, а мы ниже их, что естественно они правы, а мы виноваты».
В июле Полонский писал Майкову: «М. Достоевский сильно надеется: что месяца через два журнал вновь будет разрешен».
Летом по приглашению семьи Тютчевых побывал Полонский в Овстуге – имении Федора Ивановича Тютчева в Орловской губернии. Полонский рассказывал в письме к Сонцевой, что в Овстуге он «провел только 10 дней – блаженных по невозмутимой тишине и присутствию одной очень милой особы» (дочери Тютчева Марии Федоровны).
В комитете иностранной цензуры открылась вакансия – должность младшего цензора, и Тютчев, председатель комитета, предложил Полонскому занять это место.
Полонский растерялся, не зная, как поступить.
Ему – стать цензором?
Правда, цензорскую должность занимал такой почтенный писатель, как Иван Александрович Гончаров, цензором – и давно уже – был Аполлон Майков…
Полонский решил посоветоваться с Некрасовым.
Впоследствии вспоминал:
«Я пришел к нему в тот день, как открылось это место и мне стали предлагать его; я высказал ему, как я колеблюсь, как тяжело мне быть на таком месте, служенье которому идет вразрез моим убеждениям. Некрасов засмеялся. Он назвал меня Дон-Кихотом, чуть не дураком. – Вам дают место в 2500 рублей жалованья [в год], а вы, бедный человек, будете отказываться – да это просто глупо! Никто вам за это спасибо не скажет – за ваше самоотверженье вас же осмеют».
В письме Сонцевой Полонский тогда же рассказывал:
«Я долго, очень долго колебался – изъявлять согласие, – наконец решился взять это неприятное для себя прозвище – ради той свободы, которую дает оно. Как секретарь, я не могу ни на один день покинуть Петербурга – каждый день может быть бумага, требующая немедленной справки или ответа. Цензор же совершенно волен… Правда, я лишусь казенной квартиры, но зато буду получать 2500 рублей жалованья и смогу кой-что откладывать на случай болезни или дальней дороги».
Так он уговорил сам себя.
Стал младшим цензором и переехал на другую квартиру – в дом у Харламова моста через Екатерининский канал.
Много лет спустя рассказывал он в письме к литератору Пыпину:
«…В разгар польского восстания один неоспоримый факт поражал меня – невольно возникал вопрос: отчего наши юные офицеры, по крайней мере самые развитые, шли усмирять мятеж с явной неохотой и нисколько не скрывали симпатий своих к Польше, к полякам и их геройскому самоотвержению, а возвращались разочарованные и по отношению к Польше с нескрываемым озлоблением». Иных молодых офицеров Полонскому, видимо, встречать не привелось (но мы знаем, что озлобление вовсе не было общим). И вот «на основании кой-каких рассказов, фактов и соображений» задумал он сочинить «несколько сцен, чтоб, с помощью вдохновения, и для себя и для других решить вопрос – или причину такого явления».
В конце 1863-го и в начале 1864 года он быстро, в несколько недель, написал белым стихом свои «сцены». Местом действия выбрал белорусскую глушь, где поляками были только помещики и ксендзы и где восстание не имело и не могло иметь поддержки в народе. Изобразил помещика Славицкого – это ярый националист, убежденный, что Белоруссия должна войти в состав возрожденной Польши. Русский офицер Танин (по духу – двойник самого Полонского) знакомится с семьей Славицких. Возникает диалог:
Славицкий:
Я вижу, с вами можно знаться, ибо
Вы, кажется, на русских непохожи.
Танин:
Я? Странный комплимент! Не ошибитесь:
Насколько вы поляком будете, настолько
Я буду русским; будьте человеком,
И между нами разницы не будет.
Разворачивается несложный сюжет: любовь Танина к сестре Славицкого, душевный разлад между чувством и долгом, быстрое подавление восстания (но в этой глуши восставать почти некому), непримиримость польских националистов-фанатиков – и высказанная в конце убежденность Танина (то есть самого Полонского):
Зло не побеждают злом:
Два зла, борясь, в борьбе ослабевают,
И вот одно-единственное благо,
Которое мы ждем от их борьбы, —
Меч притупляет меч.
Полонский рассказывал в письме к Пыпину: «Первый, кому я прочитал, был [историк] Костомаров, и я, к удивлению моему, встретил в нем глубокое сочувствие. Он посоветовал назвать мое произведение Разладом– так я и окрестил его».
Затем Полонский прочел «Разлад» Тютчеву («Тютчев пророчил мне успех и оказался плохим пророком»). Читал Тургеневу, Боткину, Гончарову. Боткин сказал патетически, что Полонский въезжает в литературу на белом коне. Тургенев критиковал, но деликатно – не хотел, должно быть, автора огорчать. Гончаров отозвался одобрительно, но, как цензор, сомневался в возможности пропустить «Разлад» без определенных сокращений. Рекомендовал Полонскому прочесть рукопись министру внутренних дел Валуеву, если, конечно, тот согласится выслушать. Именно Валуев в минувшем году потребовал запрещения журнала «Время» за статью «Роковой вопрос», и теперь его мнение о «Разладе» – произведении на ту же тему – могло бы стать решающим для цензурного комитета.
И вот, с согласия автора, о «Разладе» Гончаров сообщил председателю цензурного комитета, тот – министру. Наконец Полонский получил записку от Гончарова:
«Министр желает выслушать поэму от Вас самих на следующей неделе». И еще одну записку: «…министр хочет назначить чтение Вашего произведения в понедельник или во вторник на будущей неделе, следовательно завтра (в пятницу) Вы свободны, почтеннейший Яков Петрович, и по обещанию, вероятно, не откажетесь прочесть сцены у А. Д. Галахова [профессора русской словесности], который Вас просит к 8 вечера с нетерпением…»
Полонский читал свой «Разлад» у Галахова, читал в кабинете министра.








