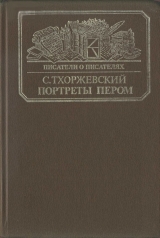
Текст книги "Портреты пером"
Автор книги: Сергей Тхоржевский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 31 страниц)
…Насмешливая природа, вместе с творческим даром, дала ему и все причуды поэта: и эту врожденную страсть к независимости, и это непреоборимое отвращение от всякого механического занятия, и эту привычку дожидаться минуты вдохновения, и эту беззаботную неспособность рассчитывать время.
В. Ф. Одоевский. «Русские ночи»
Теперь он с нетерпением ждал ответа Бутенева на его письмо, отправленное сразу же по возвращении в Одессу. Наступил новый, 1835 год, прошел еще месяц, два, три – ответа не было. Тепляков не выдержал, написал Бутеневу снова. Выразил беспокойство, не затерялось ли предыдущее письмо? Не затерялся ли пакет, в котором было два его труда о Востоке? Написал, что ожидание ответа задерживает его отъезд в Петербург.
Собственно, отъезд в Петербург он откладывал главным образом из-за неопределенности обещаний Воронцова: то ли поддержит его просьбу о назначении в Константинополь и отпустит из Одессы, то ли нет. Графиня Эдлинг в один из мартовских дней прислала Теплякову записку: «Я опять думала о Вашем деле, а во время завтрака у меня был один господин, с которым произошел такой случай, как с Вами, то есть просьба принята была очень благосклонно, были обещания, надежды, а потом такая галиматья, что он покинул Одессу, потеряв всякую надежду на успех… Думаю, Вы можете добиться того, что желаете, даже не прибегая к помощи дипломатии, но для этого надо развязать связывающий Вас тут Гордиев узел, не разрубая его». Она советовала попросить Воронцова, чтобы тот послал письмо в Петербург шефу жандармов графу Бенкендорфу и объяснил бы в письме, что назначение в Константинополь – единственная милость, о которой Тепляков просит. Графиня Эдлинг предполагала, что вряд ли можно обойтись без согласия шефа жандармов, поскольку над Тепляковым все еще тяготеет его провинность, за которую он был сослан на юг России.
Нет, Воронцов письма к Бенкендорфу не послал, но 5 апреля наконец-то подписал Теплякову отпуск. Можно было отправляться в Петербург.
По дороге он провел несколько дней в Москве, потом заехал в Дорошиху. Оказалось, отец лежит больной, и Виктор Тепляков задержался в родительской усадьбе на две недели. Только 18 мая выехал он в дилижансе из Твери и 21-го прибыл в Петербург.
Снова увидел он северную столицу – после восьми с лишним лет вынужденного расставания…
Ему надо было явиться в министерство иностранных дел, на Дворцовую площадь.
За последние годы площадь преобразилась: в ее центре была воздвигнута грандиозная колонна, и с вышины ее бронзовый ангел с крестом смотрел вниз, на императорский Зимний дворец.
В министерстве принял Теплякова управляющий Азиатским департаментом – седовласый «папа Родофиникин», как фамильярно именовали его между собой петербургские чиновники (в том же Азиатском департаменте служил его сын, так что добавление «папа» оказывалось необходимым в разговоре, дабы ясно было, о ком речь).
Тепляков подал прошение – просил причислить его к русской миссии в Константинополе. В прошении отмечал: «С тех пор, как по поручению начальства Новороссийского края изучал я во время войны 1829 года классическую страну, занятую в это время нашими войсками, я почти полностью посвятил себя изучению Востока…»
Но если б он ограничился подачей прошения, вряд ли мог бы рассчитывать на благоприятный ответ. По совету графини Эдлинг и с ее рекомендательным письмом он явился с визитом к управляющему почтовым департаментом князю Александру Николаевичу Голицыну.
В то время князю уже перевалило за шестьдесят. Одет он был в неизменный светло-серый фрак и белый жилет с голубой лентой через плечо. Прежде, при Александре Первом, Голицын занимал более высокие посты, был обер-прокурором Синода, но столпы церкви добились его отставки, ибо, с их точки зрения, князь никак не соответствовал этой суровой должности: слабо разбирался в вопросах веры, снисходительно относился к масонам. Было также известно, что в молодые годы он набожностью не отличался и образ жизни вел далеко не монашеский. Ныне, в кругу приятелей, Голицын признавался, что «самой лютой» из его страстей была любовь к женщинам, и охотно рассказывал старые закулисные анекдоты Зимнего дворца.
С графиней Эдлинг он познакомился еще в те годы, когда она была незамужней молодой фрейлиной. С той поры Голицын считал своим долгом выполнять ее просьбы. В июне 1835 года, после визита Теплякова, он написал ей с неизменной галантностью:
«Ваш протеже, графиня, господин Тепляков, представился мне с Вашим письмом; сначала я обрадовался получению письма от Вас, по этой причине он был очень хорошо мною принят. Мы с ним затем побеседовали, это человек интересный и может быть полезен для той цели, для которой он себя предлагает; к сожалению, он прибыл накануне отъезда вице-канцлера на воды, в тот же день граф Нессельроде посетил меня, чтобы раскланяться, и я ему сразу же передал все, о чем просил г-н Тепляков. Граф очень хорошо принял мои ходатайства и обещал заняться этим по возвращении, поскольку он уже откланялся императору и не может причислять к нашей константинопольской миссии, не испросив приказа его величества…» Нессельроде собирался вернуться в Петербург не раньше октября. Так что Тепляков должен был набраться терпения.
Князю Голицыну и его секретарю Попову он вынужден был рассказать о себе довольно подробно. Решил все же не признаваться в том, что в 1826 году отказывался от присяги царю. Такое признание могло отпугнуть Голицына, и все хлопоты пошли бы насмарку… Сказал, что в те дни, когда жандармы хватали участников разгромленного восстания 14 декабря, он, Тепляков, на исповеди сказал священнику: «Теперь всех берут, я боюсь, что и до меня доберутся», и вот священник пригрозил донести – будто бы только об этих его словах… О дальнейшем Тепляков не стал умалчивать в разговоре с Голицыным.
Родофиникин, замещавший министра в его отсутствие, распорядился составить бумагу, в коей испрашивалось согласие Воронцова на продолжение пребывания Теплякова в столице – «для занятий по Азиатскому департаменту». Можно было догадаться – не послал бы Родофиникин этой бумаги, если бы не ходатайство влиятельного лица…
Из Одессы переслали Теплякову долгожданный ответ Бутенева, отправленный из Буюк-Дере 27 мая (посланник с ответом не спешил). «Я чрезвычайно тронут, – писал щедрый на любезности Бутенев, – доверием, которое Вы в такой степени выражаете мне своими письмами – последним, от 21 марта, и предыдущим – о похвальном намерении посвятить Ваш талант и досуг путешествиям и литературному труду, предметом которого был бы Константинополь и соседние страны. Убежденный в пользе подобного проекта и в успехе, с которым Вы осуществили бы его, я не считаю себя однако вправе предложить его от своего имени императорскому правительству. Мне кажется, что графу Воронцову, Вашему просвещенному и расположенному к Вам начальнику, в ведении которого Вы имеете честь находиться, принадлежит инициатива подобного предложения. Если оно будет принято императорским двором, я в свою очередь буду очень счастлив предложить Вам все возможное содействие и услуги, от меня зависящие».
Короче говоря, Бутенев ничего не желал предпринимать, несмотря на то что был якобы «чрезвычайно тронут» доверием Теплякова и был бы «очень счастлив» ему помочь.
До возвращения в Петербург вице-канцлера оставалось одно: ждать ответа Воронцова на запрос Родофиникина. А так как на лето Воронцов, конечно, уплыл в Крым, отстранясь тем самым от мелких повседневных дел, ответ его можно было ожидать только осенью.
Единственно отрадными были для Виктора Теплякова петербургские встречи с собратьями по перу.
Посетил он Жуковского – конечно, поблагодарил еще раз за лестный отзыв о книге «Письма из Болгарии». Встретился с князем Владимиром Одоевским, которого помнил по Московскому университетскому пансиону, – Одоевский был на год старше, учились вместе. Новой встрече посодействовал приехавший в отпуск из Константинополя Титов.
Однажды в июне прислал он Теплякову записку: «Одоевский весьма желает возобновить с Вами знакомство и поручил мне звать Вас к себе на нынешний вечер. Итак, не можете ли Вы приехать к нему часу в 9-м. Я непременно буду уже там к этому времени. Одоевский живет за Черной речкой, у самой Выборгской заставы, на даче Ланской».
Неподалеку от Одоевского, на даче у Черной речки жил этим летом с семьей Александр Сергеевич Пушкин. Можно предположить, что здесь его Тепляков и встретил в первый раз. В одной из тетрадей Теплякова, среди беглых, предельно кратких записей под заголовком 1835 год,осталась такая же, к сожалению, краткая запись: «Встреча с Пушкиным». И ниже: «Посещение Пушкина. – Пушкин у меня».
Уже 4 июля Тепляков уехал в Дорошиху – навестить больного отца в его усадьбе. Затем еще месяц провел в Москве.
Графиня Эдлинг писала ему из Одессы: «Ваше письмо из Петербурга доставило бы мне большое удовольствие, если б я не чувствовала в нем Вашего обычного нетерпения… Князь Голицын писал мне и уверяет, что вице-канцлер решительно обещал ему, что Вы будете причислены к константинопольской миссии и что он даст своей канцелярии распоряжение приготовить все необходимые бумаги. Доказательством того, что он сдержал слово, служит обращение Родофиникина к графу Воронцову с просьбой уступить Вас их департаменту».
«К сожалению, граф вернется в Одессу не ранее 15-го или 20 сентября, – сообщала она в следующем письме. – Если уж Вы получите его ответ, держитесь Родофиникина и не адресуйтесь к другим чиновникам, это могло бы оттолкнуть его, а он – личность очень влиятельная при вице-канцлере».
В ответном письме Тепляков благодарил графиню Эдлинг за ее хлопоты и соглашался с ее советом держаться Родофиникина, так как выясняется, что именно он – «главная волна всего этого моря».
В Петербург Тепляков вернулся 15 октября. Вскоре получил из Одессы свидетельство о продлении отпуска. И тогда папа Родофиникин подписал другое свидетельство – об оставлении Теплякова при Азиатском департаменте по делам службы. Но это была лишь первая преодоленная ступенька в министерстве иностранных дел.
По вечерам он часто бывал у князя Одоевского, который жил в Мошковом переулке, рядом с набережной Невы, занимая двухэтажный флигель в доме своего тестя Ланского. Тут собирался круг избранных – то есть людей даровитых, не пустых. В этом кругу Тепляков мог забывать о своих невзгодах. Мог чувствовать себя равноправным собеседником, чье служебное положение и чин здесь не значили, слава богу, ничего.
Одоевский вызывал глубокое уважение уже тем, что превыше всего ставил справедливость. Он позднее писал: «Справедливостью не только заменяется великодушие, но в некоторой степени справедливость выше великодушия, ибо в великодушии есть нечто вроде милостыни, которая всегда унижает ее получающего, как бы осторожно ни была подана. Справедливость равнит просящего с подающим».
Он был истинный аристократ, представитель древнейшего рода (происхождение свое Одоевские вели по прямой линии от Рюрика, некогда княжившего на Руси). По сравнению с князем Одоевским император Николай и вся династия Романовых могла считаться выскочками и плебеями. Но не было в Одоевском ни малейшего чванства, и людей он оценивал не по титулам и фамилиям, а по степени дарований и образованности. Сам он обладал образованием поистине энциклопедическим, был не только даровитым литератором, но и тончайшим музыкантом.

Правда, широта его интересов мешала ему сосредоточиться на чем-то одном. Он не столько сосредоточивался, сколько рассредоточивался. «На меня нападают за мой энциклопедизм, смеются даже над ним, – отмечал он в записях для себя. – Но мне не приходилось еще ни разу сожалеть о каком-нибудь приобретенном знании. Мне советуют удариться в какую-нибудь специальность, но это противно моей природе. Каждый раз, когда я принимался за какую-нибудь специальность, предо мною восставали целые горы разных вопросов, которым ответ я мог найти лишь в другой специальности… Конечно, такое разнообразие направлений осложняет жизнь, но доставляет много не всем доступных наслаждений. Мне весело, что я могу говорить с химиком, с физиком, с музыкантом, даже немножко с математиком, с юристом, с врачом на их языках… И здесь не одна потеха для самолюбия. Мне так же весело уметь говорить на этих языках, как человеку, знающему иностранные языки, путешествовать: он везде дома, везде может удовлетворить своей любознательности, везде легко ему понять то, что для других навеки остается темным…»
По натуре кабинетный ученый, Одоевский не был человеком действия. Во время восстания декабристов он жил еще в Москве и о заговоре, может быть, ничего и не знал. После разгрома восстания были арестованы многие друзья молодого князя, в том числе его двоюродный брат Александр Одоевский. Как вспоминает одна современница, Владимир Одоевский тогда «был сумрачен, но спокоен, только говорил, что заготовил себе медвежью шубу и сапоги на случай дальнего путешествия». Нет, его никуда не сослали, даже не сочли нужным вызвать на допрос…
Теперь ему было уже за тридцать. Его отличал нежный цвет лица, высокий, почти детский голос. Женат он был на женщине старше его на несколько лет, детей у них не было. И он, «вероятно, чтоб не казаться моложе своих лет [а может, для того, чтобы казаться не моложе своей жены], еще более гнулся, чем в Москве, ходил тихо и всюду носил с серебряным набалдашником палку». Жена выглядела полной его противоположностью: смуглая кожа, грубоватые черты лица. Знакомые галантно называли ее la belle creole (прекрасной креолкой).
Просторную библиотеку князя, на втором этаже его флигеля, друзья именовали в шутку «львиной пещерой». Здесь было великое множество книг на разных языках: Одоевский свободно владел французским, немецким, английским, итальянским, испанским. Его любимым писателем был Гофман, автор «Житейских воззрений кота Мурра», мыслитель и фантаст. У себя в доме Одоевский завел большого черного кота, названного также Мурром. Этот любимец своего хозяина всегда располагался с ним рядом или у него на коленях и казался таким же высокомудрым, как его литературный образец. Жуковский, шутник, однажды записку свою к Одоевскому надписал так: Кн. Одоевскому или коту его.
В библиотеку князя гости обычно переходили к концу вечера – из гостиной на первом этаже. Сюда приносили самовар, княгиня разливала чай, и гости размышляли вслух о высоких материях…
К сожалению, никто не записал этих разговоров. Также неизвестно, о чем здесь говорил Тепляков. А может, он молча сидел и слушал.
Кроме дома Одоевского, привлекал Теплякова также дом аристократа-библиомана Сергея Васильевича Салтыкова на Малой Морской. «Его значительная библиотека заключала в себе величайшую редкость, – записал в воспоминаниях один из его знакомых. – …Если называли при нем какую-нибудь книгу, он сам выносил ее и говорил: „У меня все есть“». Известно было, что в юности Салтыков жил вместе с родителями в Париже, там его застала французская революция. Он рассказывал, что видел собственными глазами, как в саду Пале-Рояля Камилл Демулен «вскочил на стол и произнес свою знаменитую речь» – призвал парижан взяться за оружие.
Так что в домах Одоевского и Салтыкова было что послушать, было что узнать, было чем вдохновиться…
Новый, 1836 год Тепляков встречал у Одоевского – в кругу немногочисленных гостей. Пришли также Пушкин и Жуковский. Очень жаль, что об этой встрече Нового года не знаем никаких подробностей.
Всю зиму Тепляков посещал субботние вечера у Жуковского, бывал у профессора словесности Плетнева. Плетнев тогда усердно помогал Пушкину в подготовке издания нового журнала «Современник».
Перспектива же попасть в константинопольскую миссию все еще оставалась в тумане. «Медленность и холодность Нессельрода» Тепляков с беспокойством отмечал в дневнике.
Должно быть, Нессельроде полагал, что Тепляков, как человек с небезупречным прошлым, нетерпеливый и склонный к самовольным действиям, мало подходит для дипломатической службы. В феврале, в очередном докладе царю о делах министерства, вице-канцлер упомянул о предложении послать Теплякова в Константинополь. И, видимо, выразил свои сомнения. Они были неизбежны, поскольку «при определении чиновников к миссиям нашим в чужих краях министерство принимает всегда в соображение нравственность их и образ мыслей», как отмечал ранее Нессельроде в записке к шефу жандармов.
Услышав от вице-канцлера о Теплякове, император, должно быть, вспомнил, что это же тот самый отставной поручик, что пытался уклониться от присяги на верность подданства. И повелел навести о нем справки через военное министерство.
По высочайшему повелению наводятся справки о нем! Новость не могла не встревожить. Тепляков узнал ее, вероятно, через Родофиникина и по его же настоянию написал в этот критический момент царю: «Теплая вера в беспредельность Вашего отеческого милосердия озаряет мою душу отрадной надеждою, что правдивый гнев Ваш на неумышленный поступок юности перестал, наконец, тяготеть над жизнью, сокрушенной десятью годами бед и раскаяния». Пришлось так написать Скрепя сердце…
Затем он отметил в дневнике: «Благополучное окончание дела. Канальство министерства иностранных дел». Какое «канальство» он имел в виду, мы с точностью не знаем. О том, что тучи над его головой как будто рассеялись и Родофиникин дал наконец определенные обещания, он сообщил в письме графине Эдлинг.
«Еще до получения Вашего письма, дорогой Тепляков, – ответила она, – я уже знала хорошую новость, которую Вы мне сообщаете. Князь Голицын уже писал мне о благоприятном обороте Вашего дела, а теперь Родофиникин известил моего брата о Вашем назначении в Константинополь. Всему этому я уже порадовалась, но Вы так мило и с таким чувством приписываете мне Ваш успех, что я поняла все наслаждение содействовать карьере поэта. Шутки в сторону, я очень счастлива, что Вы наконец достигли пристани».
Действительно, 9 апреля он был определен на службу в Азиатский департамент. Родофиникин распорядился включить его в состав константинопольской миссии. Однако должности ему не определили никакой.
При содействии Одоевского он подготовил к изданию в Петербурге второй сборник стихотворений. Относился к новой книге своей очень ревниво, сам ходил в типографию и наблюдал за набором. По настоянию автора сборник набирался «с воздухом»: каждое стихотворение отделялось от предыдущего и последующего чистой белой страницей. Главное место в сборнике заняли семь «Фракийских элегий».
Он сам написал предисловие:
«Автор предлагаемых Стихотворений отнюдь не почитает неизбежногов наше время предисловия той живой водой, которая, по сказанию артистов, возвращает на миг первобытную красоту и блеск древней живописи Геркуланума. Анализ самого себя кажется ему, напротив, тем утренним дымом, который, поднимаясь с долины, не только не допускает до нее света, но даже скрывает больше и больше от глаз узоры ее разнообразной растительности…
Когда, по замечанию одного писателя, человек не знает, кто его любит и кому сам он может поверить себя, тогда он всенародно исповедуется… Он вопрошает: не найдется ли созвучной души, которая поняла бы и разделила его тайные муки и радости…»
Предисловие это он послал Одоевскому и приложил записку:
«Вот Вам, любезнейший князь, предисловие,которое Вы вчера у меня спрашивали. Крайне желалось бы мне знать о нем Ваше мнение. Потрудитесь между тем возвратить его мне или передать поскорее в типографию. При сем прилагаю еще одно маленькое стихотворение, которое лучше бы, кажется, напечатать в Северной Пчеле,нежели в Сыне Отечества,почти никем не читаемом. Впрочем, Вы лучше моего знаете, что делать…
За все это благоволите наперед принять чувство моей искренней благодарности с уверением, что я никогда не забуду столь благосклонных хлопот, которые Вам угодно принять на себя с истинно-обязательной снисходительностью.
Я писал в типографию о предоставлении Вам отпечатанных листов. Полагаю, что теперь они уже в Вашем распоряжении.
Сердцем и душою Ваш
В. Т».
Одоевский решил переслать новое стихотворение Теплякова «Любовь и ненависть» в журнал «Московский наблюдатель». Сопроводил стихи собственным, лестным для автора примечанием. Это примечание он предварительно послал прочесть Теплякову. Тепляков поблагодарил, но не удержался, отметил: «Я бы только не совсем напирал в них [примечаниях] на археологию – ремесло, столь противоположное поэзии; я упомянул бы слегка, что к археологическому путешествию автор был принужден вовсе не зависевшими от него обстоятельствами и потому-то отвращался от них к своей господствующей стихии. Я бы, кроме того, в словах „изучал страны Азии, как воин“ – обозначил яснее волонтерство…»
В итоге оба внесли поправки: Тепляков – в свое предисловие, Одоевский – в свои примечания.
Стихотворение «Любовь и ненависть» появилось уже в апрельской книжке журнала «Московский наблюдатель». В примечании (без подписи) Одоевский сообщал о предстоящем выходе в свет второго сборника стихотворений Виктора Теплякова: «…мы желаем от всего сердца, чтобы публика оценила по достоинству подарок поэта. Добросовестные труды у нас редки и еще реже бывают соединены с живым поэтическим вдохновением: надобно дорожить такими трудами». Одоевский писал: «Особенные обстоятельства поставили сочинителя в странное для поэта, но не бесплодное положение: они заставили его рыться в археологической пыли и быть свидетелем и даже участником в последней славной войне россиян на Востоке. На стихотворениях остались следы этих различных ощущений, которые придают картинам Теплякова совсем особенный колорит…»
Тогда же, в апреле, книга была разрешена цензурой. Предстояло еще найти книгопродавца, который взялся бы продать весь намеченный тираж – шестьсот экземпляров…
В июне, когда Теплякову надо было трогаться в путь – на юг, тираж книги еще отпечатан не был. Перед отъездом он посетил Одоевского. И тот дал ему письмо – для передачи в Москве Шевыреву:
«Это письмо, любезнейший Степан Петрович, тебе доставит наш общий товарищ по пансиону – Виктор Григорьевич Тепляков. Мне нечего тебе рекомендовать его – ты его знаешь и без меня. Он едет на Восток для ученых эксплораций [то есть исследований]. Пиши с ним к Титову. Более писать мне тебе нечего и некогда, тем более, что я на днях уже писал к тебе.
Твой Одоевский.Скажи Теплякову, чтобы он прочел тебе свои фракийские элегии – в них много по мне прекрасного и нового».
По дороге Тепляков смог еще провести месяц у родителей в деревне. Далее заехал в Москву. 18 августа прибыл в Одессу.
Здесь его неприятно поразили слухи о том, что в Константинополе чума. 26-го он послал письмо Одоевскому:
«…Дней через шесть сажусь я на пароход и отплываю к очумленным берегам Византии: грустно, но что же делать! Переношусь душою к прошедшему и все чаще посещаю мысленно Мошков переулок…»
Уже грустно было уезжать…
«Сделайте благодеяние, – написал он далее, – не оставляйте и со своей стороны моей сироты-книжицы, которая покажется около будущего ноября на свет божий».
В октябре Пушкин поместил в третьей книге своего нового журнала «Современник» отзыв о стихотворениях Виктора Теплякова. В примечании было сказано: «Отпечатаны и на днях поступят в продажу».
«В наше время молодому человеку, который готовится посетить великолепный Восток, мудрено, садясь на корабль, не вспомнить лорда Байрона и невольным соучастием не сблизить судьбы своей с судьбою Чильд-Гарольда. Ежели, паче чаяния, молодой человек еще и поэт и захочет свои чувствования выразить, то как избежать ему подражания? Можно ли за то его укорять?» – так начал свою статью о книге Теплякова Александр Сергеевич Пушкин.
Лучшей в книге представлялась Пушкину элегия «Гебеджинские развалины». Большую часть ее он перепечатал в «Современнике». И отметил: «Это прекрасно! Энергия последних стихов удивительна!»
Вот эти последние строки, обращенные к Байрону:
Ты прав, божественный певец:
Века веков лишь повторенье!
Сперва – свободы обольщенье,
Гремушки славы наконец;
За славой – роскоши потоки,
Богатства с золотым ярмом,
Потом – изящные пороки,
Глухое варварство потом!
Автор не скрывал, что эти строки – вольный перевод из Байрона, и соответствующие строки Байрона приводил в примечаниях (вот перевод подстрочный: «Такова мораль всех человеческих преданий; она в бесконечном повторении прошедшего: вначале свобода, затем слава; когда они исчезают – богатство, пороки, разложение – и, наконец, варварство»). Но Пушкин считал, что Теплякова нельзя укорять за такие заимствования, ибо в них – «надежда открыть новые миры, стремясь по следам гения, – или чувство, в смирении своем еще более возвышенное: желание изучить свой образец и дать ему вторичную жизнь».
По поводу «Второй фракийской элегии» Пушкин заметил, что «поэт приветствует незримую гробницу Овидия стихами слишком небрежными», однако следует поблагодарить автора «за то, что он не ищет блистать душевной твердостию насчет бедного изгнанника, а с живостью заступается за него».
Пушкин заканчивал отзыв так:
«Остальные элегии (между коими шестая [„Эски-Арнаутлар“] весьма замечательна) заключают в себе недостатки и красоты, уже нами указанные: силу выражения, переходящую часто в надутость, яркость описания, затемненную иногда неточностию. Вообще главные достоинства „Фракийских элегий“: блеск и энергия; главные недостатки: напыщенность и однообразие.
К „Фракийским элегиям“ присовокуплены разные мелкие стихотворения, имеющие неоспоримое достоинство: везде гармония, везде мысли, изредка истина чувств. Если бы г. Тепляков ничего другого не написал, кроме элегии „Одиночество“ и станса „Любовь и ненависть“, то и тут занял бы он почетное место между нашими поэтами».
В заключение Пушкин перепечатывал в журнале элегию «Одиночество» – целиком. Заканчивалась она так:
Пусть Соломоновой премудрости звезда
Блеснет душе моей в безоблачном эфире, —
Поправ земную грусть, быть может, я тогда
Не буду тосковать о друге в здешнем мире!
Отзыв Пушкина появился на страницах журнала, когда Тепляков уже был далеко от Петербурга – на берегу Босфора. При тогдашней медлительности почты: от Петербурга до Одессы – на лошадях, по Черному морю – на первых колесных пароходах – каким огромным казалось это расстояние… В самом деле – как далеко…








