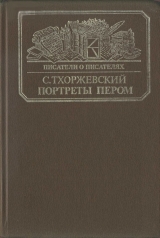
Текст книги "Портреты пером"
Автор книги: Сергей Тхоржевский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 31 страниц)
«О письме твоем к Некрасову, – написал ему позднее Тургенев, – я узнал от Анненкова, которому сказал Салтыков. Но у меня – и у него – в мыслях не было осуждать тебя за это; напротив – я нашел, что ты и тут поступил с той прямой добросовестностью, которую я так высоко в тебе ценю. С какой стати ты бы стал разделять, мое мнение о стихах Некрасова, потому только, что оно было высказано в статье, посвященной твоей защите?»
В сентябре 1870 года появилась большая статья Страхова о Полонском в журнале «Заря».
«Едва ли у нас есть в настоящую минуту поэт, которого поэзия была бы более естественна, который бы при всех своих недостатках так мало пыжился и топорщился, как Полонский», – замечал Страхов. Он старался показать читателю лучшие стороны творчества поэта – обаяние непосредственности и музыкальность, – и это в статье удалось.
«Статья о Полонском понравилась очень», – написал Страхову Достоевский.
«С удовольствием прочел в „Заре“ критику твоих произведений, – написал Полонскому Тургенев, – тут по крайней мере есть уважение к таланту и признание его…»
А с другой стороны свалилась на Полонского неприятность в комитете иностранной цензуры. Год назад он, как цензор, разрешил к продаже в России и к переводу на русский язык книгу Артура Бута «Robert Owen, the founder of socialism in England» («Роберт Оуэн, основатель социализма в Англии»), Теперь русский перевод этой книги был задержан петербургским цензурным комитетом. Главное управление по делам печати предписало сделать выговор младшему цензору Полонскому и указало на неудовлетворительность работы комитета иностранной цензуры.
Не будь во главе комитета Федор Иванович Тютчев, возможно, Полонский не отделался бы одним только выговором…
В черновой тетради он набросал стихотворение «Письмо» (не знаем, кому). Оно так и осталось в черновике – неоконченным:
Мы болтуны, привыкшие к молчанью,
Тогда как есть хоть что-нибудь сказать.
Разлуку нашу к смерти иль изгнанью
В неведомые страны приравнять
Всего удобнее…
Он мог бы еще написать, как собственная тягостная служба заставляет писать с оглядкой, сковывает язык. «Мы болтуны, привыкшие к молчанью…»
На деньги, заработанные у Полякова, Полонский издал новый сборник стихов и прозы под общим заголовком «Снопы».
Семья прибавилась: родилась дочь, Наташа. Так что расходы росли.
Все же Полонский решил с Поляковым распрощаться и написал ему: «Совесть моя всегда была и будет для меня дороже выгоды… Я чувствую, я понимаю, наконец, что Вы должны со мной расстаться. Для Коти Вашего нужен воспитатель более здоровый, чем я, и более опытный…»
Распрощался – и гора с плеч. Нашел себе новую квартиру – на Обуховском проспекте, в том же самом здании (вблизи Сенной площади), где помещался комитет иностранной цензуры.
На книгу «Снопы», как и следовало ожидать, откликнулся в «Отечественных записках» Салтыков-Щедрин.
Вспомнив прошлогоднее письмо Тургенева в защиту поэта, Щедрин написал, что новая книга не дает оснований «отступиться от прежде высказанных заключений» о творчестве Полонского и лишь дает основание утверждать, что «неясность миросозерцания есть недостаток настолько важный, что всю творческую деятельность художника сводит к нулю».
Щедрин увидел в книге, точнее – в аллегории «Сон в Летнем саду» (в общем туманной и невнятной), протест «против буйственного духа времени».
«Любопытно было бы знать, каковы же идеалы самого автора?» – спрашивал Щедрин и отвечал:
«Презрение к полезному.
Концентрирование знания в среде ограниченного меньшинства, в массах же – поддержание невежественности».
Вот этот последний вывод об идеалах автора «Снопов» был полемическим перехлестом и больше всего Полонского обидел.
Он не выдержал, написал и напечатал за свой счет брошюру: «Рецензент „Отечественных записок“ и ответ ему Я. П. Полонского». С горячностью объяснял, что рецензент его неверно понял («Издавая „Снопы“ мои, разве мог я предвидеть, что журнал, печатающий такие дельные рассуждения о том, что такое справедливость, назовет меня, бывшего сотрудника „Современника“, врагом народного образования или поборником невежества»), И разве можно утверждать, что он, Полонский, отрицательно относится к «буйственному духу времени»! Он укорял Щедрина: «Последняя глава моей поэмы „Братья“, напечатанная в „Вестнике Европы“, кажется, могла бы подсказать вам хоть на ухо, как именно отношусь я к проявлениям этого духа».
В прошлом году «Вестник Европы» напечатал две главы из поэмы под заглавием «Рим и революция 1849 года».
Но Щедрин, может быть, этой поэмы и не читал.
Полонский решил написать что-то такое, что со всей определенностью подчеркнуло бы его отношение к духу времени. Он придумал стихотворение о нигилистке:
Пытливым огнем из-под темных ресниц
Мерцая, в ней мысль загоралась.
В те дни много-много запретных страниц
В бессонные ночи читалось…
Стихи невыразительные, словно бы не своим голосом произнесенные, но в них зато была эта самая определенность… Он послал их редактору «Вестника Европы» Стасюлевичу, сопроводив письмом:
«…Если почему-либо Вы найдете неудобным поместить это стихотворение на страницах Вестника Европы, то не церемоньтесь… При встрече я спрошу Вас – потому ли Вы воротили мне мои стихи, что они плохи, или потому что не цензурны?
Если не цензурны – то для меня это опаснее, чем для Вас, – у меня такое начальство [в Главном управлении по делам печати], что как раз меня выгонит вон со службы (этого я бы и сам пожелал, если бы изобрел средство иначе содержать семью мою)…»
Стасюлевич нашел, что ничего нецензурного в стихотворении нет, спокойно поместил его на страницах журнала.
Полонский, ободрившись, передал ему еще одно стихотворение. Начиналось оно так:
Блажен озлобленный поэт,
Будь он хоть нравственный калека,
Ему так искренен привет
Больных детей больного века!
В целом стихотворение заставляло вспомнить стихи Некрасова «Блажен незлобивый поэт». И никак не хотел Стасюлевич публиковать в своем журнале нечто такое, что наверняка было бы воспринято читателями как выпад против Некрасова. Вернул стихи Полонскому и приложил записку:
«Добрейший Яков Петрович, если бы не Вы мне сами отдали эти стихи, то не поверил бы, что они Ваши. Это совсем не похоже на Вас: Вы не умеете злиться и ругаться, а тут то и другое есть. Наконец, слепой увидит, к кому Вы адресуете эти строфы…»
Полонский ответил уже на другой день:
Глава восьмая«…К нему [то есть к Некрасову] обращать стихи мои – и только к нему —было бы прилично, если бы было справедливо. Но это несправедливо, а стало быть, и неприлично.
…В 19 веке европейское общество сочувствует не незлобивым,а озлобленным– и стихи мои не что иное, как поэтическая формула,выражающая этот факт. Почему это так? Какая причина, что, чем глубже, смелее и всестороннее отрицание, тем более в нас восторженного сочувствия, и почему положительные идеалы, как бы крупны и блестящи они не были,
Восторгом сладостным наш ум не шевелят?
Это решать уже не мое дело – это дело критики (если таковая имеется). Я сам наполовину сочувствую отрицателям, сам не могу освободиться от их влияния и нахожу, что в том есть своя великая, законная причина, обусловливающая наше развитие…
Знаете ли Вы, скажу Вам между прочим, отчего происходят мои скитания по редакциям? Вероятно, Вы думаете, что это происходит по слабости моего характера. Напротив, оттого, что у меня его слишком много. Никак не могу я к чему-нибудь или к кому-нибудь примениться – писать в одном тоне, связать мысль мою. Никому я вполне угодить не в силах, никакая редакция не станет печатать всего того, что мне вздумается написать, – каждая непременно хочет, так сказать, процедить меня. Может ли при этом сохраниться личность или характеристические черты писателя? Едва ли. Уничтожьте дурные стороны лица, сгладьте угловатости, сотрите тени – и лица не будет».
Осенью 1872 года в комитет иностранной цензуры был принят на службу новый цензор Егоров. Он потом рассказал в воспоминаниях:
«Комитет был разделен на три отделения, которыми заведовали старшие цензора. Я попал в немецко-итальянское отделение, начальником которого был престарелый Есипов. Остальными двумя отделениями заведовали: французским и английским – Любовников, а бандерольным и польским с прочими славянскими наречиями – А. Майков. Кроме названных старших цензоров были еще и младшие, между которыми разделялось чтение книг сообразно их знанию языков. Так, Полонский читал французские, английские и итальянские книги, Миллер-Красовский, прославившийся своей брошюрой о необходимости розги в школьном воспитании, исключительно немецкие, Дукшта-Дукшинский – польские, и был еще один такой цензор-полиглот, Шульц, который не затруднялся читать книги и другие издания на всех существующих языках».
Приезжал в комитет председатель, Тютчев, «в широко распахнутой енотовой шубе – всегдашняя манера носить ее – и меховой шапке, из-под которой выбивались его длинные седые волосы, и с небрежно обмотанным вокруг шеи шерстяным шарфом…»
Полонский отличался тем, что его «рассеянность доходила до крайних пределов. Бывало, говорит с вами, а по глазам его видно, что он не только не думает, о чем говорит, но даже едва ли узнаёт того, с кем говорит. Уходя со службы, он обязательно что-нибудь оставлял после себя: то забудет свой портфель, то ключи, то носовой платок, а раз забыл даже свой костыль, с которым никогда не расставался, постоянно хромая на обе ноги, и старик Долотов [сторож] должен был пуститься за ним вдогонку, чтобы вручить ему его потерю». Догонять было просто, ведь Полонский жил в том же доме. Тот же сторож охотно брался выполнять его личные поручения, ходил для него на почту – и за то, разумеется, получал на водку.
Комитет занимал в доме второй этаж, и в окне со двора был устроен блок: с его помощью поднимались наверх тюки с книгами.
Доктора советовали Полонскому в 1873 году съездить в Италию – полечить больное колено на курорте Монсуммано, в сталактитовой пещере с теплыми солеными озерами. Целебными – при ревматизме, подагре и других болезнях – считались испарения этих озер.
Зная, что Тургенев страдает подагрой, Полонский в письме предложил ему вместе поехать в Монсуммано.
Тургенев ответил, что в радикальное излечение подагры не верит, поэтому в Монсуммано не поедет. Но Полонскому советовал съездить. «А так как для этого нужны деньги, – замечал Тургенев, – то позволь мне, в силу нашей старинной дружбы, предложить тебе на поездку 350 рублей серебром. Надеюсь, что ты так же просто и бесцеремонно их примешь, как я их тебе предлагаю. Меня это не разорит – а, напротив, доставит великое удовольствие помочь больному приятелю».
Полонский был смущен, но согласился взять деньги, благодарил.
Он выехал из Петербурга в конце мая (по старому стилю). Поезд до Вены шел двое суток, от Вены до Триеста – еще целый день.
Наконец Полонский прибыл в тихий городок Монсуммано. Снял для себя комнату с террасой, оплетенной виноградом – просвеченной солнцем резной листвой.
Каждый день он в легкой коляске ездил к пещере. Камни мостовых в городке были выложены тщательно, как паркет.
Сумрачный сталактитовый грот был освещен стеариновыми огарками, сюда впускали за небольшую плату, больным полагалось тут сидеть определенное время – в теплом и влажном воздухе.
Полонский приезжал сюда шесть дней подряд и почувствовал себя лучше: больная нога легче сгибалась. Но денег он взял с собой в обрез и не мог задерживаться дольше, надо было трогаться в обратный путь.
Осенью он писал из Петербурга Тургеневу:
«…Я много-много тебе обязан за нравственную поддержку – мне кажется иногда, что, не будь ты моим другом, я давно бы погиб.
…Очень рад, искренно, душевно рад, что твое здоровье поправляется и что ты не хандришь, – но тоска бездействия, о которой ты мне пишешь, мне в тебе не нравится, потому что в старости нет ничего убийственнее бездействия.
…Мне кажется, что тот год, в который я не напишу ни строчки, ни одного стиха не состряпаю, будет последним годом моей жизни».
Он еще мечтал о славе.
«Скажут, что я славолюбив, – записал он в дневнике, – но у меня нет ни сребролюбия, ни чинолюбия, ни честолюбия, ни властолюбия, ни сластолюбия – надо же живому человеку хоть какую-нибудь страсть иметь…»
И что же – была у него слава?
«Раз зашел я к одному доктору – кажется, Красильникову, – рассказывал Полонский, – он меня спрашивает: лежал ли я в такой-то больнице?
– Никогда не лежал ни в какой больнице.
– Никогда?
– Никогда!
– Странно – там лежал недолго какой-то Полонский, который называл себя поэтом, буянил, посылал прислугу за водкой и грозился во всех газетах напечатать на больничное начальство донос или пасквиль, если оно будет стеснять произвол его».
А вот, пожалуйста, еще пример:
«Сослуживец мой, член комитета [иностранной цензуры] Любовников, раз ехал в дилижансе на Парголово. В дилижансе шла речь о русских поэтах:
– Все пьяницы, – сказал один из пассажиров.
– А Полонский? – спросил другой.
– С утра без просыпу пьян, – утвердительно сказал тот же пассажир».
Любовников молчал, только про себя посмеивался. Знал он, разумеется, что Полонский – абсолютный трезвенник, но не стал вмешиваться и спорить.
О такой ли, с позволения сказать, славе мечтал поэт?
Умер Федор Иванович Тютчев. Председателем комитета иностранной цензуры был назначен князь Павел Петрович Вяземский (сын известного поэта Петра Андреевича Вяземского).
Случилось так, что как раз в день появления нового начальства Полонскому дали на прочтение новую английскую книгу под заголовком «Mormonyland» («Страна мормонов»), которую он должен был бы запретить по мотивам религиозным. «Книги этой я не дочел, – записал он в дневнике, – и не хотел запрещать, так как это было первое заседание с новым председателем кн. Вяземским, – не хотел показывать ему излишнего усердия».
Таким образом эта книга не попала в число запрещенных и, как думал Полонский, именно поэтому не обратила на себя внимания читателей английских книг в России.
«Конечно, я давно проклял бы самого себя, – записывал он в дневнике, – если бы должность моя – как иные думают – заключалась в том, чтобы препятствовать распространению идей или быть гасителем просвещения. Ничего на самом деле этого нет – и в этом отношении совесть моя совершенно спокойна».
Он считал, что его должность «бесполезна для государства и не нужна для общества». Писал: «…сознанье не может мне не подсказывать, что казна платит мне 2500 рублей за то, что я толку воду… Все, что иностранная печать говорит о России и о русском правительстве, – все это не более как слабое эхотого, что громко, чуть ли не в каждой образованной семье, говорится в России…»
Далее в дневнике Полонский сетовал: «Наша критика укрепила в толпе читателей мысль, что я пою как соловей – что стихи мои ничего не знаменуют и ничего никогда не отражали… Если России суждено правильное развитие, то и через 100 лет найдутся люди, которые беспристрастно отнесутся к трудам моим».
Написал он длинную поэму о греческом монахе – «Келиот». Идею поэмы определял как «борьбу личного чувства с тем долгом, который человек сам на себя навязал».
Некрасов отказался печатать ее в журнале – имел резон: поэма была многословна, далека от современности.
Выручил автора Благосветлов – согласился взять «Келиота» в свой новый журнал «Дело». Оговорился: «Что цензура скушает несколько стихов – это несомненно», – но с этой неприятностью автор смирялся заранее.
В мае 1875 года родился у Полонских второй сын – Борис.
А сам Яков Петрович совсем обезножел – больная нога не сгибалась, и ходить даже на костылях было трудно. Он почти никуда и не ходил – только на службу в комитет.
В июне пришло известие из Москвы: умер Кублицкий. «Смерть застала его вдруг; при нем никого не было; его нашли мертвым в постели», – сообщалось в газетном некрологе. Тот самый Кублицкий, что казался когда-то счастливчиком, баловнем судьбы… Поначалу он жизнь свою прожигал, потом влачил, а в последние годы возле него не было близких людей, кроме прислуги, – ей он и завещал все свое имущество. За исключением библиотеки. Точнее – за исключением книг, так как прислуге он завещал и всю мебель, а значит, и книжные шкафы. Богатое книжное собрание завещал Полонскому.
Полонский почувствовал себя в затруднительном положении: сейчас ехать в Москву и забирать оттуда книги он физически не мог. Библиотеку покойного пришлось продать…
Семья Полонских переменила квартиру: переехали в дом на углу Ивановской и Кабинетской.
Вышел из печати новый «Дневник писателя» Достоевского – январская книжка за 1876 год. С каким блеском она была написана! И сколько в ней оказалось мыслей, созвучных мыслям Полонского… «Нет счастья в бездействии», – утверждал Достоевский. И даже резче: «Счастье не в счастье, а лишь в его достижении». В конце Достоевский привел замечательную турецкую пословицу: «Если ты направился к цели и станешь дорогою останавливаться, чтобы швырять камнями во всякую лающую на тебя собаку, то никогда не дойдешь до цели».
Полонский написал Достоевскому письмо: «Только что прочел январский № Вашего дневника – и загорелось во мне сильное желание побывать у Вас и с Вами побеседовать; но уйти из дому мне мешают ноги – опять распухло левое колено, опять я прикладываю к нему холодные компрессы, опять мажу йодом, и опять не пускают меня шляться по лестницам (а я люблю шляться по лестницам – это моцион, весьма полезный для писателей, осужденных жить в петербургском климате)». И дальше: «…читая дневник Ваш, я волей-неволей должен был почувствовать, что мы с Вами дети одного и того же поколения…»
Достоевский послал ответное письмо в тот же день – благодарил. И приписал в постскриптуме: «Да кем же нам и быть, как не одинакового пошиба людям?»
Но, правда, сходились они далеко не во всем. Будучи людьми одного поколения, «одинакового пошиба», отличались друг от друга многими сторонами своей натуры.
Полонский позднее записал в тетради: «Достоевского я встретил однажды у Майковых, и при мне он говорил, что аскетизм, самобичевание, презрение к телу, самоистощение, как умеривание плоти, есть свойство воистину человеческое, что аскеты – это люди по преимуществу, что они ближе всего к природе и ее законам». Яков Петрович, который никогда аскетом не был, согласиться с подобным утверждением никак не мог.
На службе его произвели в очередной чин – на этот раз уже действительного статского советника. Теперь его полагалось величать: «ваше превосходительство».
Полонский явил пример редкого несоответствия между должностью и чином. Ведь он оставался младшим цензором. Уже неоднократно имел возможность получить повышение по службе и стать вместо младшего старшим, но сам этого не хотел. Упорно отказывался от повышения в должности. И никакого «смирения паче гордости» тут не было, все объяснялось просто. Младший цензор мог являться на службу раз в неделю, и работу ему давали на дом, – старший цензор обязан был ходить на службу каждый будний день. Но Полонский слишком дорожил свободным от службы временем для своей литературной работы.
Он тогда сочинил и записал в тетради такие стихи:
С бюрократических вершин
Бог весть за что слетел ко мне ненужный чин.
Превосходительство дает ли превосходство?
Вопрос решенный – не дает.
Так знай же, Муза, наперед,
Что без свободы – благородства
Я никогда не признавал
И что на службе идеалам
Я никогда не буду генералом.
О правительстве царя Александра Второго Полонский уже составил себе определенное мнение и летом 1876 года записал в дневнике:
«Оно [царское правительство] не может ни стать во главе общественного мнения – стать руководителем народного чувства, – ни подавить его железной николаевской рукой…
Царь никогда ничего не знает. Всякая бумага, которая идет к нему, проходит через цензуру министерства и никогда не доходит до него в целости, т. е. без выпусков и переделок.
– Но неужели же царь не читает русских газет и журналов?
– Ничего. Для него делаются выписки – с выбором…
Насчет окружающих нашего государя и великих князей я слышал вот что от покойного Тютчева.
Они только и могут говорить с теми, к кому привыкли, – с новыми лицами им жутко и неловко. Они воспитываются в своей дворцовой среде, как в оранжерее, и свежего воздуха не любят – как экзотические растения…
Все это Тютчев говорил мне после того, как услыхал от императора жалобу, что людей нет».
Григорович в разговоре с Полонским тоже утверждал, что «в правительственном мире нет человека, способного на то дело, к которому он призван, ни одного дельного министра – все они окружены плутами и ворами. Ничтожество и бездарность по протекции получает места и назначения».
Полонский записал в дневнике:
«На днях, сказал мне Григорович, виделся он с одним из придворных Аничкова дворца, и, когда говорил с ним о печальном положении России, придворный сказал ему:
– Вот погодите, Александр III все возьмет в ежовые рукавицы и все подтянет.
– Что ж он сделает? – спрашивает его Григорович.
– Он стеснит теперешнюю свободу.
Хорошо пророчество, нечего сказать!
…Никто не чувствует себя свободным – а нам угрожают не карою зла, а стеснением свободы. По мнению Григоровича, для России еще нужна палка Петра I и его железная воля – но не для стеснения свободы, а для обуздания чиновничьего и дворцового произвола, разграбления казны…»
В феврале-марте 1877 года общее внимание приковал к себе судебный процесс над большой группой русских революционеров-народников. Это был так называемый «процесс 50-ти». В день его открытия Тургенев из Парижа писал Полонскому: «Очень бы мне хотелось приехать пораньше в Петербург, чтобы застать еще тот процесс нигилистов, который должен сегодня начаться; но это, к сожалению, невозможно».
Одним из главных обвиняемых на процессе была Софья Бардина (в числе пятнадцати приговоренных к каторге оказалось, шесть женщин). На суде она заявила: «Преследуйте нас, как хотите, но я глубоко убеждена, что такое широкое движение, продолжающееся уже несколько лет сряду и вызванное, очевидно, самым духом времени, не может быть остановлено никакими репрессивными мерами…»
О том, что происходило на суде, и о суровых приговорах Полонский узнавал из газет. И волновался, и переживал, и задавал себе вопросы, на которые не находил ответа:
Что мне она – не жена, не любовница,
И не родная мне дочь,
Так отчего ж ее доля проклятая
Ходит за мной день и ночь?
Словно зовет меня, в зле неповинного,
В суд отвечать за нее —
Словно страданьем ее заколдовано
Бедное сердце мое.
Вот и теперь мне как будто мерещится
Жесткая койка тюрьмы,
Двери с засовами, окна под сводами,
Мертвая тишь полутьмы…
Только в сентябре 1878 года эти стихи (в переделанном виде, причем была выброшена вторая строфа) появились на страницах «Вестника Европы». Редактор Стасюлевич, с разрешения Полонского, вычеркнул заголовок – «Узница».
В стихотворении прозвучало глубокое сочувствие поэта к женщинам, осужденным по «процессу 50-ти». Но, может быть, перед его глазами образ лишь одной из шести? На этот вопрос поэт не оставил нам ответа.
Полонский записывал в дневнике (8 августа 1878 года):
«…Вчера вечером принесли мне на просмотр выписку из высочайше одобренного журнала особого совещания по вопросу „О причинах, препятствующих положить предел усиливающейся противоправительственной ажитации, и мерах, кои полезно было бы принять к ее ослаблению“.
Записка, конечно, составлена нашими государственными людьми, и, когда я читал ее, я думал, что ее составили дети под руководством своих гувернеров – до такой степени она пуста и несостоятельна.
Наши государственные люди видят вред в распространении образования в России и, чтоб убить социализм, придумывают средство – ограничить число учеников, т. е. хотят подлить масла в огонь! О слепцы! О маленькие люди, которые хотят остановить поток идей и силу всесокрушающего времени!»








