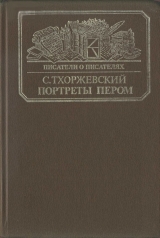
Текст книги "Портреты пером"
Автор книги: Сергей Тхоржевский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 31 страниц)
Я и товарищи моего заключения – те, кто мне знаком, – мы не фанатики, не изуверы, не еретики… мы философы, нам дороже всего истина.
М. В. Буташевич-Петрашевский (Из показания на следствии в Петропавловской крепости. Май 1849 г.)
Потерпела поражение революция во Франции, но пожар ее не заглох и перекинулся ближе к границам России: восстание венгров сотрясало Австрийскую империю. Австрийское правительство обратилось к императору Николаю с просьбой о помощи.
В конце апреля 1849 года царь издал манифест: «Мы повелели разным армиям нашим двинуться на потушение мятежа и уничтожение дерзких злоумышленников, покушающихся потрясти спокойствие и Наших областей». А несколькими днями ранее, в письме командующему войсками Паскевичу, царь, имея в виду восставших, предписал: «Не щади каналий».
В другом письме Паскевичу он сообщил: «Здесь мы шайку наших арестовали, следствие идет и объяснит нам многое».
Император дал указание следственной комиссии: «Желательно потому скоро кончить, что, как слышу, общее мнение [тех, кого он слышал] сильно восстало на этих мерзавцев и ждет нетерпеливо знать, что было, и наказания виновных. Если дело протянется вдаль, то чувство это ослабится и заменится состраданием к заключенным. Нельзя без ужаса читать, что открывается, и оно вселяет тяжелое чувство, что мнимое просвещение – не впрок, а прямо на гибель…»
В течение трех месяцев войска Паскевича помогали австрийской монархии давить венгерскую революцию. Николая Первого еще не называли жандармом Европы, но это клеймо он уже успел заслужить.
«Вот и у нас заговор! Слава богу, что вовремя открыли, – записал в дневнике своем верный страж императора Леонтий Васильевич Дубельт. – Надивиться нельзя, что есть такие безмозглые люди, которым нравятся заграничные беспорядки!.. Всего бы лучше и проще выслать их за границу… А то крепость и Сибирь… никого не исправляют; только станут на этих людей смотреть как на жертвы, а от сожаления до подражания недалеко».
На рассвете 23 апреля Дубельт принял личное участие в аресте Петрашевского. В доме провели обыск. Когда обнаружили, между прочим, кучку пепла в печи, Дубельт с угрозой заметил Петрашевскому: «Ведь у вас много бумаг сожжено». Слова эти прозвучали предупреждением, что отвечать придется не только за бумаги, найденные при обыске, но и за сожженные. «Слыша эти слова, я невольно вздрогнул… – признавался Петрашевский уже на следствии. – Тогда же невольно поверил рассказам, что многие, особенно в отдалении от столицы, услыша имя Леонтия Васильевича Дубельта неожиданно произнесенным… крестятся и говорят: „Да сохранит нас сила небесная…“».
Арестованные были заключены в Петропавловскую крепость, в одиночные камеры с мощными каменными стенами и низким сводчатым потолком. Баласогло попал в самый мрачный застенок – Алексеевский равелин. В равелине оказались также Петрашевский, Дуров, Толь, Федор Достоевский…
Первые восемнадцать дней арестанта Баласогло никуда не вызывали, и он сидел в холодной камере, не ведая, какие обвинения ему предъявят.
Наконец он предстал перед следственной комиссией. И услышал, что ему вменяется в вину соучастие в тайном обществе, целью которого было ниспровержение существующего строя и «пагубные намерения относительно самой особы нашего всемилостивейшего государя императора».
Ему предложили изложить свои показания на бумаге, и Александр Пантелеевич скрипел пером четверо суток, по его словам – «почти без сна и не вставая со стула». Подробно, на двадцати двух листах, он рассказал о злоключениях жизни своей, начиная с детских лет. О собраниях у Петрашевского написал: «…все лица, с которыми я тут имел дело, были решительно души молодые, благородные, серьезные…» На этих собраниях все, «что было действительно резкого, так это перечет и аттестация всех лиц, [во зло] употребляющих торжественно, на всю Россию, и свою власть, и неограниченное к ним доверие государя императора. В этом более и яростнее всех отличался, конечно, я первый… Я дерзал осуждать и беспредельное добродушие самого государя императора, изумляясь, как он не видит, что под ним и вокруг него делается, и почему он никогда не удостоил спросить лично управляемых, каково им жить и существовать под своими управляющими…»
«Мнений своих не стыжусь, никогда от них не отрекался… – продолжал Баласогло. – Прежде всего – я действительно христианин, в обширнейшем значении этого слова, не формалист, не гордец, не ханжа и не изувер…
Во-вторых, на точном смысле и полном разуме того же православия, выражаемом вполне божественным изречением Спасителя: „люби ближнего, как самого себя“, я самый радикальный утопист, т. е. я верю в то, что человечество некогда будет одним семейством на всем объеме земного шара…
В-третьих… я – коммунист, т. е. думаю, что некогда, может быть через сотни и более лет, всякое образованное государство, не исключая и России, будет жить… общинами, где все будет общее, как обща всем и каждому разумная цель их соединения, как общ им всем всесвязующий их разум.
В-четвертых… я – фурьерист, т. е. думаю, что система общежития, придуманная Фурье, в которой допускается и собственность, и деньги, и брак на каких угодно основаниях, и все религии, каждая со своими обрядами, и сначала всевозможные образы правления, – всего скорее, всего естественнее, всего, так сказать, роковее может и должна рано или поздно примениться к делу…
В-пятых, не считая ни во что конституций в их чисто юридической, скелетной и бездушной форме, я однако ж признаю необходимость… в известных… ручательствах и обеспечениях между правительством и обществом. Эти ручательства, по моему крайнему разумению, должны бы были состоять в праве каждому в государстве лицу возвышать свой голос… в открытом на весь мир судопроизводстве и в участии в делах правления выборных людей от народа…»
Далее Баласогло выразил уверенность, что «Россия без монарха не может просуществовать и ныне и весьма-весьма надолго вперед [он не написал „вечно“] ни единого часа. Это ключ свода; вырвать его – значит обрушить все здание…» Думается, он был искренен. Он ожидал, что крушение всего здания монархии в неграмотной, непросвещенной России повлечет за собою реки крови. Но при всем том члены следственной комиссии, если они вдумчиво читали это показание, не могли не заметить, что незыблемость монархического строя арестант Баласогло отрицал!
В конце своего пространного показания он просил судей быть великодушными, если в действиях и мнениях его, Баласогло, что-либо найдут «хотя сколько-нибудь преступным».
Дубельт сообщал графу Орлову: «Читаю письменное показание Болосооглу, которое само собою уже оказывается преступным. В оном он все порочит и, называя Россию государством страждущих, явно выказывает желание народного правления».
Вот уже за что его следовало осудить!
На допросах он решительно уклонился от показаний, которые могли бы усугубить трудное положение его товарищей.
«Я доносчиком никогда не бывал, боясь более смерти попасть даже невольно в тяжкий грех осуждения своего ближнего, – заявил Баласогло. – …На вечерах у Петрашевского, как и везде, где я мог сходиться что называется вдвоем-втроем, в кругу тесных друзей… более всех жаловался и горячился я сам. Что касается до меня, я охотно повторю слова своего показания… относительно лиц, кого именно я упрекал и осуждал в беседах… Здесь я могу прибавить только то, что, как я убежден сам и как могу, может быть и горько ошибаясь, быть в этом случае отголоском мнения целого флота, – кн. Меньшиков уничтожил всю нравственную силу флота, повыживав из него таких людей, каков был покойный адмирал Грейг, адмирал Рикорд и целые сотни других лучших в свое время офицеров, забросив совершенно столь драгоценный для России Восточный океан, не делая описей даже и в Балтийском море, кроме как одним суденышком в год, да и то со всеми прижимками; гр. Уваров не издал ни одного учебника, сколько-нибудь удовлетворяющего современным требованиям науки, и, будучи сам филологом и ориенталистом, эти-то именно отрасли и убил до последней степени; гр. Нессельроде целые 35 лет своего управления министерством не хотел видеть целого Востока и столь тесно соприкосновенной с ним огромнейшей половины России…»
Вот так, вместо самооправдания, Баласогло составил целый обвинительный акт против трех министров. Он прекрасно понимал, что лишь при деспотическом режиме императора Николая эти бездарности могли многие годы удерживаться на высоких постах. Он мог вспомнить слова Гельвеция о том, что в государствах деспотических «вознаграждают посредственность, ей поручают почти всегда дело государственного управления, от которого устраняют людей умных…» Он мог бы вспомнить собственные строки: «Блажен, кто видит без волненья… в амфитеатре возвышенья последовательность холопств…»
Но в следственной комиссии ожидали от Баласогло высказываний не о министрах, а об арестованных его друзьях.
Баласогло же друзей не осуждал. О Петрашевском он еще в первом показании написал, что «убедился в его уме, благородстве правил и высокости души», и теперь продолжал за него заступаться: «Петрашевский, с которым я не раз имел случай беседовать один на один, остался доселе в моих понятиях человеком мирных стремлений, совершенно подобных моим… Те же самые смешанно-социальные и вполне мирные стремления я находил при всех возможных случаях, где невольно открывается внутренний человек, и в Пальме, и в Дурове, и в Кузьмине, и в Кропотове, и в Кайданове, и в Спешневе – людях, которыми я всего более интересовался по их обширным знаниям и деятельности в избранных отраслях науки, – и в Толе, и в Филиппове, и, словом, во всех, на кого я мог рассчитывать как на надежного сотрудника в своем известном предприятии… О Спешневе могу прибавить еще то, что с необыкновенной радостью нашел в нем при ближайших беседах ум вполне философский и самые разнообразные познания, что весьма редко встречал в жизни; а о Дурове – что он, будучи такого же горячего темперамента, как я, иногда в жару спора, чтоб поставить на своем, вдавался в крайности и противоречие самому себе; но зато я в нем нашел ту прекрасную черту, что он тотчас же по отходе сердца до того искренне раскаивался в своих резких выражениях, что просил извинения в невольной обиде лица, которое с ним спорило, и сознавался в своей ошибке».
Следственная комиссия поставила вопрос: «Вы объяснили, что при резких суждениях о правительственных лицах более и яростнее всех отличались вы. Из этого следует, что были и другие лица, которые принимали в том участие, хотя и в меньшей степени. Поименуйте их».
Баласогло ответил: «Наименовать я никого не могу, чтоб не впасть в грех и ошибку…»

Еще вопрос: «Вы сказали, что дерзали осуждать и беспредельное добродушие самого государя императора, изумляясь, как он не видит, что под ним и вокруг него делается. Объясните, что такое, по вашему мнению, ускользало от внимания его величества и могло побудить вас к дерзновенному суждению о священной особе его величества».
Тут Александр Пантелеевич понял, какой неосторожностью было оброненное им на бумагу слово «осуждать». Оно могло обойтись ему слишком дорого!.. «Раскаиваясь как и в самом моем показании и, как всегда после невольных увлечений чувствами, в том, что я дерзал не осуждать, а делать замечания о беспредельной благости и доверии его величества к людям, которые употребляли то и другое во зло, – написал Баласогло, – я изумлялся тому, как его величество, столь чадолюбивый отец своих подданных, не слышит тех ужасных, раздирающих душу стонов, которыми преисполнен весь город, и в особенности в сословии бедных, притесняемых отовсюду чиновников, к которым я сам принадлежу по воле моей жестокой участи и нисколько не по призванию».
Никто из его арестованных товарищей не сказал о нем ничего такого, что могло бы послужить обвинением против него.
Только Николай Кайданов сказал на допросе, что когда Ястржембский касался суждений о государе и многие возражали, утверждая, что русский народ боготворит его, то Баласогло говорил против государя. Конечно, Кайданов вовсе не хотел утопить обвиняемого Баласогло – нет, он просто проговорился. Возможно, думал, что следствию все и так уже известно. Но, должно быть, сразу осознал, каким убийственным может оказаться подобное свидетельство, и решил не писать этого в своем показании.
Ястржембский припомнил на первом допросе: однажды, в очередную пятницу у Петрашевского, «Александр Пантелеич, кажется армянин и чиновник министерства иностранных дел, но фамилия которого вышла теперь у меня из памяти, читал тоже наизусть о семейном и домашнем счастье, мысли его в этом чтении были тоже фурьеровские». Только и всего.
Вызванный в крепость на допрос Дмитрий Иванович Минаев (литератор, известный своим стихотворным переводом «Слова о полку Игореве») показал: «С Балас-Оглу познакомил меня статский советник Меркушев для займа у меня одной тысячи рублей денег. Г. Балас-Оглу намеревался издавать журнал под названием „Листок искусств“, но как впоследствии оказалось, что г. Балас-Оглу почитатель школы под шуточным названием „натуральной“, а я ее враг, то мы с Балас-Оглу разошлись».
Павел Кузьмин на следствии показал, что в Петрашевском и Баласогло он видел людей умных, образованных и хорошо к нему, Кузьмину, расположенных, так что он не видел причин избегать их общества.
Феликс Толь на допросных листах написал о Баласогло, что «с первого раза полюбил его как за ясный, отчетливый взгляд на вещи, так и за сердечность (cordialité)…».
Увлекавшийся учением Фурье молодой чиновник Беклемишев показал, что был только на одном собрании у Петрашевского и ни с кем его тогда Михаил Васильевич не познакомил: «По имени он назвал мне только одного, особенно поразившего меня, некоего Босангло, турецкого происхождения».
Петрашевский в одном из письменных показаний подчеркивал, что Баласогло, как человек семейный и сознающий бедственное положение своего семейства, должен испытывать в каземате особое нравственное страдание…
Да, именно так и было! Сознание, что он ничем не может помочь семье, доводило Александра Пантелеевича до состояния почти истерического. «Одно, что меня поддерживало, – писал он потом, – и что, наконец, не дало мне умереть в заключении от истерики и простуды – это моя спокойная совесть…»
Когда его арестовали, жена была на седьмом месяце беременности. В мае она отослала детей с нянькой на дачу в Стрельну – поселок на двадцать первой версте от города, а сама оставила квартиру на Галерной и перебралась в соседство к сестрам, в один из деревянных домов на Широкой улице.
В начале июня Мария Кирилловна явилась в Третье отделение и подала прошение Дубельту. Она просила о сохранении жалованья мужа в архиве министерства иностранных дел. И еще просила уничтожить контракт, по которому ее муж обязывался платить за квартиру на Галерной до января будущего года.
О первой ее просьбе Дубельт сообщил в министерство иностранных дел, и там согласились выплачивать жалованье архивариуса Баласогло его жене – до окончания следствия по его делу.
О второй просьбе Марии Баласогло Дубельт сообщил директору Румянцевского музеума, известному писателю князю Одоевскому, так как дом на Галерной принадлежал музеуму. Одоевский сразу же согласился уничтожить контракт.
У Марии Кирилловны 5 июля родилась дочь. При крещении в церкви ее нарекли Надеждой. Мать отвезла ребенка в Стрельну, отдала кормилице.
За квартиру на Галерной она оставалась должна, и тут неожиданно проявил милосердие Дубельт – он распорядился покрыть ее долг из средств Третьего отделения. Необходимая сумма была передана в Общество посещения бедных, которое также возглавлял Одоевский. Дубельт попросил Одоевского, чтобы в отчетах Общества не упоминалось, от кого получена эта сумма, и было бы отмечено кратко: «от неизвестного,в пособие бедному семейству».
Отвечая Дубельту, Одоевский сообщил, что он «распорядился определить, какое вспомоществование будет наиболее полезным для г-жи Баласогло», и что пособие Общества отнюдь не ограничится суммою, присланной из Третьего отделения.
Жандармский полковник Станкевич получил от Дубельта секретное предписание: отправиться на квартиру арестованного Николая Спешнева (Кирочная улица, собственный дом) и отыскать там домашнюю типографию.
Обыск не дал ничего. Станкевич рапортовал Дубельту, что провел самый строгий осмотр, но типографии не обнаружил.
Он искал типографский станок, который в действительности находился на квартире другого арестованного, Николая Мордвинова. При аресте Мордвинова на станок внимания не обратили, «ибо он стоял в физическом его кабинете, где были разные машины, реторты и прочее. Комнату просто запечатали, и родные сумели, не ломая печати, снять дверь и вынести злополучный станок». Об этом рассказывал много лет спустя Аполлон Майков.
Майкова тоже привлекали к допросу по делу петрашевцев. Расследование близилось к концу, и уже опрашивались люди, которые ничего или почти ничего не могли добавить к тому, что было известно следствию.
Когда Майкова привезли в белый дом во дворе Петропавловской крепости, он переволновался, хотя не чувствовал за собой никакой вины. Но он знал от Федора Достоевского о планах создания тайной типографии… Однако на допросе Майкова о типографии не спросили. Дубельт был с ним очень любезен, предложил сесть. Майков написал на листе бумаги: «В течение последних трех лет посещал его [Петрашевского] единственно по разу в год, из вежливости». О типографии, разумеется, не сказал ни слова. И все благополучно обошлось! Ему объявили, что он свободен и может идти домой…
С актером Бурдиным Дубельт на допросе уже не был любезен, говорил ему «ты». Хотя никаких мало-мальски серьезных улик против Бурдина не было. Когда он поклялся, что ни о каком заговоре ничего не знал, Дубельт сказал ему:
– Что же нам делать с тобой? В Сибирь, в крепость или на одиннадцатую версту?
На одиннадцатой версте от Петербурга находился сумасшедший дом – больница Всех Скорбящих… Бурдин замер.
– Что побледнел?.. Ну, ступай с богом, – Дубельт махнул рукой.
– Куда, ваше превосходительство? – растерянно спросил Бурдин.
– Разумеется, на все четыре стороны: не держать же тебя на хлебах. Набрался страху, будет с тебя…
В августе Мария Кирилловна, по просьбе мужа, передала ему в камеру «Логику» Аристотеля, а также грамматики и словари санскрита, немецкие и латинские.
Здесь, в одиночном заключении, он перечитывал Аристотеля и начал изучать санскрит – это помогало сохранять душевное равновесие, отвлекало от мрачных раздумий…
Допросы его проводились в присутствии Дубельта. Как запомнилось Александру Пантелеевичу, Дубельт «оставался постоянно или холоден и безмолвен, или угрюм и даже мстителен во взорах, которыми как будто хотел меня съесть». Под этим волчьим взглядом арестант Баласогло холодел и думал: «Зачем я говорю правду, как дурак?..»
Зато необыкновенное участие Дубельт проявлял к Марии Кирилловне Баласогло. В воспоминаниях Анненкова читаем: «Леонтий Васильевич Дубельт, во время его [Баласогло] сидения в крепости, сам взбирался на чердак в жилье его жены, чтобы оставить ей какое-либо пособие от себя».
Это поразительно. Дубельту не было ни малейшей нужды самому отвозить ей пособие, он мог поручить это любому из своих подчиненных. Но нет, он, оказывается, сам ездил к этой женщине на окраину Петербургской стороны. И, между прочим, все ее дети были тогда в Стрельне, она оставалась дома одна. И уж, во всяком случае, не из симпатии к ее арестованному мужу генерал Дубельт «взбирался к ней на чердак»!
В октябре Александру Пантелеевичу в камеру было передано через Дубельта и коменданта крепости генерала Набокова письмо от жены:
«Все это время я ждала твоего возвращения и теряюсь в догадках, что может его замедлять! – Я писала тебе, что получаю помощь, но ты ошибаешься, если думаешь, что знакомые наши дают мне средства к существованию. Правительство так милосердно, что избавило твою жену от необходимости прибегать к помощи наших знакомых. Я жена-христианинка, несмотря на прожитые нами бедствия супружеской жизни, убившие нашу молодость, я со своей стороны говорю тебе: считаю самою священною обязанностью до последней минуты своей отравленной жизни стремиться к тому, чтобы изыскивать все средства для спасения мужа, отца своих детей! Успокой меня, напиши, в каком положении находится твое здоровье.
Твоя М. Баласогло».
В этом письме явственно читался тяжкий укор. Александр Пантелеевич должен был почувствовать себя виновным в ее «отравленной жизни»…
Петрашевский в одном из показаний определил весь процесс как «procès de tendances, не за совершенное дело – но против предполагаемой возможности его совершить». В следственной комиссии говорили о «заговоре идей». И действительно: хотя несколько человек во главе с Петрашевским намеревались создать тайное общество, но организовано оно еще не было. Хотя несколько человек во главе со Спешневым решили создать тайную типографию и уже приобрели печатный станок, но ничего еще не напечатали. Хотя многие петрашевцы считали необходимым вести широкую пропаганду революционных идей, но претворить эти планы в действие они не успели.
Баласогло, по всей видимости, ничего не знал ни о планах создания тайного общества, ни о планах создания тайной типографии. Но он был одним из самых активных участников собраний, и, если уж говорить о заговоре идей, Баласогло был одним из его вдохновителей.
Прямота и смелость его показаний произвели сильное впечатление на военно-судную комиссию. Председатель комиссии, брат министра внутренних дел Василий Алексеевич Перовский, проникся уважением к этому арестанту и не хотел отягощать его участь. Наконец генерал Дубельт по просьбе Марии Кирилловны Баласогло согласился замолвить слово за ее безрассудного мужа.
В начале ноября военно-судная комиссия записала в очередной протокол: «…Баласогло, угнетаемый бедностью и неудачами по службе и относя все это к послаблению власти высших правительственных лиц [таким объяснением явно смягчалась суть сказанного им на следствии], несправедливо порицал их действия и даже доверие к ним государя императора. Все это Баласогло показал не вследствие улик, но добровольно при первом допросе и изложил, так сказать, в виде исповеди все подробности его мыслей и действий, стараясь объяснить свое, как он выражается, безысходное страдание…» Далее в протоколе говорилось, в оправдание подсудимого, что его поступки «не имели преступной политической цели и произошли не вследствие злоумышления, а по заблуждению…» Комиссия определила: повергнуть участь подсудимого Баласогло на всемилостивейшее благоусмотрение государя императора и ходатайствовать об освобождении Баласогло из-под ареста с отдачей под секретный надзор. «При сем принимая в соображение… что гласное порицание главного начальства подчиненным лицом не может быть допущено ни в каком случае», – комиссия полагала, что шесть с половиной месяцев заключения в крепости должны быть сочтены для Баласогло заслуженным наказанием.
О решении военно-судной комиссии было доложено царю. Все милостивейший Николай нашел это решение излишне снисходительным. Согласился с освобождением Баласогло из-под ареста, но, кроме того, повелел: «По освобождении из крепости определить его на службу в Олонецкую губернию, как за дерзость против своих начальников он, во всяком случае, подлежит ответственности и здесь оставаться не может».
«1849 года ноября 9 дня, я, нижеподписавшийся, при освобождении меня от ареста в С.-Петербургской крепости дал сию подписку в том, что все расспросы, сделанные мне в высочайше учрежденных: секретной следственной и военно-судной комиссиях, – буду содержать в строжайшей тайне и обязуюсь впредь ни к какому тайному обществу не принадлежать; в противном же случае подвергаю себя ответственности по всей строгости законов».
Александр Пантелеевич прочел этот текст, подписался и после этого был отпущен из крепости домой. Он пошел на Широкую улицу к жене и дорогим детям. Только младшая четырехмесячная дочка оставалась в Стрельне, у кормилицы.
Радость освобождения омрачалась перспективой близкого отъезда в олонецкий губернский город Петрозаводск…
Дома жена смутила его рассказом о необычайной доброте Леонтия Васильевича Дубельта, который оказывал ей «все возможные благодеяния, ласки и утешения».
Узнал Александр Пантелеевич о своих друзьях, о том, что многие арестованные были освобождены уже раньше: Бернардский, Кайданов – в июле, Павел Кузьмин – в сентябре. Узнал и о том, что еще человек двадцать, если не больше, остаются в крепости…
Александр Пантелеевич решил, что он должен поблагодарить генерала Дубельта за материальную помощь семье. Явился в Третье отделение. Странную встречу свою с Дубельтом он позднее описал сам: «Леонтий Васильевич… зорко и скрытно испытывал меня глазами, чего, как я надеюсь, известно всякому, не бывает и не может быть в минуту искренности. Первые его слова были: „А! Мой любезнейший господин Баласогло!.. (И он тут встал со стула.) Насилу-то я вас вижу не в крепости!.. Поверьте, что я в своем душевном страдании за вас уступлю разве только вашей супруг? и то только потому, что она женщина“. Видя, что я несколько смутился и гляжу на него недоверчиво… генерал жал мне обе руки… я, всегда склонный видеть лучшее, почти совершенно успокоился… Приглашая меня садиться и садясь против меня, у окна, сам вдруг прервал нить моих умственных восхищений восклицанием: „Ну-с, господин Баласогло! – вам отправляться в Вологду…“ (А я был назначен в Петрозаводск!) – и взор генерала был в эту минуту до того пытлив, что предал мне заднюю мысль: А! – подумал я сам в себе, – так это все еще длится крепость, только в новых видах!.. Так ценить человека, так за него страдать и будто уж не обратить внимание на то, гдеи как ему приходится снова мытарствовать – нет! Это уже не любовь и дружба, а чистое коварство! Если так – мой девиз: à un trompeur – trompeur et demi!.. На обманщика – полтора обманщика! Только вы и видели мою душу, ваше превосходительство!» После этого что потом ни говорил и ни делал генерал Дубельт в присутствии моей жены и меня, приехавших вместе его благодарить за все его милости, для меня было не чем иным, как чистой светской комедией, в которой я сам, как прилично всякому благовоспитанному человеку в порядочном обществе, в известных случаях почтительно раскланивался… а сам все глядел на него да говорил сам в себе: «Вот откуда все эти нежности! Он не знает, в Вологду я назначен или в Петрозаводск!.. Уж, верно же, хорош этот последний городок, когда в него неловко и назначить порядочного человека даже в ссылку!»

Должно быть, с некоторым замешательством Александр Пантелеевич узнал, что в Третьем отделении может он получить пособие на переезд в Олонецкую губернию – 270 рублей. Отказываться от этих денег в его положении было немыслимо.
Под вечер 15 ноября, получив деньги, он из Третьего отделения направился к Неве, подошел к лодочному перевозу. Мосты были разведены, ожидалось, что вот-вот начнется ледостав. Назавтра Александру Пантелеевичу нужно было быть в городе, и, опасаясь, что утром перевоза не будет, он не стал переправляться на Петербургскую сторону. Остался на ночь у знакомых – Минаевых.
Хотя Дмитрий Иванович Минаев на допросе в крепости заявил: «Мы с Балас-Оглу разошлись», – на самом деле отношения между ними оставались дружескими. В душе Минаев был таким же врагом самодержавия (забегая вперед, добавим, что осенью следующего года он говорил в кругу друзей, как было бы хорошо, если б нашелся смельчак, который решился бы царя «прекратить»).
А сегодня в квартире Минаева остался ночевать выпущенный из крепости Баласогло. Не знал он, что днем его уже разыскивал петербургский обер-полицмейстер – дабы отправить под конвоем в Петрозаводск.
На другой день Александр Пантелеевич пришел домой около часу и узнал от жены, что его разыскивает полиция. Вслед за тем явился в дом квартальный надзиратель. И потащил Александра Пантелеевича в канцелярию обер-полицмейстера.
Тут ему было объявлено, что он должен сейчас же отправляться в Петрозаводск. Он обратился к обер-полицмейстеру Галахову с просьбой дать ему возможность подготовиться к отъезду. Галахов выслушал его объяснения, сжалился и дал три дня отсрочки…
Должно быть по настоянию жены, Александр Пантелеевич написал Дубельту: «…я оставляю жену и шестерых детей… решительно без всякого приюта и пропитания. Вы спасли мне жену и меня семейству; не оставьте нас и в эту горестную минуту…»
Что ответил Дубельт – неизвестно. Но отъезд удалось отсрочить до 25 ноября.
В эти дни всячески помогали Баласогло, снаряжали его в путь Михаил Языков и Николай Тютчев – близкие друзья покойного Белинского. У них была своя комиссионерская контора на углу Невского и набережной Фонтанки. Они брались, между прочим, распродать – в пользу автора – оставшиеся нераспроданными экземпляры его книжки о букве Б.
Накануне отъезда Александр Пантелеевич счел долгом приличия прийти к Дубельту попрощаться. «После взаимных приветствий, объяснений и даже шуток со стороны генерала, – рассказывает Баласогло, – я, истощив разговор, стал раскланиваться. Леонтий Васильевич, встав из-за стола, отвел меня к окну и сказал, пожимая плечами: „Ну, господин Баласогло! Если бы это зависело от меня, вы бы никак не могли быть ни в Петрозаводске, ни вообще в ссылке; но так угодно Николаю Павловичу!.. Вы меня понимаете?..“»
На другой день Баласогло выехал в сопровождении жандарма в Петрозаводск. В один из взятых им чемоданов он сунул свои рукописи, возвращенные ему Третьим отделением.








