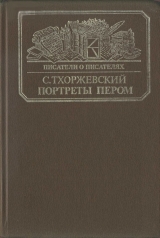
Текст книги "Портреты пером"
Автор книги: Сергей Тхоржевский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 31 страниц)
Теперь он каждый день устремлялся на улицу де Берри, где во дворе русской церкви жили Устюжские.
Это была большая семья. Елена – старшая среди детей – уже сама давала уроки музыки и дома занималась воспитанием младших сестер и братьев. Мать, француженка, по-русски не говорила совсем, Елена понимала, но почти не говорила – не привыкла. Букву «р» выговаривала по-французски, грассируя.
Накануне отъезда Кушелевых Полонский зашел к ней, и она спросила, не придет ли он вечером. Он объяснил, что, к сожалению, не сможет: у Кушелевых прощальный обед, придется быть там…
– А я хотела сыграть вам ту мазурку, начало которой вы знаете. Я достала ноты.
– О, в таком случае я непременно буду.
И вечером он, конечно, пришел сюда. К Кушелевым явился позднее – там пир горой длился всю ночь…
На другой день Кушелевы и Дюма уезжали, Полонский провожал их на вокзал. Граф и графиня еще ничего не знали о его сватовстве, – он объяснил: задерживается в Париже потому, что ему надо еще подлечить зубы.
На прощанье графиня многозначительно сказала Полонскому:
– Полагайтесь на меня, но, смотрите же, только на меня!
Что сие означало! Что его роль в журнале будет зависеть от ее благоволения?.. Так она и уехала, не объяснив ему этих прощальных слов.
Наутро к Полонскому пришел отец Елены, Василий Кузьмич Устюжский. Стал говорить о том, что дочь его еще слишком молода для замужества, еще сама себя не знает…
Но его слова не означали отказа, Полонский мог и дальше посещать дом на улице де Берри.
Когда он в первый раз прошел через комнатку Елены, он, по его словам, «чувствовал в душе своей то же, что чувствовал Фауст, когда в первый раз явился в комнате Маргариты». Ему казалось, что он снова молод, а ведь он был вдвое старше Елены…
Наконец он объяснился ей в любви.
Она этого ждала и просто, без всякой экзальтации, сказала о своем взаимном чувстве.
Он хотел отдать ей кольцо, подаренное ему графиней Кушелевой. Елена не взяла. Ответила: «Я не отказываюсь от кольца, только возьму его после, когда все будут знать, что я ваша…»
Мария Федоровна письма Полонского принимала близко к сердцу и писала ему, что, когда он женится и вернется в Петербург, его ждут в доме Штакеншнейдеров. Она знала из его писем, что Кушелевы предлагали ему по возвращении в Петербург поселиться у них, и против этого решительно возражала:
«Вы остановитесь у нас на все время, которое сочтете нужным, чтоб избежать содома у Кушелевых. Я этого требую,как доказательства, что вы не считаете меня вам чужою… Комната большая и светлая будет приготовлена Полонскому с женой».
В другом письме Мария Федоровна возмущалась тем, что он пил с Кушелевыми на брудершафт: «Ну, можно ли, чтобы эта графиня говорила вам ты? И для чего?»
Полонский отвечал в письме:
«Вас удивляет, что я пил брудершафт с графиней. Меня ровно ничего не удивляет. Раз в Неаполе ей пришла фантазия – чтобы сущие в гостиной подходили целовать меня, – и вот я сел как далай-лама, и, начиная с нее и с графа, все присутствующие и мужчины и дамы стали ко мне прикладываться, яко к иконе.
…Графиня вовсе не без сердца… Она щедра – и если недобра, то добра порывами – и в минуту порыва готова все отдать. Правда, что правил в ней нет никаких… Все, что она делает, – делает явно, и графа это нисколько не шокирует – напротив, каждая выдумка его жены (вроде поцелуев и брудершафта) его даже тешит… Пожелай она, чтобы при журнале меня не было, – меня не будет. Может даже случиться, что и журнала не будет».
Достаточно было бы каприза графини, чтобы вся обещанная ему, Полонскому, материальная обеспеченность рухнула в один миг.
И вот Мария Федоровна получила от него отчаянное письмо:
«…ныне, накануне моей свадьбы, долетели до меня слухи, будто граф нашел себе другого редактора. Об этих слухах я пишу к нему… Завтра иду под венец с любовью в сердце, с улыбкой на устах и с ледяным ужасом в душе за будущность моей подруги… Что ожидает нас в Питере, если действительно граф склонился на советы недоброжелателей…»
К счастью, слух оказался ложным.
Свадьба состоялась 26 июля по новому стилю.
Полонский был счастлив как никогда.
Днем позже приехали в Париж Николай Васильевич и Людмила Петровна Шелгуновы. Первый вечер они провели у молодоженов Полонских.
«Она была очень хороша собою и очень хорошая девушка… – написала в воспоминаниях Шелгунова о Елене Полонской. – Я приехала в Париж на другой день после свадьбы и спрашивала Елену Васильевну, что понравилось ей в Полонском, тогда не молодом и не красивом… Она подумала и потом мне отвечала, что il a l’air d’un gentilhomme [он выглядит благородно]».
Глава пятаяВ Петербурге братья Кушелевы-Безбородко владели двумя роскошными особняками: Григорию принадлежал дом на углу набережной Невы и Гагаринской улицы, Николаю – соседний, облицованный мрамором дом на Гагаринской. Кроме того, Григорий владел дворцом на окраине города, в Полюстрове, на правом берегу Невы, почти напротив Смольного собора.
Здесь, в полюстровском дворце, остановился прибывший вместе с Кушелевым Александр Дюма.
Слух о приезде знаменитого писателя быстро распространился по всему Петербургу. Когда Дюма гулял по городу, его повсюду окружала толпа любопытных. Нельзя было не заметить его атлетическую крупную фигуру, его необычайно живое смуглое лицо, его черную с проседью курчавую шевелюру (он привык ходить с непокрытой головой).
Журнал «Современник» печатал заметки о пребывании Дюма в российской столице: «Счастливый г. Дюма! Ему все, даже и петербургская суровая погода благоприятствует. В течение всего пребывания его в Петербурге стоит теплая… мало этого – жаркая ясная, чудная погода». И далее: «Чем чаще видишь г. Дюма, тем более удивляешься его неутомимой деятельности, его силе и здоровью… Он не разлучается никогда со своим портфелем и при первой возможности принимается за перо». Он уже начал работу над будущей книгой «En Russie» («В России»).
В полюстровском дворце, среди множества хронических бездельников, он один трудился и не тратил времени попусту.
Постоянным гидом его в Петербурге был писатель Григорович, говоривший по-французски как парижанин. Он не мог не ощутить разительного контраста в образе жизни Дюма – деятельного, любознательного, чрезвычайно подвижного – и всех многочисленных прихлебателей графа Кушелева-Безбородко. Григорович рассказывал потом в «Литературных воспоминаниях» о полюстровском дворце летом 1858 года: «Сюда по старой памяти являлись родственники [графини] и рядом с ними всякий сброд чужестранных и русских пришлецов, игроков, мелких журналистов, их жен, приятелей и т. д. Все это размещалось по разным отделениям обширного, когда-то барского дома, жило, ело, пило, играло в карты, предпринимало прогулки в экипажах графа, нимало не стесняясь хозяином, который, по бесконечной слабости характера и отчасти болезненности, ни во что не вмешивался, предоставляя каждому полную свободу делать что угодно. При виде какой-нибудь слишком уж неблаговидной выходки или скандала, – что случалось нередко, – он спешно уходил в дальние комнаты, нервно передергивался и не то раздраженно, не то посмеиваясь повторял: „Это, однако ж, черт знает что такое!“ – после чего возвращался к гостям как ни в чем не бывало».
В этом доме поэт Мей, превращавшийся в несчастного алкоголика: сказал однажды за общим столом экспромт:
Графы и графини,
Счастье вам во всем,
Мне же лишь в графине,
И притом в большом.
Елена Андреевна Штакеншнейдер записывала в дневнике:
«Среда, 6 августа.
Ну, молодые наши дома, на Миллионной… Оказалось только, что она еще гораздо красивее, чем на портрете, а он худой и желтый, как лимон. От тревог и волнений последних дней, предшествовавших венчанию, у бедного разлилась желчь. Но он все-таки смотрит счастливым, и хотя глаза у него желтые, но счастье сияет в них…
Пробыв с ним несколько часов сряду и поговорив то с ней по-французски, то с ним по-русски и потом как-то вперемешку, и на том и на другом, когда уже надо было уезжать [на дачу], вдруг мелькнул у меня вопрос: а как же оставим их одних? Ведь ему трудно говорить на ее языке, ей на его? Конечно, то была излишняя забота, они уже не в первый раз вдвоем и отлично поняли и понимают друг друга… Нам с нею приказано звать друг друга по имени без отчества, мы тезки, но она Елена, я Леля».
Как раз в день возвращения Полонского в Петербург уехал за границу Майков. Еще раньше за границу отправился Михайлов – следом за Шелгуновыми. Уехали Дюма и Кушелев: Дюма – в путешествие по России, Кушелев – в свое подмосковное имение.
Дела будущего журнала «Русское слово» не двигались никак, застыли на мертвой точке.
В сентябре Некрасов сообщил в письме Тургеневу: «Милый Полонский в Петербурге – с женой. Он зацепил ее в Париже, – прекрасное энергическое существо, судя по лицу… Полонский готовится быть редактором кушелевского журнала, – журнала без сотрудников, без материалов и без денег. Последнее всего страннее, но верно.Так, Кушелев хотел купить роман Гончарова, но скромный наш капиталист Краевский внес наличные деньги, и роман остался за ним».
Нет, дела обстояли не совсем так, как считал Некрасов. Кушелев не собирался скупиться на расходы по журналу, однако, уехав в подмосковное имение, не оставил никаких сумм своей петербургской конторе. Полонскому надо было вести переговоры с фабрикантами бумаги, с типографией, с книгопродавцами, но в его распоряжении не было ни гроша. Гончарову за рукопись «Обломова» Кушелев еще в июле предложил десять тысяч рублей, но Гончаров не питал доверия к будущему журналу графа («До сих пор все это довольно карикатурно. Один порядочный человек там – это Полонский, он редактор, а кто еще – никто до сих пор ничего не знает», – замечал Гончаров в одном письме). И предпочел он отдать свой роман – за те же десять тысяч – Краевскому, в «Отечественные записки».
Итак, с января «Русское слово» должно было выходить в свет, а в редакционном портфеле были только критические статьи Григорьева, поэма Майкова, очерк Михайлова, статья «Парижский университет» Благосветлова (с ним Полонский встречался в Париже) – и это почти все…
Свое выступление на страницах журнала Полонский решил начать стихотворениями «Утрата» и «Хандра», а также статьей о сборнике стихотворений Мея. Творчество Мея Полонский оценивал весьма сдержанно, но, главное, форма критической статьи позволяла ему высказать свое поэтическое кредо: «Поэзия есть истина в красоте и красота в истине; но не всякая истина поэтична и не всякая красота истинна…» И еще: «Трудиться над стихом – для поэта то же, что трудиться над душой своей».
«Вчера утром, – писала Мария Федоровна Штакеншнейдер Майкову 21 сентября, – проводила я своих милых журавлей Полонских в Москву. Надо вам сказать, что Полонский сам прозвал себя журавлем. Говорят, журавли приносят счастье дому, где совьют гнездо. Я уверена, что и нам милые жильцы мои принесут счастье. Полонские уехали в Москву на неделю повидаться с родными и заедут также к Кушелеву» – в подмосковное имение.
Кушелев вернулся в Петербург вслед за Полонским в октябре. Приехал из-за границы Григорьев. И вот, после многих хлопот и волнений, была подготовлена к печати первая книжка «Русского слова». В январе 1859 года она без опоздания вышла в свет.
Из Сибири прислал рукопись Достоевский – повесть «Дядюшкин сон». Ее набрали в третий номер.
Печатались в журнале «Воспоминания о поездке за границу» самого графа Кушелева – он подписывался литерами К. Б.
Но о благополучии в редакции журнала говорить не приходилось. Прибывший в Петербург Тургенев писал Фету в январе: «Григорьев пьет без просыпу, а Полонский смотрит полевым цветком, неделю тому назад подрезанным сохою». В начале февраля Тургенев писал Толстому: «У Кушелева происходит какая-то трескучая и унылая чепуха; Полонский сидит на одной ветке с женою и поет себе в зоб, как снегирь».
Кушелев воображал, что может сам руководить журналом. Он так и написал в записке Полонскому: «Вовсе не желаю играть роль купца-издателя… умею быть и главным редактором». Как он заблуждался! Составив штат редакции из трех сотрудников (Полонскому – двести рублей в месяц, Григорьеву – полтораста, Моллеру – семьдесят пять), Кушелев предоставил им действовать независимо друг от друга. Журнал не получил ни определенного направления, ни сколько-нибудь определенного лица.
Моллер вел из номера в номер «Петербургскую хронику» – совершенно бесцветные фельетоны.
К недоумению читателей, журнал печатал рядом статьи славянофила Григорьева и западника Благосветлова.
В мае Полонский получил письмо из Парижа:
«Я всегда понимал, – писал ему Благосветлов, – что Ваше дело по журналу Кушелева-Безбородко будет трудным, назойливым и нередко отвратительным… Чтобы прочитать безграмотную статью, чтоб удовлетворить всякое литературное самолюбие, которое, к сожалению, всегда растет в обратной пропорции с истинным умом и сердцем, – это стоит любой каторги, особенно для Вас, так свято и благородно отдавшего свою жизнь чистому искусству. Мы всеэто понимали в Лондоне и в Париже».
В Лондоне? Все? То есть, в том числе, Герцен?.. Но Благосветлов ограничился лишь намеком.
«Мы знали, – продолжал он, – и Вашу честность, и уважение к литературе, и чистоту стремлений, и художественный такт, столь необходимый периодическому изданию, особенно у нас. С полной доверенностью к Вам я обратился со своими посильными листками в „Русское слово“…» Но вот узнал Благосветлов, что в журнале первенствует чуждый ему Аполлон Григорьев, – вознегодовал и теперь выражал негодование в письме.
Кушелев же был недоволен всеми тремя своими сотрудниками в деле издания журнала. Считал, что они не прилагают должных усилий к тому, чтобы находить материал, и журналу нужен человек сугубо деловой, не обязательно литератор. Такой человек подвернулся графу под руку. Это был некто Хмельницкий, который брался добыть от русских писателей все, что возможно.
Узнав об этом, Полонский немедленно написал Кушелеву письмо:
«Если ты недоволен мною как соредактором – то знай, что едва ли кто-либо так горячо принимал к сердцу все, что касается до „Русского слова“… Вспомни, что два отдела, критикаи фельетон,два единственных отдела, в которых журнал должен непосредственно относиться к публике, – совершенно от меня не зависели, и что, стало быть, за главное в нашем журнале я не могу отвечать ни перед тобой, ни перед публикой.
На совет ты меня никогда не звал – и многое узнавал я после. Когда спрашивали меня – правда ли, что Хмельницкий поехал по распоряжению графа собирать статьи для журнала? – я отвечал: не знаю, граф главный редактор, а не я».
В конце письма Полонский спрашивал напрямик: «…должен ли я искать другого места или хлопотать о том, чтобы примкнуть к другой редакции, – или оставаться при „Русском слове“, с уверенностью, что ни жена, ни ребенок мой не умрут с голоду».
Полонский написал это, когда жена была на последнем месяце беременности.
Елена Андреевна Штакеншнейдер уже перебралась на дачу под Гатчиной на все лето. Она записывала в дневнике:
«Четверг, 4 июня.
У Полонского родился сегодня утром в пять часов сынок Андрей. Мама уехала к ним, завтра воротится. Назван он Андреем в честь папа, а мама будет его крестной матерью…
Пятница, 5 июня.
Мама вернулась от Полонских. Мать и новорожденный слава богу, но сам Полонский, бедный новый отец, за несколько часов до рождения сына упал с дрожек и зашиб себе ногу. Ему бы делать холодные компрессы и лежать с протянутой ногой. С того было и начали, но началось и другое. Поглощенный этим другим, в тревоге и страхе Полонский позабыл про свою ногу, и вот она разболелась у него не на шутку».
Распухшее колено пробовали лечить всячески: прикладывали лед, ставили пиявки, мазали йодом – ничего не помогло.
В мае Кушелев уезжал из Петербурга. Вернувшись в июне, обратился к Полонскому и Григорьеву с предложением прислать ему – в письменном виде – свои соображения об издании «Русского слова» в будущем году.
Полонский из Гатчины послал Кушелеву записку: «…Взвешивая все расходы твои по журналу, знаю, что они далеко превышают доходы, и совершенно согласен с тобой, что постоянно вести так дело нет никакой возможности… По моему крайнему разумению, тебе необходимо раз и навсегда избрать одного редактора».
На следующий день Полонский послал еще одну записку:
«…Мнение Григорьева мне совершенно неизвестно – он у меня ни разу не был с тех пор, как ты уехал. Вот когда я узнал всю неурядицу – всю путаницу – всю нелепость разъединения в деле редакторства. Этот месяц – лучшая для меня и для тебя практика: типография не знает, кого слушаться, статей накопляется до 50 листов. Одно приказывают выкинуть – является другое, будто бы по твоему приказанию. Так, Моллер, который до 8 числа этого месяца еще и не думал о доставлении в типографию Петербургской хроники, поручил печатать статью свою о Гумбольдте. О, творец небесный! О Гумбольдте пишет Моллер! – Сам Гераклит, вечно плачущий, расхохотался бы от такой штуки…»
В черновике этой записки Полонский выразился еще резче и определенней: «Ты, избравши таких разнокалиберных соредакторов, как я, Григорьев и Моллер, запряг в экипаж лошадь, медведя и рысь. Будь ты хоть первый кучер в мире, на такой тройке далеко не уедешь… Был ли у меня Моллер хоть один раз, прочел ли он мне хоть один фельетон – нет, увидевши, что я нуль в твоей редакции, он посылает свои фельетоны прямо в типографию… Что же может быть нелепее такой редакции».
Все лето Полонские провели на даче у Штакеншнейдеров.
Елена Андреевна записывала в дневнике:
«Среда, 8 июля.
…Ему не только не лучше, а хуже. Он уже совсем не может ходить. Но, когда ему надоедает сидеть, он спустится с кресла или с дивана на пол и сидя поползет. Сначала было это всем как-то жутко видеть; теперь привыкли и уже даже не вздрагивают, когда вдруг, неслышно приблизившись, он оказывается возле кого-нибудь и заглядывает в лицо своими добрыми, усталыми глазами, подняв свою исхудалую бородатую голову. Ужасно только жалко смотреть. Прежде я его не очень любила, теперь чувствую к нему что-то такое и, не умея выразить то, что чувствую, зову его дядей. А он это слово подхватил и зовет меня теткой…
Понедельник, 27 июля.
Как хороша Полонская и как жалок он. И, главное, такая молодая, такая красавица – и такая добрая жена и внимательная мать…
13 августа.
Я лучше узнала Полонскую, и меня тронула привязанность этой молодой, цветущей женщины к ее больному мужу. Как же она за ним ухаживает, одевает, моет его, даже моет его ноги, и ласкает и бодрит его, и всегда только говоря ему полушутя: Tu n’as pas de chance, pauvre Jacques! [He везет тебе, бедный Жак!]»
Его редакторская карьера кончилась: с июля Полонский вышел из редакции «Русского слова».
В сентябре он рассказывал Фету в письме: «Граф уехал в Париж – 8 или 9 июля – и перед своим отъездом не согласился на мои условия, при которых я брался издавать журнал. Я хотел или быть независимым редактором в выборе статей и сотрудников, или не быть ничем – и не марать своего имени».
До него дошел, вероятно, слух, что Григорьев не лучшим образом отзывается о нем в разговорах с Кушелевым. Полонский – при мнительности своей – решил, что Григорьев интригует, копает ему яму…
Кушелев, уезжая, оставил самые широкие полномочия Хмельницкому. Тот оказался человеком бесцеремонным и по своему усмотрению выправил очередную статью Григорьева. Григорьев был возмущен до глубины души и отказался от всякого дальнейшего участия в журнале.
Так в редакции «Русского слова» двух писателей разом сменил делец, не бравший в руки пера. Как вспоминает Шелгунова, это был человек «желчный и грубый, с резкими и быстрыми манерами, с вечно оттопыренным карманом сюртука, в котором лежал толстый бумажник, и вечно куда-то спешивший. Впрочем, с сотрудниками, которыми Хмельницкий дорожил, он был не только мягок, но даже искателен и вкрадчив. Откуда пришел в журналистику г. Хмельницкий – никто не знал; говорили, что он сам явился к графу Кушелеву и предложил себя в управляющие „Русским словом“».
«Ноге моей, слава богу, лучше, – записал Полонский в тетради 25 сентября, – другое горе: никак не могу поладить с М. Ф. Мы не должны были сходиться слишком близко – чем мы короче друг с другом, тем менее друг друга понимаем… Пребывание в одном доме заставляет поневоле видеть те или другие недостатки… Из десяти слов, мною сказанных, непременно найдется для нее одно, которое бог знает почему и отчего ее обижает. Я не могу этого понять, стараюсь шутить – шутки не понимаются или не принимаются. Делаюсь серьезен – и это не нравится…»
Нет, придется журавлю на другом месте вить гнездо…
Друзья наняли для него квартиру на углу Большой Подьяческой и Екатерининского канала. На Миллионную, в дом Штакеншнейдеров, Полонский возвращаться не хотел. В конце сентября переехал с дачи прямо на новую квартиру. «Наконец я не в чужом доме, а у себя, – написал он Фету, – это чувство для меня почти совершенно новое».
Доктора сделали ему две операции колена, но и после этих операций прошло два месяца, пока наконец он смог ходить.
Осенью вернулся из Парижа Кушелев. Узнал, в какое бедственное положение попал Полонский. Посочувствовал и прислал к нему Хмельницкого с предложением выплачивать – до мая будущего года – полтораста рублей в месяц с одним условием: в эти месяцы Полонский будет печататься в «Русском слове» и нигде больше. Конечно, Полонский не стал отказываться.
Первый публичный вечер в пользу Литературного фонда состоялся в зале Пассажа 10 января.
«Зала была полна, – записала в дневнике Елена Андреевна Штакеншнейдер. – Первым читал Полонский. Бедный, бедный, сынок у него умирает.
И ради этого чтения сегодня в первый раз после болезни вышел Полонский из дома, в первый раз и с сокрушенным сердцем. Его пустили первым, чтобы он мог раньше уехать домой».
Полонский потом рассказывал в письме к одной старой знакомой:
«Только что я выздоровел и стал показываться на свет – заболел мой ребенок. Трое суток продолжались беспрерывные родимчики, и он – умер (от зубов) в ужасных страданиях. Жена моя долго была безутешна и много плакала…»
Еще в начале зимы открылась вакансия в комитете иностранной цензуры – место секретаря. Председателем комитета был весьма уважаемый поэт Федор Иванович Тютчев.
Сначала место секретаря было предложено Николаю Щербине, но тот порекомендовал – вместо себя – Полонского.
Узнав об этом из записки, которую прислал Щербина, Полонский отвечал ему: «…право, мне совестно пользоваться твоим великодушным отречением. Будь я холостой, да ни за какие блага мира я бы им не воспользовался. Если теперь ищу место, то, право, не потому, чтобы думал о себе. Я привык ко всем нуждам и лишениям, но – жена, семья и нужда – три вещи трудно совместимые… Если будешь у Тютчева, замолви сам обо мне словцо».
Хлопотали за Полонского также Тургенев и Майков, который служил в том же комитете цензором.
В марте 1860 года Яков Петрович был принят на службу. Жалованье – восемьдесят рублей в месяц. Не густо, но можно жить…
Записывала в дневник Елена Андреевна Штакеншнейдер:
«16 мая.
Были у нас Полонские. Ах, как она похудела и какою жалкою смотрит! Так перемениться, в такой короткий срок! Она все еще очень хорошенькая, но личико у нее стало какое-то маленькое, и она сильно кашляет…
22 мая.
Ездили [из Гатчины] в Петербург поздравлять с прошедшим днем ангела Елену и нашли ее в постели… У нее жар, но Каталинский говорит, что опасного ничего нет; ей только надо лежать. Она довольно весело болтала с нами и смеялась. И такая она хорошенькая с красными щечками и блестящими глазами. К обеду вернулись мы домой…
23 мая.
Приехал папа и говорит, что Елена очень больна. Он был у них, но ее не видел. Дали знать в Париж, и ждут мать. Господи, что же это такое? Прошусь к ним, но говорят, что нельзя и не надо».
«Каталинский не хочет обнадеживать меня, – писал Полонский Елене Андреевне 1 июня. – У жены моей какая-то тифоидальная лихорадка – так, по крайней мере, сказал мне Каталинский, – с упадком жизненных сил. Уже пять суток, как не спит ни днем, ни ночью. Все внутри у ней горит, она харкает кровью, губы и язык черны. Вместо сна она только забывается на минуту или две. Вставать или подняться и сесть на постели она уже не может. Глядя на нее, все во мне рыдает и плачет, но плакать я не смею. Вот мое положение – и я один, совершенно один! При одной мысли, что мать может не застать уже дочь свою в живых, что я могу потерять ее, я готов с ума сойти…»
И вот письмо Полонского Шелгуновой:
«8 июня 1860 г.
Моя Елена с 6 часов вчерашнего вечера и до сих пор лежит без памяти, изредка бредит – зовет меня, произносит имена своих знакомых. Она на пути к смерти. Если мои слезы, мои мольбы ее не остановят, если ни бог, ни природа не спасут ее, пожалейте разбитого жизнью вашего друга».
Она скончалась в тот же день.
Потрясенный Полонский не мог тогда написать ни единой стихотворной строки, но впоследствии он вспомнил смерть Елены в стихотворении «Последний вздох»:
«Поцелуй меня…
Моя грудь в огне…
Я еще люблю…
Наклонись ко мне».
Так в прощальный час
Лепетал и гас
Тихий голос твой,
Словно тающий
В глубине души
Догорающей.
Я дышать не смел —
Я в лицо твое,
Как мертвец, глядел —
Я склонил мой слух…
Но, увы! мой друг,
Твой последний вздох
Мне любви твоей
Досказать не мог.
И не знаю я,
Чем развяжется
Эта жизнь моя!
Где доскажется
Мне любовь твоя!
Ее похоронили на Митрофаньевском кладбище рядом с могилкой сына.
«День тот был такой ослепительный и знойный… – рассказывала в дневнике Елена Андреевна. – Мы все стояли над могилкой, машинально следя за заступами, ее засыпавшими… Никто не шевелился… Наконец сам Полонский прервал оцепенение и пошел, и за ним пошли все…» Тут были Штакеншнейдеры, Майковы, Михайлов, Щербина и многие другие.
Выйдя из кладбища, Полонский зашагал пешком по дороге, его догнал доктор Каталинский. Тут кстати оказался извозчик – Каталинский усадил Полонского в пролетку и увез.
Приезжала мать Елены и уже не застала дочь в живых. Полонский отдал ей все вещи покойной. Говорил, что хочет уехать из Петербурга куда глаза глядят…
Вернувшись в Париж, она все подробно рассказала мужу, и Василий Кузьмич послал письмо:
«Любезный наш Яков Петрович!
Уважьте последнее наше желание, мы просим вас не оставлять Петербурга, это для нас будет последним утешением, что есть еще у нас один, остался наш родной, после милой нашей дочери Елены…»
Письма от Василия Кузьмича Устюжского Полонский получал и позднее, через год и через два… Эти письма трогали до глубины души. Вот, например, это: «…радуюсь, что еще бог вас хранит, читая ваше письмо, переводя моей жене, – она говорит cher homme[милый человек] с сильным вздохом, а я… поверьте мне, читаю ваши письма, слезы льются из глаз, так что жена говорит: что пишет он, а я не отвечаю, покуда не успокоится сердце. И это для нас большое утешение, что вы снисходительны к нам, спасибо вам, милый наш! Еленушка всякий раз к нам писала: Mama, si tu savais comme Jacques est bon pour moi [Мама, если бы ты знала, как Жак добр ко мне]».
Из Парижа писал Полонскому еще Тургенев:
«Ты не поверишь, как часто и с каким сердечным участием я вспоминал о тебе, как глубоко сочувствовал жестокому горю, тебя поразившему. Оно так велико, что и коснуться до него нельзя никаким утешением, никаким словом: весь вопрос в том, что надобно, однако, жить, пока дышишь; в особенности надо жить тому, которого так любят, как любят тебя все те, которые тебя знают…
Будь уверен, что никто не принимает живейшего участия в твоей судьбе, чем я. Будь здоров и не давай жизненной ноше раздавить тебя».
Летом комитету иностранной цензуры отвели новое помещение – на Васильевском острове, в здании университета. Там же Полонскому, как секретарю комитета, предоставили казенную квартиру.
Одному ему жить было тошно, он предложил поселиться вместе с ним знакомому художнику Ивану Ивановичу Соколову, одинокому холостяку. По вечерам Полонский уходил куда-нибудь в гости. Он печально признавался (уже в декабре – в письме к дочери старого приятеля Софье Адриановне Сонцевой): «И дома тоска – и в гостях тоска – и нигде места себе не нахожу. Соколов, мой сожитель, человек также не очень живого характера – все больше молчим…»
Всю зиму в душе Полонского и в его стихах негаснущей болью всплывала недавняя утрата. Как быть, как жить?
Я читаю книгу песен
«Рай любви – змея любовь» —
Ничего не понимаю —
Перечитываю вновь.
Что со мной! – с невольным страхом
В душу крадется тоска…
Словно книгу заслонила
Чья-то мертвая рука —
Словно чья-то тень поникла
За плечом – и в тишине
Тихо плачет – тихо дышит
И дышать мешает мне.
Словно эту книгу песен
Прочитать хотят со мной
Потухающие очи
С накипевшею слезой.








