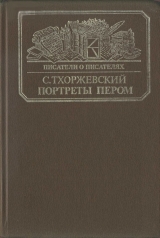
Текст книги "Портреты пером"
Автор книги: Сергей Тхоржевский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 31 страниц)
В первый год своего издания – 1864-й – «Николаевский вестник» был живой и, пожалуй, прогрессивной газетой. На его страницах появлялись такие призывы: «Правды! Правды! Правды! Правды в науке, правды в искусстве, правды в мыслях и делах, правды в целой жизни. Вот голос, который раздается в сердцах всех людей, жаждущих выйти из фальшивой колеи, по которой до сих пор брело наше существование…»
Промелькнула в «Николаевском вестнике» и такая заметка: «В наш скептический век установилось мнение… что всякий человек должен мыслить самостоятельно (легко ли!), а не жить чужим умом, как выражаются. Спорить-то против этого никто не станет, а много ли между нами самостоятельных мыслителей?.. Субъекты, которым
Что… книга последняя скажет.
То на душе его сверху и ляжет,
не редкость…»
Однако только в первый год издания «Николаевский вестник» позволял себе призывы открыто говорить правду и думать собственной головой. Потом газета как-то незаметно завяла и обесцветилась, на страницах ее воскрес давно знакомый казенно-канцелярский стиль.
Глава одиннадцатаяМожет быть, кто-нибудь хоть что-нибудь да извлечет из наших исцарапанных клочков бумаги?
Александр Баласогло «Обломки»
Шел 1866 год…
«Сегодня, 4 апреля, в четвертом часу пополудни, когда государь император после обычной прогулки в Летнем саду садился в коляску, неизвестный человек выстрелил в государя из пистолета. Провидение сохранило особу государя. Преступник схвачен, ведется расследование» – таково было ошеломляющее сообщение «Санкт-Петербургских ведомостей».
«Какой ужас! индо мозг перевернулся, – записывал в дневнике князь Одоевский, находившийся тогда в Москве, – …рассказывают, что пистолет был отведен проходившим случайно мужиком. А если б он тут не случился?!Что же делала полиция? Неужели ее агенты не следят за государем? Когда гулял Николай Павлович – до десятка переодетых полицейских не спускали его с глаз».
Через четыре дня после покушения в петербургском Мариинском театре показывали оперу «Жизнь за царя». Представление неоднократно прерывалось исполнением гимна, весь зал пел «Боже, царя храни». После первого действия на сцену вышел с разрешения дирекции Аполлон Николаевич Майков и прочел свое новое стихотворение «4 апреля 1866 года». «Кто ж он, злодей?» – вопрошал поэт. И далее:
Кто ж он? Откуда он? Из шайки ли злодейской,
Что революцией зовется европейской.
Что чтит свободою – одну свободу смут…
Публика проводила Майкова со сцены шумными рукоплесканиями.
В тот же самый вечер царь был в Александрийском театре на спектакле, составленном из легких водевилей. Майков из Мариинского театра поспел в Александринский и там также читал со сцены те же стихи – уже в присутствии царя.
И здесь тоже пели «Боже, царя храни».
В сентябре молодой человек, стрелявший в царя, – Дмитрий Каракозов – был повешен.
На листах «Колокола» появилась статья Герцена под заголовком едким и горьким: «Порядок торжествует!» Герцен писал, что все реформы нового царя «были не только неполны, но преднамеренно искажены. Ни в одной из них не было той шири и откровенности, того увлечения в разрушении и созидании, с которым ломали и создавали великие люди и великие революции…
Те, которые надеялись, озлобились на не исполнившего надежд. Первая фанатическая, полная мрачной религии натура схватила пистолет…
Вспомним, что было при Николае… и не при нем ли началась та вулканическая и кротовая работа под землей, которая вышла на свет, когда он сошел с него?
В прошлое пятилетье мы немного избаловались, пораспустились, забывая, что нам были даны не права, а поблажки».
В таежном селе Бельском Енисейской губернии 7 декабря 1866 года скоропостижно скончался ссыльнопоселенец Буташевич-Петрашевский. Хоронить его было некому, труп целый месяц (по другим сведениям – два месяца) лежал в «холоднике», а затем был зарыт вне кладбища, ибо умер Петрашевский без покаяния. Только в январе о его смерти сообщили «Енисейские губернские ведомости» и только в конце февраля – «Санкт-Петербургские ведомости». Предельно кратко, без траурной рамочки – несколько строчек мелким шрифтом.
Уже много лет жил в Николаеве Александр Пантелеевич Баласогло, оторванный от мира, где происходили большие события, где издавали журналы, путешествовали по разным странам, собирались в тайные общества, стреляли…
Что оставалось делать ему, больному, издерганному, нищему, в одиночестве беспросветном?
«Вместо прежних стремлений в дальние назначения, – печально писал Баласогло, – мы осваиваемся с одною, уже неразлучною мыслью: нельзя ли, не попавши целую жизнь никуда, все-таки быть полезным, для своих и чужих, хоть чем-нибудь на свете?.. Правда и то, что и мы таки как-то все было просбирались…Да, дело в том, что прохворали, да протосковали, да прождали…»
Он уже не надеялся, что какой-либо журнал заинтересуется его трудами. Остается, думал он, «снаряжать, сколачивать в море свою посудину на свой страх и отвагу…». А что, если собрать сумбурные свои записи – кое-что ведь накопилось за последние годы, – да и попытаться напечатать отдельно
«все то, что хоть кажется одним нам самим стоющим этой чести?.. Когда буря рвет паруса, ломает рангоут, мечет обломки на берег – возможно ли тут думать о каком бы то ни было порядке?.. Человек отдается в таком случае на произвол самой природе!.. Неси, что хочешь и куда хочешь!.. Только неси, матушка! да выкидывай на берег!! А там уж – что ни будь, то себе и будь!!
Выдыбай нас, боже!
Поборай за нас, морской бог – Николай Угодник!!!
Наша отдельная жизнь, как бы она ни была потрясена, нейдет тут в расчет ни на волос! Тут, как вы поняли, речь идет только о том, чтобы спасти с разбитого корабля все, что возможно… Так что же прикажете спасать? что вышвыривать?.. Отдельные листы, на выхват, нашарап, из шканечного журнала?..
„Да! да! да!.. Вот это так – так!!. Скоро будет гласный суд – так оно, того, пригодится!.. Подавай что-нибудь еще!!.“
Да ведь это наши частные письма, маранья, проекты, записки, вздор!!.
„Давай, давай сюда!.. Этого-то нам и нужно!..“
И тут матрос – бултых! – в море – целый сундучище с бумагами!.. Без замка!.. Талыпандается!.. Крышка хлопает!.. А ветерок так и уносит: то листок, то клочки, то целые тетради!!.»
В июне 1869 года Аполлон Николаевич Майков получил письмо.
«Постоянное участие, которое вы принимали в нашем семействе, дает мне смелость обратиться к вам», – писал ему Владимир Баласогло. И рассказывал далее, что в свое время поступить в университет ему не удалось, пришлось идти в Константиновское артиллерийское училище. Оставленный в Петербурге по окончании училища, он попал в Охтинское капсюльное заведение. В апреле минувшего года там взлетел на воздух один барак с гремучим составом, причем убило на месте четверых. «Я был свидетелем этого, – писал Владимир Баласогло. – Вы, верно, слышали об этом взрыве?.. Вскоре за тем, а именно 2-го мая, я находился в кладовой с двумя рабочими при пересыпке-капсюлей, которых было до 1 пуда; все эти капсюли вспыхнули у нас в руках, и мы едва успели выбежать с основательно спаленными физиономиями, руками и платьем. От этой обжоги я проболел до сентября. Когда раны все зажили (они вообще были неглубоки), я опять отправился в свою мастерскую… У нас произошел опять взрыв, причем убило одного человека и разрушило один барак. В это время я находился в другом здании, но стоял у окна… окно раскрылось или разбилось, не помню, и сотрясение воздуха было так сильно, что мне показалось, что все вокруг меня разрушается… с того достопамятного дня я обратился в самого жалкого труса… на днях мне поручили везти 3500 пудов пороха в Свеаборг… я насилу отделался от этой комиссии. Теперь я вижу ясно, что должен бросить военную службу… Я прошу вас рекомендовать мне какое-либо место по штатским делам или даже частное место… Если вы помните моего отца, то я должен вам сказать, что унаследовал многие черты его характера, и в усидчивости и любви к труду, пожалуй, не уступлю ему, но главная разница между нами та, что он, говорят, имел сильную волю, а я весьма малодушен: неудачи приводят меня в отчаяние, и в большинстве случаев я раб обстоятельств… я малодушен и слаб духом по сравнению с отцом, который не менял так легкомысленно своих решений.В последнее мое свидание с вами (в 1861 году, если не ошибаюсь) я застал вас больным, но я заметил, что вы с удовольствием вспомнили моего отца, из чего я заключил, что, вероятно, в прежние годы вы во многом друг другу симпатизировали, хотя, на мой взгляд, в характере отца было гораздо больше страстности, чем той детской восприимчивости нервной системы, соединенной с недетским пониманием вещей, которая главным образом характеризует настоящих поэтов… Мне, может быть, придется краснеть за это письмо, потому что я пишу его, сам хорошенько не понимая, насколько это прилично… Более всего, конечно, меня может огорчить ваше молчание, но, ради бога, не стесняйтесь и этим и не отвечайте на это длинное и глупое письмо, если найдете к тому причины, – это прибавит не очень много горечи в мою уже прогорклую жизнь».
Ответ Майкова на это письмо неизвестен. Так или иначе, с военной службы Владимир Баласогло не ушел. По призванию он был ученым, с юных лет увлекался энтомологией, вступил в Энтомологическое общество, стал ездить во время своих отпусков в научные экспедиции, некоторые открытые им виды жуков с тех пор носят его имя…
Александр Пантелеевич дождался жалкой пенсии – восемьдесят пять рублей в год. Он едва сводил концы с концами. Уже нигде не преподавал и не мог преподавать: был совсем больным и немощным.
В 1872 году умер, уже глубоким стариком, его отец.
В 1873-м до Николаева была достроена железная дорога. Теперь отсюда можно было поехать в Петербург на поезде – были бы деньги…
И не просто съездить в Петербург хотел бы Александр Пантелеевич, но привезти туда свои неопубликованные и хоть как-то завершенные сочинения. Не приезжать же ему, литератору, в столицу с пустыми руками…
В октябре того же года он решился еще раз обратиться письмом в Третье отделение, снова просить о возврате старых рукописей. Ждал, ждал, – когда же будет ответ?.. Нет, так и не ответили. Может быть, просто потому, что за давностью лет не могли отыскать эти рукописи в своем огромном архиве.
В мае 1874 года Баласогло послал письмо в Петербург Николаю Николаевичу Тютчеву, с которым всякие связи оборвались давным-давно. Ныне Тютчев был одним из членов комитета Литературного фонда.
«Теперь, как и в те дни, когда Вы снаряжали меня в путь, в Петрозаводск, – писал Александр Пантелеевич, – выдается столь же особый, как и роковой для моих дел случай в моей жизни… Отсутствие всяких денежных ресурсов отнимает и всякую отдаленную идею о том, чтобы рисковать хотя бы и на самую краткую отбывку из этого града моих мучений в Ваш – некогда, и столь сердечно, мой – Петербург… Все-таки не отчаиваюсь завести здесь – коли не удалось в Петербурге —и не для одного своего пропитания… издательство…»
Далее в письме Александр Пантелеевич восторженно отзывался о новой книге Анненкова «Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху» и спрашивал:
«Может быть, еще сохраняете все те дружеские отношения, в каких я Вас знавал… с бесценным по его слогу, остроумию, колориту описаний, какими я некогда был так пленен… когда читал впервые его путешественные письма из Германиив тогда не чуждые нам всем „Отечественные записки“;а теперь… может быть, даже и единственным писателем, который так всемирно тонко, университетски консеквентно, поэтически неотступно и беспримерно любовно понимает нашего А. Пушкина…доставляя время от времени столько неописуемых восторгов хотя бы только одному уму в целой нынешней „природе“ – уму литератора, загнанного бурями на самое дно и на привязь глушайшей провинции, т. е. именно Вашему покорнейшему слуге…»
О самом существенном для него Александр Пантелеевич написал только в конце письма: просил Литературный фонд поддержать его просьбу в Третье отделение о возврате рукописей. И, если возможно, ходатайствовать о назначении ему хотя бы не столь нищенской пенсии, какую он получает ныне… С отчаянием вспоминал Александр Пантелеевич о своих рукописях, уничтоженных в Одессе им самим: «Где я их теперь добуду! Когда и после битые два-три года я не мог вспомниться и уравновеситься в самом себе и не только удосужиться, чтобы снова положить на бумагу хотя бы только наиважнейшие из них по памяти… Не хочу самосознательно быть, во второй половине XIX века, автором-самоубийцей или душегубом детей своей мысли!.. Пусть же лучше пролежат они в своем неисправном, неоконченном и отчасти ученическом виде до будущих времен, чем погибнут гуртом и бесследно!.. Невозможность же привести все это в надлежащий публичный и законченный вид для печати – о чем я только и думаю, возясь со всем тем, что намарано мною вновь и вновь, уже после войны, – постоянно меня мучит и бесит…» А между тем в Николаеве, писал Александр Пантелеевич, «меня хозяева квартир гоняют, как собаку, из одного мерзкого угла в другой…»
Николай Николаевич Тютчев написал председателю Литературного фонда Заблоцкому-Десятовскому: «Уезжая за границу, посылаю Вам, многоуважаемый Андрей Парфенович, письмо, только что полученное мною, для передачи в Литературный фонд, от старика Баласоглу, которого я считал давно умершим. Я встречался с ним в сороковых годах. То был честнейший, но бестолковый и полупомешанный идеалист и фантаст. Он издал как-то книжку о букве Ѣ; по поводу истории Петрашевского просидел более полугода в крепости, лишился там последнего равновесия характера, был выпущен с расшатавшимися нервами, признан невинным, выслан из Петербурга – и с тех пор бедствует… Посылаю все это на Ваше усмотрение».
Комитет Литературного фонда рассмотрел письмо Баласогло и решил: «Оставить без последствий, так как удовлетворение подобных ходатайств к обязанностям комитета не относится».
Когда Муравьев-Амурский навсегда уезжал из Иркутска, он оставил там среди прочих бумаг старую рукопись Баласогло «О Восточной Сибири» – она Муравьеву более была не нужна.
И вот в феврале 1875 года эту рукопись опубликовал журнал «Чтения в обществе истории и древностей Российских при Московском университете». Статья появилась без подписи, автор ее оставался неизвестен и тем, кто прислал ее из Иркутска, и редакции журнала…
В октябре того же года «Николаевский вестник» поместил объявление о выходе из печати в Николаеве книги А. Белосо́колова «Обломки».
Это была, собственно, не вся книга, а лишь вступление к ней – «первый обломок», как сообщал автор. Он обращался к читателям: «Вы так, может быть, прочитаете и дождетесь целойкниги…»
Книжечка вышла тиражом в триста экземпляров по цене двадцать пять копеек серебром. Таким образом, если только все экземпляры удалось распродать, за книжку было выручено всего семьдесят пять рублей; это, наверно, едва покрывало типографские расходы, так что автор не заработал решительно ничего. Продавалась ли книжка за пределами Николаева – неизвестно. Никаких отзывов в печати не появилось. Да и странно было бы рецензировать одно лишь вступление к некой обещанной автором целойкниге. В этом вступлении были и обрывистые рассуждения автора о морской службе, и старая моряцкая байка, и туманные размышления о прочитанном, причем автор явно не договаривал до конца… Этот «первый обломок» сам выглядел грудой обломков, за которой угадывалась разбитая вдребезги жизнь.
Обещанная автором книга так и не вышла в свет…
И хотя прожил он еще семнадцать лет, об этих последних годах его жизни совершенно ничего неизвестно. Удалось только выяснить: умер он там же, в Николаеве, в 1893 году, 18 января по старому стилю. Умер старик на больничной койке – в Морском госпитале. Вот и все.
За годы его жизни в Николаеве должны были накопиться какие-то рукописи… Где они? Должно быть, никто ими не интересовался…
Он был при жизни прочно забыт, умер в совершенной безвестности, и, казалось, время навсегда стерло в памяти людской его имя, как миллионы других безвестных имен.
Когда человека давно уже нет на свете и никто о нем не помнит – как определить, прошла его жизнь бесследно или нет?
Если не видно следа, говорят: как вода в песок…
Но если вода уходит в песок, она не исчезла: ведь песок становится влажным. Потом его сушит ветер – ветер времени, скажем традиционно и чуть высокопарно, пусть так, – и воды в песке уже действительно нет, но она не исчезла совсем, она теперь в облаках, в тучах и, наконец, проливается на землю снова, чтобы зеленела трава и не сохли колодцы. И в этом торжество справедливости, которое существует в природе…
1971–1972
ВЫСОКАЯ ЛЕСТНИЦА

Незадолго до смерти своей Иван Сергеевич Тургенев написал поэту Якову Петровичу Полонскому: «Никогданичего неожиданного не случается – ибо даже глупости имеют свою логику».
Не знаем, что ответил Полонский. В сущности, ответом была его собственная жизнь, полная противоречий – неожиданных, если глядеть со стороны. Но если вникнем – увидим, что в жизни поэта все имеет свою логику: взлеты и падения, житейская повседневность и музыка впервые зазвучавшего стиха.
На расстоянии прошедших лет, уже зная, что к чему привело, зная, как все началось и чем завершилось, мы можем ощутить в минувшем драматический сюжет и, главное, логическую закономерность всего, что в жизни поэта было существенно – для него и для нас, – всего, что сложилось не только из личного стремления наполнить жизнь высоким смыслом, но также из неумолимых обстоятельств, обусловленных ходом истории, который, как известно, называли и океанской волной, и жерновом, и ветром, и бог знает как.
Я хочу рассказать о судьбе поэта. Для меня важно, что был он не только талантливым, но, по единодушному свидетельству современников, светлым и добрым человеком. Иначе бы я и не взялся за перо.
Начнем не торопясь, издалека – с лета 1838 года. Представим себе, как на телеге, запряженной парой лошадей, долговязый юноша Яков Полонский добирался от Рязани до Москвы. Добирался почти двое суток.
Ямщик привез его на постоялый двор. В еще незнакомой ему столице юноша разыскал дом своей двоюродной бабушки – обычный одноэтажный дом с мезонином. В мезонине бабушка разрешила ему поселиться, сюда он внес дорожный чемодан и подушку – других вещей у него не было.
Он очень хотел поступить в университет и боялся, что не примут. Был он нетверд в математике и в языках: французском и латыни. В рязанской гимназии учился неважно, дома ему в учении мало чем могли помочь. Отец был мелким провинциальным чиновником, никто в семье образованностью не отличался.
И вот вступительные экзамены в новом здании университета, в большом зале с белыми колоннами.
Яков Полонский блеснуть познаниями здесь не мог. Все же его приняли! Приняли на юридический факультет. Правда, никакого интереса к юриспруденции он не испытывал и, если бы сносно владел иностранными языками, предпочел бы словесное отделение философского факультета… Но согласен был и на юридический.
С радостью надел он студенческую форму: серую шинель с голубым воротником и треугольную шляпу.
Своих денег у него, разумеется, не было. Просить у отца, обремененного большой семьей, совестился. Но кормился Яков у бабушки, так что можно было жить и без денег. В университет ходил пешком. Зимой на улицах ускорял шаг, чтобы не мерзнуть в своей легкой шинели. «Я считал себя богачом, – вспоминал он много лет спустя, – если у меня в жилетном кармане заводился двугривенный; по обыкновению я тратил эти деньги на кофе в ближайшей кондитерской: в то время не было ни одной кофейной, ни одной кондитерской, где бы не получались лучшие журналы и газеты, которых не было и в помине у моей бабушки», – и он не упускал возможности открывать для себя все то новое, что появлялось на печатных страницах. В первую очередь – новое в русской поэзии.
Яков Полонский и сам уже сочинял стихи. Он показывал их всем, кого ни встречал, и близко к сердцу принимал любые отзывы: похвальные, критические и насмешливые. Друзья-студенты о его поэтических опытах, конечно, знали. Ему запомнился случай: «В какой-то аудитории я сидел на одной из задних скамеек и уронил книгу. Когда я нагнулся поднять ее, кто-то из числа моих товарищей довольно громко произнес: „Поэт упал с подмостков“. Это произвело легкий смех и сильно меня сконфузило…»
Но не каждый раз он забирался на заднюю скамейку и рассеянно, вполуха воспринимал, о чем говорилось на кафедре. С увлечением слушал Полонский лекции профессора Крюкова по древнеримской словесности и лекции профессора Редкина – читал он студентам энциклопедию права. Профессора эти отнюдь не были убелены сединами – обоим было едва за тридцать. «Студенты первого курса сидели ошеломленные, – читаем в воспоминаниях Полонского, – они и не мечтали о том, что есть науки, а не просто учебники… Студентам не только после каждой лекции разрешается возражать – от них желают самостоятельной работы мысли…»
Профессор Редкин говорил им:
– Милостивые государи! Покой есть смерть, беспокойство – жизнь!
Это запоминалось.
В лекциях своих он стремился существование бога доказывать логически, и это уже было ново для студентов, с детства приученных верить в бытие божие, не требуя доказательств. Теперь для них вера становилась темой философских размышлений. И далеко не всякий мог размышлять об этом спокойно, как о чем-то отвлеченном, что не затрагивает сути его собственного существования.
Еще на вступительных экзаменах Полонский познакомился с молодым москвичом, тоже поступавшим на первый курс университета, – Аполлоном Григорьевым. Оказалось, Григорьев тоже пишет стихи.
«В первые дни нашего знакомства, – вспоминал потом Полонский, – он нередко приходил в отчаяние от стихов своих, записывал свои философские воззрения и давал мне их читать. Это была какая-то смесь метафизики и мистицизма…» От того и другого Полонский был далек. Его еще не терзали противоречия философские и религиозные. «Раз в университете, – пишет он, – встретился со мною Аполлон Григорьев и спросил меня: „Ты сомневаешься?“ – „Да“, отвечал я. „И ты страдаешь?“ – „Нет“. – „Ну, так ты глуп“, – промолвил он и отошел в сторону».
С той поры Григорьев относился к нему в лучшем случае снисходительно. Самолюбие Полонского было уязвлено, но он старался не подавать виду. Его привлекали сборища друзей у Григорьева, – тут собирались молодые философы и стихотворцы.
Аполлон Григорьев жил в Замоскворечье, в доме родителей. Он занимал в мезонине одну комнату, в другой поселился товарищ его, тоже студент, Афанасий Фет. Отчим Афанасия, помещик Шеншин, привез пасынка в Москву и договорился с родителями Григорьева, что Афанасий будет жить у них, за соответствующую плату, на полном содержании.
Фету запомнился московский дом Григорьевых – с плакучей березой перед окнами, «с постоянно запертыми воротами и калиткою на задвижке». Григорьевы держали корову, пару лошадей, имели свой экипаж. Мать Аполлона, по выражению Фета – «скелетоподобная старушка», властвовала в доме, подчинив себе слабохарактерного мужа. Фет вспоминает: «Хотя Аполлон наверху со мною жестоко иронизировал над догматизмом патеров, как он выражался, тем не менее по субботам сходил вниз по приглашению: „Аполлон Александрович, пожалуйте к маменьке голову чесать“, – и подставлял свою голову под гребень».
Но этот благонравный юноша действительно страдал от своих сомнений и душевных метаний. По воспоминаниям Фета, «Григорьев от самого отчаянного атеизма одним скачком переходил в крайний аскетизм и молился перед образом, налепляя и зажигая на всех пальцах по восковой свечке».
К Полонскому Фет относился иначе, нежели Григорьев. «Что касается меня, – вспоминает Фет, – то едва ли я был не один из первых, почуявших несомненный и оригинальный талант Полонского. Я любил встречать его у нас наверху еще до прихода многочисленных и задорных спорщиков, так как надеялся услыхать новое его стихотворение, которое читать в шумном сборище он не любил. Помню, в каком восторге я был, услыхав в первый раз»:
Мой костер в тумане светит;
Искры гаснут на лету…
Читал Полонский нараспев – почти гудел, читая.
Он еще не окончил первый курс, когда умерла его бабушка и пришлось ему искать в Москве другое пристанище. И, главное, надо было думать, как теперь себя прокормить.
На лето он укатил в Рязань, к отцу (мать умерла, когда Якову было всего десять лет). Осенью, к началу занятий в университете, он вернулся в Москву и остановился у своего товарища по гимназии Михаила Кублицкого. Кублицкий тоже перебрался из Рязани в Москву, но не стал поступать ни в университет, ни на службу. Он был сыном состоятельных родителей и собирался просто жить в свое удовольствие.
Постоянно проживать в квартире благополучного приятеля оказалось для Полонского неудобным. Наверное, даже тягостным. Надо было искать другое жилье. «И где, где я тогда в Москве не живал! – вспоминал он впоследствии. – Раз, помню, нанял какую-то каморку за чайным магазином на Дмитровке и чуть было не умер от угара… Жил у француза Гуэ, фабриковавшего русское шампанское, на Кузнецком мосту; жил на Тверской в меблированной комнате у какой-то немки… Выручали меня грошовые уроки не дороже 50 копеек за урок».
Но всякие бытовые невзгоды не слишком его беспокоили.
Он писал стихи, они уже заполняли его жизнь. Он мечтал представить их на суд известных, признанных литераторов. Надеялся, что его оценят, благословят на поэтический подвиг.
Познакомить его с литераторами взялся приятель, студент Николай Ровинский. Сначала – с поэтом Иваном Петровичем Клюшниковым. Известность Клюшникова была, правда, невелика. Он печатался в журналах, но редко. Стихи его звучали безрадостно:
Душа угнетена сомненьем и тоской:
Все прошлое нам кажется обманом,
А будущность бесцветной пустотой.
Жил он одиноко. У него было имение в Харьковской губернии, в Москве же он снимал себе комнату во флигеле чужого дома. Давал частные уроки – был домашним учителем, иного занятия не находил.
Полонского он принял радушно. К стихам молодого поэта отнесся внимательно, к нему самому – сочувственно. И, как признавал Полонский, Клюшников первый дал ему понять, «в чем истинная поэзия и чем велик Пушкин».
В журнале «Московский наблюдатель» обращали на себя внимание критические статьи Белинского, – он жил тогда в Москве. Вот с кем еще стоило познакомиться. «Помню, я послал ему стихи и письмо, – рассказывает Полонский. – Помню, как с Ровинским зашел к нему и как Белинский отнесся ко мне как к начинающему и мало подающему надежд мальчику (я и был мальчик). Белинский был сам еще лет 25 или 27 юноша – худой, невзрачный, с серыми глазами навыкате… Комнатка была небольшая, бедная (если не ошибаюсь, он квартировал на Арбате). Я был так огорчен невниманием Белинского, что чуть не плакал – и, кажется, послал ему письмо, где уверял его, что никто на свете не разубедит меня в моем поэтическом таланте…»
Белинский переехал из Москвы в Петербург и стал печатать статьи уже в петербургском журнале «Отечественные записки». Клюшников уехал в Харьковскую губернию – навсегда.
А в сентябре 1840 года Полонский впервые увидел свои стихи напечатанными в журнале. На страницах «Отечественных записок» появилось его стихотворение:
Священный благовест торжественно звучит —
Во храмах фимиам – во храмах песнопенье —
Молиться я хочу, – но тяжкое сомненье
Святые помыслы души моей мрачит…
Вместе с ним посещал университет студент Николай Орлов, единственный сын Михаила Федоровича Орлова – бывшего декабриста, лишенного права выезда из Москвы (участи других декабристов он избежал благодаря заступничеству брата, одного из приближенных царя). «В доме у Орловых, – рассказывает Полонский, – я стал как бы домашним человеком, т. е. мог приходить во всякое время и даже ночевать у их сына на постланном для меня диване».
Дом был просторный, двухэтажный; гостями здесь бывали самые замечательные люди в тогдашней Москве. Среди них выделялся немолодой человек с печальными светлыми глазами и голым черепом – Чаадаев. Автор запрещенных «Философических писем», Чаадаев уже долгое время лишен был возможности печататься или преподавать. Голос его был слышен лишь в узком кругу московских друзей.
В доме Орловых Полонский видел многих, восхищался блеском и свободой бесед в уютных гостиных. В нем же здесь, должно быть, видели милого юношу, сочиняющего милые стихи, только и всего.
В университете отличиться ему тоже не удавалось. В начале лета 1841 года он, к стыду своему, провалился на экзамене по римскому праву. И остался на третьем курсе на второй год…
Михаил Федорович Орлов посочувствовал молодому неудачнику и порекомендовал его князю Василию Ивановичу Мещерскому, который подыскивал домашнего учителя своим сыновьям. Князь согласился пригласить Полонского. Жалованье – пятьдесят рублей в месяц, для бедного студента просто благодать.
Новый домашний учитель провел лето в подмосковном имении Мещерских. Учил грамматике младших сыновей князя Василия Ивановича.
Один из старших сыновей, Александр Васильевич Мещерский, вспоминал потом о Полонском: «Это был молодой человек, весьма добрый, весьма общительный, но донельзя простодушный… Он писал стихи, посвященные моей сестре…» В сестру, княжну Елену, был безнадежно влюблен Николай Орлов. А что за стихи посвящал ей Полонский – неизвестно.
Полонскому запомнилось другое: «В их усадьбе застал я гувернера и учителя немецкого языка К. Б. Клепфера, еще далеко не старого немца, воспитанного на немецких классиках… Помню, что с помощью ученого Клепфера я переводил лирические стихотворения Шиллера и Гете».
Но не однажды бывал он удручен ощущением, что в поэзии пока не удается ему создать ничего действительно насущного, ничего такого, что в трудную минуту сам себе повторишь как спасительное заклинание:
…в душе опять тревога —
Про черный день нет песни у меня.
«На поэзию косилось наше университетское начальство, – рассказывает Полонский, – и когда я стал в „Москвитянине“ помещать стихи мои, я никогда не подписывал своей фамилии. Но шила в мешке не утаишь». Да он и не особенно таился.
Теперь он был вхож в дом профессора Шевырева, – Шевырев вел в «Москвитянине» литературно-критический отдел. В его доме, на именинном вечере хозяина, Полонский смог увидеть самого Гоголя – «застал Гоголя в кабинете лежащим на диване; он весь вечер не проронил ни единого слова. На все и на всех глядел он сквозь пальцы, прикрывая руками лицо свое. Около него ходили и двигались гости, и никто не решался обратиться к нему с каким-нибудь вопросом».
В доме Орловых, в начале 1842 года, Полонский впервые встретил молодого Ивана Сергеевича Тургенева. Обаятельный, остроумный, Тургенев только что приехал из Берлина, где он учился, и теперь обращал на себя общее внимание. Он еще не успел проявить себя как писатель, еще не решил целиком отдаться литературному труду и надеялся занять в университете кафедру философии. В Московском университете существовал философский факультет, но из намерений Тургенева ничего не вышло тогда…








