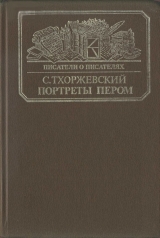
Текст книги "Портреты пером"
Автор книги: Сергей Тхоржевский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 31 страниц)
Дальше Полонский катил на почтовых, сидел на чемоданах, привязанных к повозке.
«Помню, какое тяжелое, безотчетно-неприятное впечатление произвел на меня серо-каменный Тифлис, когда я впервые въезжал в него [в жаркий полдень 25 июня], – рассказывает Полонский, – и живо помню, как вечером, в тот же день, я не мог налюбоваться им».
Он остановился в квартире Золотарева, но хозяина дома не застал. Полонский знал, что Золотарев еще зимой получил известие о смерти отца, уехал в Москву – и вот все еще не возвратился. И неизвестно, когда приедет.
«Тифлис очень картинный город… – писал Полонский Гутмансталям и добавлял. – Ужасно жарко – третьего дня было 46 градусов жары! – в глазах темнеет».
Чиновники и военные – все, кто имел возможность, – в летний зной уезжали из города.
Но Полонский должен был сразу надеть на себя служебную лямку. «Когда я поступил на службу и в первый раз проходил через канцелярию в кабинет директора Сафонова, я чувствовал к себе такое презрение… – вспоминал он впоследствии. – Слово начальникбыло мне невыносимо…»
Он сетовал в письме к Александру Бакунину и его подруге в Одессу: «Ехал я в Тифлис для того, чтобы, будучи помощником редактора, поднять „Закавказский вестник“. Одним словом, преобразить его. Но увы! – первое слово моего начальника Сафонова было: займитесь теперь статистикой Тифлиса, а потом статистикой Тифлисского уезда. „Вестник“ же пусть остается таким, как есть». Собственно, в редакции газеты Полонский должен был только держать корректуру, больше от него ничего не требовали. Впрочем, корректорский труд доставлял немало хлопот: «Здешняя типография меня мучит: наборщики – безграмотные и горькие пьяницы», – жаловался Полонский в письме Гутмансталю.
Тоска напала на него, и не с кем было душу отвести… Стихов он не писал со дня отплытия из Одессы.
Но вскоре познакомился он в Тифлисе с польским поэтом Тадеушем Лада-Заблоцким («он один посещал меня, читал мне, переводил мне стихи свои, и опять зажглась во мне неодолимая жажда высказываться стихами»).
Лада-Заблоцкий был ссыльным – уже восемь лет вынужденно провел на Кавказе и все эти годы тосковал по родным краям.
Год назад в далеком Петербурге друзья Лада-Заблоцкого издали сборник его стихотворений, собрав, как водится, по подписке деньги на это издание. Среди тех немногих, кто подписался в Тифлисе, была вдова Грибоедова Нина Александровна, урожденная Чавчавадзе. Значит, Лада-Заблоцкого она знала. В примечании к одному из стихотворений в его книге сообщалось, что храм святого Давида (на горе Мтацминда) Грибоедов называл «поэзией Тифлиса», – наверно, Лада-Заблоцкий услышал об этом от Нины Александровны.
И не лишено вероятности, что именно он при ближайшей возможности (в первой половине июля) познакомил с ней Полонского. Но где и как – этого, к сожалению, не знаем.
Полонский написал большое стихотворное письмо Льву Сергеевичу Пушкину, озаглавленное «Прогулка по Тифлису». Перо его нарисовало живейшую картину жизни тифлисских улиц и собственные первые впечатления:
…на дворе
Невыносимо жарко. – Мостовая,
Где из-под ног вчера скакала саранча,
Становится порядком горяча
И жжет подошву. – Солнце, раскаляя
Слои окрестных скал, изволит наконец
Так натопить Тифлис, что еле дышишь,
Все видишь не глядя и слушая не слышишь;
Когда-то ночь придет! – дождемся ли, творец! —
Вот ночь не ночь – а все же наконец
Пора очнуться. – Тихий, благодатный
Нисходит вечер…
Закатывается солнце, поэт стоит на склоне горы, чуть поднявшись над городом:
Мне виден замок за Курою…
И мнится мне, что каменный карниз
Крутого берега, с нависшими домами,
С балконами, решетками, столбами,
Как декорация в волшебный бенефис,
Роскошно освещен бенгальскими огнями.
Отсюда вижу я – за синими горами
Заря, как жертвенник, пылает и Тифлис
Приветствует прощальными лучами.
По его письменной просьбе Золотарев еще в мае посетил в Москве дом доктора Постникова и познакомился там с хозяином и с сестрами Марией Полонской и Соней Коризна, «славною, милою и теперь обворожительною» – так отозвался о ней Золотарев. И рассказывал в письме: «Недавно с ними обеими пробродил я целый вечер в чаще сосновой Сокольнической рощи. Много вас поминали. Зверинцу, кажется, не суждено уменьшаться». Знал он со слов Полонского, что поклонников своих Соня называла зверинцем.
В июле Золотарев прислал письмо: «Вчера виделся в Сокольниках с Софьей Михайловной и сообщил ей о приезде Вашем в Тифлис, она надула свои чудные румяные губки и отвечала мне: зачем вы утащили его так далеко? Я отвечал, что не я, не мы, а „могучий бог ведет его далёко!“»
Позднее Золотарев писал о ней: «С. М. Вас помнит и вспоминает не без особенного чувства. Не к ней ли относится последний стих Грузинки?»
Стихотворение Полонского «Грузинка» было напечатано в начале августа в тифлисской газете «Кавказ». Кончалось оно так:
Ее любовь – мираж среди пустынных
Степей: не утоляет жажды в зной
И не врачует ран старинных!
Осенью Полонский послал Золотареву письмо, попросив показать это письмо Соне. Золотарев так и сделал. И, в свою очередь, попросил ее написать ответ.
Ах, какое письмо получил от нее Полонский!
«…Как живо сохранила я воспоминания о вас, как необходимо мне теперь верить в чувство вашей дружбы… Ваше письмо напомнило мне прошедшее, в котором я так полно жила душою, – тогда, как вы учили меня читать в моем сердце, анализировать мои мысли, учили не верить самой себе – а несмотря на то, я верилав то время… Два года прошло с тех пор – переменилась ли я за эти два года? Не могу или не смею отдать себе в этом отчета…
О, приезжайте! Теперь как много бы я желала слышать от вас… Скажите, вы не забыли меня? Не забыли наших вечеров в саду и на красном диване? Нашей прогулки в Покровском? Не забыли того вечера, когда вам так хотелось уйти, а мне так хотелось, чтобы вы остались?»
Нет, сейчас выехать из Тифлиса он не мог. Связан был службой, и денег на дальнюю поездку у него не было.
Ненадолго приезжал в Тифлис по служебным делам Николай Орлов. «Я чуть-чуть с ним не поссорился, – рассказывал Полонский в письме Гутмансталям, – он хочет быть другом, а не умеет уважать во мне человека…В обществе моих сослуживцев, как ему, так и мне мало знакомых, он назвал меня милый балбес —и вообще был слишком глупо и некстати откровенен вслух. Когда все ушли, я кротко заметил ему, что такое обращение со мной может повредить мне во мнении людей, которые вовсе меня не знают, – он расхохотался, назвал меня сумасшедшим, по своему обыкновению, и сказал, что по дружбе он может назвать меня как ему угодно! Я вспыхнул и сказал, что на такую дружбу, которая все себе позволяет, я плюю…Он обиделся и ушел. Дня через два об нашем разговоре не было и помину – мы расстались как хорошие приятели!!!»
«К 1 сентября я готовлю статистику Тифлиса, – сообщил Полонский в другом письме Гутмансталям. – Смех и горе! Из официальных бумаг видно, что ни одной цифры верной, что никто, даже сам князь Воронцов не знает, сколько здесь жителей».
Полонский готовил статистический очерк Тифлиса для «Кавказского календаря на 1847 год».
Он любил бродить по городу. Заглядывал на базары, в духаны, в караван-сараи, посещал знаменитые серные бани. Ему нравились живописные тифлисские сады, виноградники, сакли с плоскими кровлями. На этих кровлях вечерами танцевали девушки – грузинки и армянки – в национальных костюмах.
Повседневная жизнь коренных жителей Тифлиса оказалась куда живее, колоритнее быта приезжих чиновников с обычной картежной игрой по вечерам.
«Мои товарищи [по службе], – писал Полонский Александру Бакунину, – …почти все свободное от службы время просиживают за картами. Я не играю. Разговоров почти никаких, кроме городских пересудов, полученных чинов и орденов… Я слыву оригиналом».
«Мечтать мне некогда, – писал он Гутмансталям, – мне, изволите видеть, поручено составление статей: а) об иностранных семенах, посеянных в Закавказском крае, б) о хлопчатнике, в) о разведении табака и о шелкомотальных машинах. Стол мой завален кучами бумаг и переписки нашей канцелярии с департаментом сельского хозяйства, притом я держу корректуру Вестника, – итак, думать, мечтать мне нет времени…»
Близких друзей рядом не было. Золотарев все еще оставался в Москве. Лада-Заблоцкого услали в селение Кульпы за рекой Араксом, у турецкой границы, назначили управляющим кульпинским соляным промыслом. В феврале он писал оттуда одному приятелю в Тифлис, что живет «воспоминаниями прошедшего, потому что в настоящем только заботы, скука и тоска. У нас еще жестокая зима – снег лежит по колено».
А в Тифлисе никакого снега не было.
Получил Полонский письмо от сестры. Она побывала в Москве и, вернувшись домой в Рязань, написала брату не без едкости: «…видела Евгению Сатину, только, тебе откровенно сказать, я ожидала лучше по твоему описанию. Но я в ней ничего привлекательного не нашла».
Теперь эти слова не могли задеть его за живое. Затронули в нем грустное воспоминание – и только.
Позднее получил он – не ожидая – письмо из Москвы от Кублицкого. Тот, как ни в чем не бывало, написал: «Вот уже с лишком три года, как мы с тобой не только не видались, но даже не обменялись письмами». И дальше рассказывал о своем путешествии за границу.
Весною 1847 года Полонскому дано было служебное предписание объехать «для собрания статистических фактов» обширный Тифлисский уезд. Он с радостью согласился.
Выехал 11 апреля. Сначала в восточную часть уезда – Сартичальский участок. Вернувшись к концу месяца, рассказывал в пространном письме к Александру Бакунину: «…верхом я уже объездил верст 300, объездил вдоль и поперек весь Сартичальский участок; посещал каждую деревню. Едва не потонул в реке Иоре – ночевал в пещерах – голодал – в Караязской степи ел с пастухами печеные на угольях какие-то грибы – проклинал азиатские седла, которые изломали мои ноги своими короткими стременами». Правда, не столь были коротки стремена, сколько он долговяз и длинноног. Он писал далее: «Поверишь ли, друг Александр, что Полонский собирал гербариум, навез с собой разных камешков, вывез образцы отсадков соли, найденной им по берегам некоторых ручьев, – красной глины, – что Полонский осматривает нефтяные колодцы, срисовывает плуги, серпы и так далее». Кстати, рисовал он очень неплохо.
Вернувшись в Тифлис, он уже дня через три снова отправился в путь. Теперь уже на юг, в Борчалинский участок. С ним вместе, тоже верхом, ехал армянин-переводчик, знавший не только армянский, но и татарский (вернее сказать, азербайджанский) язык.
Полонский рассказывал потом, как они переправлялись вброд через реку Храми. Река в это время разлилась, так что терялся из виду противоположный берег. Путникам дали провожатого – «татарчонка на серой кляче». Лошади вошли в быструю воду. «Не успел я приподнять к седлу ног, как лошадь моя пошла по грудь в воде и мои сапоги наполнились водою, – рассказывает Полонский. – …Долго мы ехали в воде, медленно подвигаясь, потому что лошади имеют здесь похвальное обыкновение щупать дно копытами». Выбрались наконец на другой берег, поехали цугом. «Направо и налево – в тумане зеленели низменные сады – татарские деревни. Час-два скакали мимо и доскакали до другой речки, называемой Дебет».
Дальше Полонский и его переводчик двинулись вверх по течению Дебета к Санаинскому мосту, затем к крепости Джелал-оглу и далее – до турецкой границы.
Встретились на пути селения русских сектантов-духоборов, выселенных в эти края. Полонский потом вспоминал, что ему «случалось не раз пользоваться гостеприимством и ночевать у духоборов в их чистых выбеленных мазанках… В этих мазанках было просторно и все отличалось необыкновенной опрятностью. Когда я бывал у них, пол был посыпаем свежей травой и полевыми цветами».
Сколько было незабываемых впечатлений…
«Однажды, – вспоминает Полонский, – …верстах в 40 от Тифлиса, в деревне Демурчасалы, в знойный день остановился я под навесом духана, разостлал бурку, лег, утомленный долгой верховой ездой, и стал дремать; вдруг слышу звуки чунгури и, наконец, тихое жалобное пение, которое, превратившись в раздирающий крик, заставило меня поднять голову: в десяти шагах от меня, под тем же навесом, лежали три старика, и перед ними, на камне у столба, сидел ашуг, молодой татарин, и перебирал металлические струны. Никогда не забыть мне выражение лиц этих дряхлых слушателей: казалось, они дремали, но, приподнимая отяжелевшие веки, изредка поглядывали на меня, разделяю ли я с ними наслаждение – слушать такого певца, такие сладкие песни».
Месяцем позже Полонский оказался «среди татарского кочевья» на зеленых холмах близ Тапараванского озера. Вечером, когда стемнело, он забрался в войлочную юрту и лег. У открытого входа в юрту человек двадцать – в ожидании чая – «сидели, поджавши ноги, на мокрой траве и с каким-то благоговейным торжественным молчанием, при свете мерцающих звезд», слушали певца – пение, «сопровождаемое звуками чунгури».
И Полонский, до сей поры не воспринимавший этих странных для его слуха мелодий, вдруг почувствовал их своеобразную красоту, – «среди безмолвия пустыни, по соседству облаков, отдыхающих со мной на одном уровне – у подошвы тех же гор, – рассказывал он потом, – …я не желал в эту ночь ни лучшего певца, ни лучшей музыки. До сих пор помню косматые шапки незваных гостей моих, которых черные профили, с трубочками в губах, рисовались в темносинем, ночном, прозрачном и холодном воздухе».
В июне, когда он был в селении Белый Ключ (Аг-Булаг), до него дошел слух, что в Тифлисе холера.
Вернулся Полонский в августе – эпидемия в городе уже прекратилась. Узнал он, что в Кульпах умер от холеры бедный Лада-Заблоцкий.
Полонский съездил еще, также верхом на лошади, в северную, наиболее гористую часть Тифлисского уезда – Душетский участок. Он потом рассказывал: «Я ночевал в 7 верстах от Душета, в грузинском селении… После утомительного жаркого дня – ночь была свежа и, несмотря на то, что месячный серп светил в небе, так темна, что в десяти шагах трудно было отличить кучу хвороста от задремавшего буйвола. По сторонам, в сумраке лесистых гор, мелькали костры пастухов; тихий ветер дул со стороны Мухранской долины и доносил отдаленный лай собак, стерегущих виноградники».
В середине сентября, все закончив, Полонский вернулся в Тифлис.
Все порученное старался он исполнить, но «со статистическими цифрами сладить не мог – чем больше собирал их, тем больше терял к ним доверие. Так, например, не только количество лошадей, но и количество пасущихся табунов и стад узнать не было никакой возможности. Сами участковые начальники, посмеиваясь, откровенно сознавались мне, – рассказывает Полонский, – что цифры, предъявляемые ими в отчетах, писаны ими просто наобум – как вздумается… Стало быть, надо было или официально лгать, приводя эти цифры, или от них отказаться». Чиновники предпочитали официально лгать.
Наверно, местные жители имели основание подозревать, что цифры эти нужны для взимания налогов, и понятно, что подлинные цифры называть никто не хотел.
Наконец вернулся в Тифлис Иван Федорович Золотарев.
«Я на новой квартире, – писал Полонский Гутмансталям, – мой кабинет по соседству с кабинетом Ивана Федоровича, дверь не запирается, и мы часто друг с другом видимся».
Полонский сочинял звучные стихи, печатал кое-что в «Закавказском вестнике» и «Кавказе» и привыкал к Тифлису. И не только привыкал – он уже любил этот город и этот край. Стихи его здесь обрели новые краски и новую силу.
Золотарев стал замечать, что Полонский под разными предлогами норовит как можно меньше бывать на службе в канцелярии наместника. Догадываясь, в чем дело, Золотарев однажды оставил записку: «О Яков, Яков, безалаберный, беспутный, влюбленный, рассеянный поэт, фельетонист, рисовальщик! Вчера ушедший ради фельетона, теперь сидящий над корректурою. Ты меня не надуешь… Ты или влюблен без памяти, или…»
В предместье Тифлиса Сололаках Полонский повстречал молодую армянку Софью Гулгаз, женщину замужнюю и в то же время без мужа: старый пьяница, он куда-то исчез из Тифлиса, и не было о нем ни слуху ни духу. Историю ее жизни Полонский узнал довольно подробно и впоследствии описал в рассказе «Тифлисские сакли», где Софья выведена под именем Магданы. Вот ее портрет: «Как черный бархат, ее глаза не имеют в себе почти никакого блеска и опушены длинными, кверху загнутыми ресницами… Зубы ее, ровные, как подобранный жемчуг, сверкают необычайной белизной всякий раз, когда она смеется, а посмеяться под веселый час она большая охотница, особливо когда дешевое грузинское вино заиграет жарким румянцем на щеках ее… Немного резкое очертание правильных, почти античных губ придает лицу ее выражение чего-то смелого, даже дерзкого; но это выражение совершенно исчезает, когда она весела или просто улыбается… Голос Магданы иногда тих, даже вкрадчиво нежен, иногда, напротив, так же груб, как у разгневанного мальчика». Она умела объясняться по-русски, причем усвоила – неизвестно от кого – поговорку: «Чума возьми!»
Женщина эта была страстная, зажигательная. Сама приходила к Полонскому в его холостяцкую квартирку. Темные летние ночи в комнате с открытыми окнами были упоительны и прекрасны. Утром, когда Софья еще спала нагишом на постели, он брал карандаш и рисовал ее на листах своего альбома.
Однако вообразить ее своей женой Полонский не мог. И не был уверен в том, что Софья не изменяет ему. Записал в альбоме: «Она говорит мне – я ваша!..А кто знает – кто владеет ею в иные минуты, где она уверена, что тот, кому она отдает себя, не следит за ней». Потом оказалось, что его подозрения не напрасны. «Я ревновал к тебе потому, что любил, и потому, что имею причины ревновать, —написал он ей. – …Дай бог тебе еще лучшего друга, нежели я, – одним словом, такого, который бы все переносил от тебя с терпением, к чему я не способен, и давал бы тебе больше денег, чего я не в силах… Если ты успела в эти две ночи с досады на меня продать себя – ради создателя, не ходи больше ко мне, не мучь меня… Будь счастлива, весела и спокойна».
Софья нашла себе нового любовника – инженерного офицера Игнациуса. Случилось однажды, что приятель Игнациуса зашел к Полонскому домой и «чуть было не застал Софью Гулгаз, но она убежала и спряталась на чердаке».
Приезжал в Тифлис художник Тимм – он издавал в Петербурге «Русский художественный листок», много путешествовал и всюду, где бывал, делал зарисовки для своего издания. Полонский с ним познакомился. Тимм хотел набросать карандашом или пером портрет самой красивой женщины Тифлиса, и Полонский предложил ему нарисовать Софью Гулгаз.
Но, хотя она неизменно казалась поэту самой красивой в Тифлисе, красота ее не была уже для него всечасной необходимостью. Он написал уже такие стихи:
Не ты ли там стоишь на кровле под чадрою,
В сиянье месячном?! – Не жди меня, не жди!
Ночь слишком хороша, чтоб я провел с тобою
Часы, когда душе простора нет в груди…
В конце 1849 года удалось ему напечатать в тифлисской типографии сборник стихотворений «Сазандар». В предисловии к сборнику он написал:
«…В состав этой маленькой книжки вошло всего только двенадцать стихотворений, которые появлением своим на белый свет обязаны не столько мне, сколько пребыванию моему за Кавказом, преимущественно в Грузии.
Других моих стихотворений я не хотел с ними смешивать.
Посвящаю книжку мою всем тем, кто знает Грузию…
Приступая к изданию Сазандаря в Тифлисе, я ограничиваю число экземпляров числом подписчиков и вдобавок числом моих добрых знакомых.
Без всяких притязаний на литературную известность – я буду рад, если стихи мои своими незатейливыми звуками способны будут разбудить хоть одно воспоминание о крае – в душе тех, кому я посвящаю их».
В начале лета 1850 года Полонский взял отпуск и решил поехать в Крым. Он чувствовал себя неважно, к тому же он был мнителен, и всякое недомогание наводило его на мрачные мысли.
По дороге, в Редут-Кале, получил он посланное вдогонку письмо Золотарева: «…два-три месяца в Крыму, среди спокойной, устроенной жизни, при морском купанье, совершенно восстановят твое здоровье, и ты осенью воротишься к нам молодец молодцом… Если у тебя началась болезнь позвоночного столба, то причиною тому твоя невоздержанность твоею тифлисскою красавицею да безалаберная жизнь, обращавшая ночь в день и дни в ночи».
Из Редут-Кале Полонский доплыл на пароходе до Ялты.
Остановился он в двух верстах от Ялты, в Массандре, в имении князя Воронцова. Из Массандры в Ялту совершал ежедневные прогулки пешком.
«Когда ветру нет и море не бурлит – с одного конца Ялты можно ясно слышать, как на другом конце города стучат копыта, гремит неожиданный экипаж или приезжий громко спрашивает, где гостиница». Таким запомнился Полонскому этот тихий городок.
В Ялте отдыхал тогда Лев Сергеевич Пушкин. Они встретились. Полонский впоследствии вспоминал: «…на террасе, в полночь, я читал ему стихи свои Звезды,которые ему очень нравились (но что это были за стихи, не помню). Он был очень светский человек, очень смешливый – и любил смешить – особливо дам, – немножко был циник, раз, при мне, в Крыму, читал княгине Урусовой Царя Никитусвоего брата… (молодой Пиляр-фон-Пильхау за нее краснел, а она холодно смотрела на Пушкина и по временам как бы про себя восклицала: какие глупости!)»
Лев Сергеевич был уже неизлечимо болен: доконал его алкоголь. Вскоре он уплыл на пароходе в Одессу.

Этим же летом в Ялте Полонский увлекся некоей мадам де Волан. Но знакомство оказалось кратким, увлечение – мимолетным. Уже в конце августа Полонский провожал эту даму на пароход – она возвращалась в Одессу. Прошел следом за ней в каюту, и получилось так, что он не слышал гудков и не заметил, как пароход отчалил от пристани. Когда Полонский спохватился, было уже поздно – пароход вышел в море…
В Одессу Полонский прибыл, таким образом, нечаянно. Без билета и без денег.
Он зашел на Дерибасовскую к Льву Сергеевичу – тот был очень слаб, но бодрился. Сказал молодой жене своей: «Пожалуйста, обо мне не молись: напомнишь обо мне богу – чего доброго, пристукнет». Подарил Полонскому на прощание портфель своего покойного брата Александра Сергеевича Пушкина.
Задерживаться в Одессе Полонский не мог. Занял у знакомых денег на дорогу. Успел познакомиться с поэтом Николаем Щербиной и молодым беллетристом Григорием Данилевским. Франтовато одетого Щербину можно было встретить на Приморском бульваре, с ним пол руку прогуливался Лев Сергеевич – неуверенной походкой больного.
Данилевский оказался попутчиком Полонского до Ялты на пароходе «Тамань».
«На пути мы вынесли сильный шквал, половину пассажиров укачало, – вспоминал потом Данилевский. – В Ялте Я. П. Полонский, остановившись со мной в одной гостинице, прочел мне и вписал карандашом в мою памятную книжку новое свое стихотворение „Качка в море“».
Полонскому еще предстоял путь по морю до Редут-Кале.
Осенью в Тифлисе он заканчивал свое первое объемистое сочинение-драму «Дареджана, царица Имеретинская» в пяти действиях.
Замысел драмы возник у него еще в начале года. Случилось ему прочесть мемуары французского путешественника Шардена, который приезжал на Кавказ более ста лет назад. И вот, «читая Шардена, наткнулся я, – рассказывает Полонский, – на презамечательное описание имеретинского двора того времени и тогдашних интриг придворных, которые все почти вращались около единого центра – центром этим была красавица царица Дареджана, коварная, страстная и властолюбивая. Вся жизнь ее – ряд злодейств, обманов и приключений, – из одной такой жизни, казалось мне, можно выкроить целых три трагедии – и я решился выкроить хоть одну для нашей– т. е. для тифлисской сцены».
Минувшим летом, проезжая через Имеретию и главный город ее, Кутаис, увидев древний Гелатский монастырь, Полонский живо представил себе события, которые хотел воссоздать для сцены. И новые стихи его «Над развалинами в Имеретин» были подступом к этой теме, в них смутно, «как рой теней», возникали герои давних событий и его будущей драмы:
Когда на листья винограда
Слетала влажная прохлада
С недосягаемых вершин;
Когда вечерний звон Гелата
В румяных сумерках заката,
Смутив пустыни грустный сон,
Перелетал через Рион —
Здесь на кладбищах, позабытых
Потомством посреди долин,
Во мгле плющами перевитых
Каштанов, лавров и раин,
Мне снился рой теней…
Драму свою Полонский писал далеко не столь звучными стихами, без рифмы, и то, что получалось, больше походило на прозу.
Он надеялся напечатать драму в петербургском или московском журнале, получить за нее хороший гонорар и на вырученные деньги съездить в Москву, а затем в Петербург, где еще ни разу не довелось побывать.
Неожиданно появился в Тифлисе старый приятель его Николай Ровинский и вместе с ним художник из Петербурга Александр Бейдеман. Оказалось, они путешествовали до Эривани, теперь возвращаются, и деньги у них вышли все до единой копейки.
Полонский пригласил их остановиться у него на квартире. И отдал им свое месячное жалованье – восемьдесят рублей.
«Странствующий художник Бейдеман собрался наконец в дорогу – и напяливает длинные сапоги… – писал Полонский в письме к Данилевскому 7 декабря. – Чудная теплая ночь – такая ночь, каких, быть может, в декабре и не бывает на севере, придает им (т. е. ему и Ровинскому) нечто вроде бодрости. Дай бог им достать денег доехать до Питера». Ясно было, что на долгую дорогу до Петербурга восьмидесяти рублей не хватит.
«В наш город прибыл известный русский литератор граф Соллогуб, – сообщила в феврале 1851 года газета „Кавказ“, – высочайшим повелением назначенный состоять по особым поручениям при его сиятельстве князе наместнике».
Какие же особые поручения мог возложить на литератора-аристократа наместник? В Тифлисе, по распоряжению Воронцова, строилось на Эриванской площади здание театра, и вот директором будущего театра был теперь назначен граф Соллогуб.
Когда это здание было готово, уже в апреле, «последовал день его открытия, – рассказывает Полонский. – День или, лучше сказать, вечер этот открылся многолюдным, торжественным и блестящим балом – сцена и партер составляли одну залу, фантастически расписанную, с голубым потолком… Музыка гремела, но почти никто не танцевал – были только национальные пляски в присутствии князя наместника… Между прочим, в этот вечер, на этом празднике граф Соллогуб прочел стихи мои, написанные по случаю открытия театра, – какие стихи – извините, не помню ни единой строчки». Стихи эти «были встречены тифлисской публикой с большим сочувствием. Не ожидая таких рукоплесканий, я ушел, но на улице был пойман, как преступник, снова введен в залу, и князь наместник со свойственною ему улыбкою пожимал мне руку, снисходительно за эти стихи поблагодарил меня. Полагаю, что стихи эти не стоили никакой благодарности…»
Полонский подумал, что теперь-то его драма сможет появиться на сцене нового театра. Он с готовностью читал «Дареджану» всем, кто соглашался его слушать.
«Я читал мою драму по приглашению Нины Александровны Грибоедовой, вдовы нашего знаменитого Грибоедова, в доме брата ее князя Чавчавадзе – при гостях, приглашенных не без выбора, – и читал, если не ошибаюсь, с успехом. Читал ее и в доме самого наместника…
Да простит мне Аллах мою неопытность – в успех драмы на тифлисской сцене я верил, как Магомет верил в свои галлюцинации.
Но чтоб она могла быть на сцене, нужно было добиться разрешения.
Наместник имел право разорить любую неприятельскую область, построить театр или крепость, не спрашиваясь, но поставить пьесу на сцене не спросясь не имел права!
Искать разрешение нужно было в Питере…»
Он решил взять отпуск – и в путь!
Только что вышла в Тифлисе, тиражом в триста экземпляров, его новая книжка, озаглавленная просто «Несколько стихотворений». Ничего он на ней, конечно, не заработал. Но зато прислал денег отец, который давно уже звал его – хоть ненадолго – в Рязань, и Яков обещал приехать, когда будет возможность. Отец, посылая деньги, писал: «…вполне уверен, что ты, мой друг Яшенька, не изменишь своему слову, с получением их распорядишься об увольнении в отпуск…»
Отпуск он получил. Выписали ему подорожную: «От Тифлиса в Рязанскую, Московскую губернии и в С.-Петербург и обратно чиновнику канцелярии наместника кавказского титулярному советнику Полонскому…»
Выехал он 25 мая по Военно-Грузинской дороге.
Неприступный, горами заставленный,
Ты, Кавказ, наш воинственный край,
Ты, наш город Тифлис знойно-каменный,
Светлой Грузии солнце, прощай!
Впрочем, он рассчитывал вернуться.








