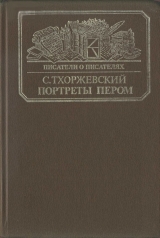
Текст книги "Портреты пером"
Автор книги: Сергей Тхоржевский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 31 страниц)
Не наслажденье жизни цель,
Не утешенье наша жизнь.
О! не обманывайся, сердце.
О! призраки, не увлекайте!..
А. С. Грибоедов
Снова он в Буюк-Дере. Совсем рядом, в Константинополе, свирепствует чума, поэтому служащие посольства соблюдают строжайшую изоляцию. Без крайней необходимости никто не покидает здания посольства и огражденного решеткой сада.
Бутенев принял Теплякова холодно – словно бы начисто забыв, что сам же ему написал: «…буду очень счастлив предложить Вам все возможное содействие…» Теперь становилось ясно, что эта фраза в письме была ничего не значащей вежливостью дипломатического чиновника, пустыми словами, о которых странно было бы напоминать. Бутенев сказал, что не может предложить ему сейчас никакого дела, никакого занятия. Все дела распределены между служащими согласно их должностям, а какая должность у Теплякова? Никакой. Ну, значит, ему и делать нечего.
Расстроенный, раздосадованный, он написал о своем положении графине Эдлинг.
Она отвечала 25 сентября: «Пользуюсь отходом парохода, чтобы ответить на Ваше первое письмо из Константинополя… Боюсь, чтобы Вы там не выказали свой дурной нрав, что ни к чему хорошему не поведет… Я разделяю мнение Вашего друга Р. [Розберга?], что дипломатия вовсе не Ваш удел, но нужно было с чего-нибудь начать».
Оказывалось – начинать не с чего! В письме в Петербург, секретарю князя Голицына Гавриилу Степановичу Попову, Тепляков объяснял, почему в посольстве не понимают цели его прибытия: «Записка [от Родофиникина]? Все, что в ней заключается, возложено на саму миссию. Разыскания? Делайте что хотите. Дипломатические занятия? Здесь больше дельцов, нежели дела. – Вследствие таковых умствований мне не дано квартиры в доме посольства, а квартиры в здешних местах дороже всего на свете». Что же ему остается делать – «при незнании туземных языков и при бесконечной трудности сообщения по милости свирепствующей безраздельно заразы» – здесь, на берегу Босфора?
В другом письме к Попову Тепляков сообщал: «В Петербурге гневались на меня за просьбы прояснить положение; здесь несравненно пуще гневаются за то, что ничего положительного на мой счет не предписано, и, объясняя мое назначение только необходимостью удовлетворить ходатайству моих покровителей, отказывают мне в самом необходимом участии. Не говоря уже о моем совершенном отчуждении от общего хода дел, даже самый архив посольства, известный каждому переписчику, скрыт от меня, как от недипломатическогочиновника… При вечном титулярном советничестве – скажите сами, ужель не лучше всего этого, по примеру онегинского дядюшки»
В какой-нибудь глуши забиться,
Зевать и с ключницей браниться,
Смотреть в окно и мух давить?
И если он определенно не нужен константинопольской миссии, нельзя ли попросить, чтобы его перечислили в другое посольство, где для него найдется дело, – куда-нибудь в Европу?
В такой близкий Константинополь (от Буюк-Дере три часа на лодке по Босфору) нельзя было носу показать – из-за чумы. Европейцы тут с нетерпением ждали холодов, которые должны были остановить распространение заразы. Мер против эпидемии в городе не принималось почти никаких. Умирало по нескольку тысяч человек в неделю. Мусульманское население Стамбула надеялось лишь на то, что «Аллах керим» – бог милостив, а если суждено умереть, то никакие меры предосторожности не спасут. Многие жители выписывали на своих дверях подходящий стих из Корана и на этот стих уповали.
Прусский офицер Мольтке, приглашенный в Турцию для обучения солдат султана, записал в дневнике, что батальонный бимбаши (командир) «Ввел было всевозможные меры предосторожности, но солдаты подчинялись им крайне неохотно, и вскоре пришлось ограничиться лишь стихом из Корана, прибитым к стене казармы». Мольтке записывал далее: «Носильщики относят на своей спине больных в госпитали и мертвых на кладбища, где хоронят даже без гроба… Случается иногда, что собаки выкапывают труп». Бродячих собак здесь было множество, их не кормили, но никогда не трогали. Когда же слухи о том, что собаки грызут трупы чумных, дошли до обитавших в Константинополе европейцев, они стали пристреливать собак, и это вызвало бурю возмущения среди мусульман…
В декабре Тепляков писал князю Голицыну из Буюк-Дере: «Все сообщения прерваны по случаю распространения заразы, сила которой, после чумы 1812 г., положительно беспримерна, и я должен был, как и все [в посольстве], подчиниться предохранительным мерам, строгость которых приводит все мысли в состояние, среднее между жизнью и смертью».
Наконец, благодаря наступившим долгожданным холодам, эпидемия стала ослабевать.
Но в домах у берегов Босфора, как и повсюду в этих краях, не было настоящих печей, и Тепляков начал попросту замерзать в своей квартирке. Он рассказывал в письме к Одоевскому: «Когда черноморский [то есть северный] ветер вздул и начал добрасывать до самых окон разгулявшиеся волны Босфора, моя бедная хата завыла истинно Эоловой арфою, и целые легионы крыс запрыгали над головой [на чердаке] под ее погребальную музыку. Призванный на помощь железный камин начал попеременно переселять меня от экватора к полюсу и, даря ежедневно то угаром, то насморком, принудил оставить себя в покое».
К февралю нового, 1837 года Тепляков решился переселиться в Перу, что сделал бы раньше, если бы не чума.
Из России дошло до него известие о смерти больного отца, затем – совершенно неожиданное известие о смерти Пушкина – после дуэли…
«Так, нет уже на земле нашего Пушкина! – горестно восклицал он в письме к Жуковскому в Петербург. – Душа кипит негодованием, и кровью обливается сердце при мысли, каким образом и кем похищена подобная жизнь у гордившегося ею отечества!» И еще – в письме к Одоевскому: «А Пушкин-то, наш несравненный Пушкин! Sic transit gloria mundi! [Так проходит слава мира!]»
Жуковскому он написал еще, конечно, о чуме, об изматывающей необходимости постоянных предосторожностей. «Присоединив к этому неизобразимые лишения всякого рода вместе с непроницаемыми потемками моего здешнего назначения – истинной мистификацией для других и для меня самого, могу ли я не сознаться, что жажда ученых исследований начинает мало-помалу сменяться в душе моей тоской по отчизне…Нет, конечно, сомнения, что здешний край, средоточие всех современных вопросов, представляет уму, и в особенности уму русскому, равно богатую жатву, но ключ от совокупности причин и событий бесследно скрыт от непосвященных» —то есть таких, как он, Тепляков, чувствующий себя в посольской колеснице пятым колесом.
Уже ясно видел он – и писал о том Плетневу: «Восток в поэмах лорда Байрона и Восток нагой существенности, Восток в глазах мимолетного странника – и тот же самый Восток для прикованного к нему чинодеяразнятся друг от друга».
Он уже испытал первый приступ разочарования. Романтическая дымка рассеивалась в его глазах, открывалась «нагая существенность», проза.
«Нет ничего более жалкого, чем высшее общество этой страны, – утверждал он в письме к графине Эдлинг. – Главная забота их жизни в том, чтобы никогда не быть,а всегда казаться,и это – в манере столь же безвкусной, как и банальной. Хитрые и нелюбезные, как правило – торгующиеся, встающие на ходули перед атомами так же, как и перед теми, кто таковыми не является…»
«Высшее общество этой страны» он мог видеть на приемах в посольстве. А может быть – и в других местах.
В посольстве его положение оставалось фальшивым и тягостным: «Существуешь как будто не существуя… Прощай и поэзия, и тот внутренний мир, в который не смею более заглядывать из боязни не овладеть им снова, потому что никогда моя душа не была поражена более полной ничтожностью. Но довольно обо всех этих неудачах. Поговорим о другом. О фатум! Почему я, самое бесполезное изо всех созданий, не погиб лучше на месте Пушкина, славы и чести своей родины. Следует заметить, что дипломаты сговорились обвинять самого несчастного в его смерти».
Ну, еще бы! Не отличался Пушкин сдержанностью и терпением, не вел себя по правилам дипломатии, потому-то Бутенев и ему подобные считали, что поэт сам виноват.
Бутенев выписывал – и посольство в Буюк-Дере получало – петербургские журналы, так что Тепляков, конечно, уже прочел в «Современнике» отзыв покойного Пушкина о его книге стихов. Радовался похвале и не мог обижаться на критические замечания, столь они были справедливы.
Не знал он, что на рукописном листе с отзывом о его книге Пушкин по памяти нарисовал пером его портрет – легкий и выразительный контур – упрямый лоб и нос картошкой.
Теплякову, наверно, уже переслали одну книгу английского автора, в переводе на французский, с драгоценной надписью: «Поэту Теплякову от поэта Пушкина. В 1836 25 сентября С.П.Б. [Санкт-Петербург]».
Книга эта была романом Томаса Хоупа «Анастазиус, или Мемуары грека, жившего в конце восемнадцатого столетия». Роман имел безусловно познавательную ценность: автор много путешествовал и включил в книгу подробное описание Константинополя и других городов Востока. Так что она стала не просто подарком, но проявлением товарищеской заботы: Пушкин предполагал, что эта книга Теплякову весьма пригодится… И, наконец, слова «поэту от поэта» – как это Пушкин по-братски написал!
Но вот получены были посольством в Буюк-Дере две новые книжки, декабрьская и январская, журнала «Библиотека для чтения». Издатель его и постоянный критик Сенковский отзывался о стихотворениях Теплякова иначе, нежели Пушкин. В декабрьской книжке, в крохотной статейке "О белых страницах" Сенковский с откровенной насмешкой писал:
«По причине необычайной важности творения мы принуждены разделить критический труд наш на две части. Самое содержание книги предоставляет нам средство сделать это очень естественным образом. Половина пьес этого тома состоит из страниц белых, а другая половина из страниц не-белых, печатных. Первая – главная; вторая служит ей только прибавлением. О страницах не-белых, как менее важных, мы поговорим во второй статье…
Белые, чистые страницы… страницы чистые, белые… то есть страницы, отличающиеся своей белизною… Одним словом, страницы, которых чистота… Вот несчастье! Ведь нечего сказать о белых страницах! Таково неизъяснимое свойство чистоты, книжной и нравственной, что она ускользает от критики!»
Столь же крохотная статья вторая – «О не-белых страницах» – появилась в январской книжке. И тут Сенковский язвил: «…нет сомнения, что г. Тепляков пишет хорошо стихи и еще лучше избирает эпиграфы, чего нельзя сказать о предисловии, приклеенном к его книге». Сенковский предположил, что, написав предисловие в третьем лице, Тепляков тем самым хотел внушить читателю, будто предисловие написано кем-то другим, но сходство стиля стихов и предисловия «так непостижимо, что можно было бы подумать, что приятель писал за поэта стихи или сам поэт писал предисловие за приятеля». Сенковский едко замечал: «Поэзия г. Теплякова вообще удивительно блестяща и богата, это почти поэзия Голконды или ювелирной лавки – такая в ней бездна алмазов, яхонтов, рубинов, опалов, сапфиров, перл, бирюз и всяких разных каменьев, не считая свинцу и золота и льду, как вещей слишком обыкновенных». В этом Сенковский, увы, был прав. Не прав он был в том, что не хотел замечать достоинств!
В конце статьи ядовитый критик коснулся самого названия «Фракийских элегий» – «то есть элегий, писанных во фраке, в котором автор обыкновенно был одет, а не во Фракии, где он не был, посетив только Мизию, попросту Булгарию». Тут можно было бы возразить, что древняя Фракия имела иные пределы, но стоило ли препираться… И ведь не во фраке автор скакал на коне под Варной, не во фраке искал убежища от чумы под Сизополем, но что до этого было критику, готовому всем пренебречь ради красного словца…
Графиня Эдлинг написала Теплякову из Одессы: «Говорят, Вас остро раскритиковали в журналах, но, я надеюсь, Вы не удостоите на это ответить. Вы должны довольствоваться похвалою тех, кто действительно любит поэзию». Конечно, она была права, но поэта слишком задело за живое. Он написал против Сенковского (не называя критика по имени) злой мадригал и послал в Петербург Одоевскому с просьбой напечатать.
Но Одоевский также был убежден, что переругиваться не стоит. Мадригал остался ненапечатанным.

«Небо и море начали проясняться весною… – писал Тепляков Одоевскому 22 марта по новому стилю. – Готовый забыть и чуму, и холод атмосферический, и людской холод, я намеревался приступить, наконец, к подавленным ими занятиям и слиться всеми чувствами с этой дивной страной, которая стала почти приближаться к моему мечтательному Востоку. Взамен этого вдруг увидел я себя вчерашний день импровизированным курьером, и завтра, 23 марта, австрийский пароход Мария-Доротеяуже полетит со мною в Грецию. Сами можете разрешить, к лучшему, к худшему ли должен я оставить, при таких обстоятельствах, Византию для нового свидания с бедной, давно мне знакомой Элладою…»
Когда пароход поднял якорь, был уже вечер. Пронзительно кричали чайки, в голубой воде Босфора, по одну сторону, зыбко отражались купола и минареты мечетей Стамбула, по другую – темно-зеленые кладбищенские кипарисы на азиатском берегу.
Около трех месяцев – апрель, май и более половины июня – снова провел он в Афинах.
В мае послал письмо Родофиникину: «Может быть, Вашему высокопревосходительству известно, что константинопольской нашей миссии угодно было отправить меня в конце прошлого марта курьером в Грецию… Я должен признаться, что не без сожаления простился с надеждою извлечь, наконец, какую-нибудь пользу из своего пребывания в Константинополе».
В Афинах он жил в гостинице и постоянно посещал дом русского посланника в Греции Катакази. Дом этот представлял собой, по словам Теплякова, «едва ли не единственное сборное место афинского общества». Наверно, немалую роль сыграло то обстоятельство, что Катакази был греком, хотя и посланником иностранной державы. А, например, греческий министр иностранных дел был немцем, так же как и греческий король.
Близко познакомился Тепляков с австрийским посланником Прокеш-Остеном, знатоком всего клубка дипломатических отношений европейских стран и турецкой империи. Вникая в дела греческого королевства, сообщил свои выводы Бутеневу – письмо из Афин: «Организация государственной машины, по-видимому, не соответствует потребностям страны; расходы и приходы государства сходятся менее, чем когда-нибудь».
В июне Тепляков заболел, лихорадка трепала его нещадно. Больной, он поторопился в обратный путь. На греческом острове Сира (Сирос) в Эгейском море вынужден был пройти пятидневный карантин, прежде чем смог отплыть далее, в Константинополь. В сирском карантине пришлось поместиться в бараке, похожем на звериные клетки, у самого берега моря. Здесь он лежал, сотрясаясь от озноба, хотя было по-летнему тепло…
Еще в марте он писал графине Эдлинг: «Мысль о том, что Вы меня забыли, была, конечно, одной из самых мучительных…» Перед отплытием из Константинополя в Грецию он получил от нее письмо, а когда вернулся в июле, надеялся, что здесь его дожидается еще одно – но письма не оказалось. Он снова решился напомнить ей о себе, сетовал, что она ему не пишет.
Она ответила из Одессы 27 сентября: «Мое отношение к Вам не изменилось, и я питаю к Вам все те же дружеские чувства. Если же я не писала, то лишь потому, что не так свободно располагаю временем, как Вы, и потом я не люблю писать для начальников почт и перлюстраторов писем… Пишите нам, но не забывайте, что все Ваши письма будут читать и перечитывать, что лишает переписку всякого удовольствия».
Да, конечно… Однако для него переписка была не просто удовольствием, но постоянным источником утешений и надежд.
Она советовала: «Если Ваше положение становится слишком невыносимым, уйдите осторожно, без шума».
По-другому писал ему из Петербурга Плетнев. После смерти Пушкина Плетнев стал издателем «Современника» и хотел видеть в Викторе Теплякове одного из непременных авторов журнала:
«Занимательна и поучительна жизнь Ваша, почтеннейший Виктор Григорьевич! Много соберете Вы запаса на остальные дни, даже слишком много, если правда, что обрекаете себя в будущем на пустынничество [каким образом этот слух возник и докатился до Плетнева, нам неизвестно]. Но не то готовит Вам судьба. Она слепо не расточает своих сокровищ. Вы должны уплатить ей не воспоминаниями затворничества, но огненными страницами глашатая на лучшем поприще… Слава богу, что Вам удалось столько увидеть, столько прочувствовать и кинуть все это в свои восточные портфели. Это не должно погибнуть, следственно и не погибнет. По крайней мере я такой веры».
Виктор Тепляков, несомненно, тоже верил, что его записки не пропадут.
Осенью 1837 года он, должно быть – вместе с другими служащими русского посольства, получил от турецких властей разрешение осмотреть в Стамбуле, над берегом Босфора, прежний дворец султана Сарай-Бурну.
Здесь, возле дворца, Тепляков увидел множество солдат, они показались ему «карикатурою регулярного войска». Записал потом: «Чума и недостаток военной администрации почти истощили рассадник нового поколения на эти гимнастические полки, которых безбородые ратники потрясают сердце отнюдь не картиною бранной силы, но чувством глубокой жалости…»
Также посетивший этот дворец Титов записал, что «в старом султанском Сарае, вам укажут место, куда, к душевной отраде правоверных, несколько лет тому назад кидали сотнями соленые греческие уши, обрезанные носы и кожи, содранные с черепов, – ворота, где визирям объявляли немилость и ее неизбежное последствие, шелковый снурок, – решетки, за которыми черные евнухи стерегли затворниц гарема… Над морем и кипарисными садами обитает теперь, смирно и молчаливо, турецкий казнохранитель, которому поручен старый Сарай с того времени, Как двор навсегда его покинул». На стенах некоторых комнат дворца висели в красивых рамках глубокомысленные надписи, выбранные из Корана, среди них Титову особенно понравился арабский стих: «Бери что веселит, кинь, что огорчает».
В жизни, к сожалению, не так-то легко «кинуть, что огорчает». И в Стамбуле, кроме утешительных надписей, бросались в глаза картины, глубоко ранившие душу. Во дворе мечети Сулеймани́я Тепляков видел железные клетки, в которых сидели прикованные цепями сумасшедшие. Тяжкое было зрелище.
В сентябре Бутенев уехал в Россию, в длительный отпуск, и задержался в Петербурге на всю зиму.
Тепляков напоминал о себе в письме к Попову: «А. П. Бутенев, находящийся теперь в Петербурге, не откажет, вероятно, подтвердить, может ли мое пребывание в Константинополе принести какую-нибудь пользу, при средствах, которыми я наделен, при положении, в которое я поставлен относительно миссии. При отъезде посланника я обо всем этом говорил с ним, а после, по его приказанию, изложил письменно сущность нашей беседы». Он просил Бутенева отправить его, хотя бы курьером, в Египет и Палестину…
О том же написал Родофиникину. Замечал: «…осмеливаюсь предполагать, что в глазах начальства по меньшей мере равно, здесь ли будет напрасно влачиться мое существование или посвятится оно, без новых со стороны министерства пожертвований, путешествиям, которые не могут, во всяком случае, остаться бесполезными».
«Когда покинете Константинополь, Вы, быть может, на возвратном пути завернете сюда… – писала ему из Одессы графиня Эдлинг. – Не изменяйте поэзии, она была Вашей верной подругой в счастье и в несчастье, и Вы не должны оставаться неблагодарны. Прощайте, мои добрые пожелания будут сопровождать Вас повсюду».
Что он мог ответить ей? Как было объяснить, почему нет у него новых стихов? Он ли изменил поэзии? Или это она покидает его здесь, в бесконечной маете ожидания?
Он записывал в дневнике (в марте 1838 года):
«Теперь я и сам едва узнаю в себе прежнего себя самого… Не то чтобы с годами и опытностью я сделался совершенным отступником Байрона… Я писал как жил, а жил совсем иначе, нежели какой-нибудь светский любезник или канцелярский дипломат… И не чистое ли сумасбродство все эти порывы к высокому и прекрасному, и не благоразумнее ли было бы примкнуть без дальних хлопот к той несметной фаланге нулей, которые множат значение какой-нибудь единицы…»
А ведь если разобраться, единственной безусловной единицей в государственной иерархии оказывался император Николай. При этой единице все министерство иностранных дел было фалангой нулей: Нессельроде, Родофиникин, Бутенев, Титов и так далее.
«Полуторагодовое прозябание в Цареграде посреди атомов, гнущихся и изгибающихся, бесцветных и пронырливых, холодных ко всему и гордых своим единым ничтожеством, заморозило вдосталь те мысли и ощущения, которые рвались некогда столь упорно наружу, – записывал в дневнике Тепляков. – …Что притом за страсть марать бумагу… Мы ничего не творим, мы только вспоминаем, говорит корифей древнего любомудрия.
Воспоминание есть, следовательно, единственный гений человека; может быть, потому-то и существует в нем страсть мыкаться пчелой по обширному божьему миру за медовой добычей под старость!»
Эта страсть жила в нем, не угасая, – он еще так много хотел бы увидеть и узнать! Чтобы впоследствии было что вспомнить – в книгах, которые напишет…
Но кто же этот корифей древнего любомудрия, чьи слова он привел в дневнике?
На память приходят «Диалоги» Платона, который считал, что истину мы только вспоминаем:она так же вечна, как душа, и уже открывалась душе прежде, в иной жизни, – он верил в переселение душ. В диалоге «Федр» отыскиваем приведенные Платоном слова Сократа: «…ведь когда он пишет, он накапливает запас воспоминаний для себя самого на то время, когда наступит старость – возраст забвения, да и для всякого, кто пойдет по его следам…»
В русском переводе «Диалоги» Платона тогда еще не издавались, и в древнегреческом тексте отдельные фразы Тепляков мог перевести и запомнить очень неточно. Так что, может быть, четкое определение («Мы ничего не творим, мы только вспоминаем») принадлежало уже ему самому.








