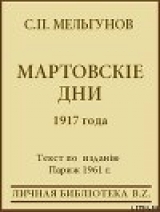
Текст книги "Мартовскіе дни 1917 года"
Автор книги: Сергей Мельгунов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 50 (всего у книги 56 страниц)
[262]
Датированіе разговоров в публикаціи «Кр. Арх.» расходится с датами в копіях, напечатанных в эмигрантских изданіях. В первом случаѣ разговор с Алексѣевым помѣчен 6 ч. 46 м., а с Рузским в 8 ч. 45 м.; во втором разговор с Рузским помѣчен 5 час. (у Вильчковскаго) и 6 ч. у Лукомскаго. Копія разговора с Алексѣевым вообще отсутствует в зарубежных публикаціях. Не имѣя возможности документально разъяснить разнорѣчія, считаю болѣе логическим эмигрантское датированіе; в концѣ разговора с Псковом имѣется замѣчаніе Рузскаго: ...«не забудьте сообщить в Ставку, ибо дальнѣйшіе переговоры должны вестись в Ставкѣ, а мнѣ надо сообщать только о ходѣ и положеніи дѣл». 8 ч. 46 мин. вообще время слишком позднее, принимая во вниманіе растерянность, которую вызвала в Петербургѣ ночная телеграмма Гучкова. По записи ген. Болдырева тоже выходит, что Родзянко прежде говорил с Алексѣевым, но запись Болдырева явно сдѣлана позже, ибо в ней попадаются такія слова «как это потом и оказалось».
[263]
Объективная оцѣнка этой характеристики была сдѣлана выше.
[264]
В разговорѣ с Алексѣевым Родзянко говорил, что «соглашенія» достигнуть не удалось, « установлено только „перемиріе“.
[265]
В разговорѣ с Алексѣевым упоминались: Верховный Комитет и Совѣт министров.
[266]
Алексѣеву Родзянко говорил болѣе рѣшительно о «колоссальном подъемѣ патріотических чувств», о «небывалом подъемѣ энергіи», об «абсолютном спокойствіи в странѣ», которые обезпечивают «самую блестящую побѣду».
[267]
Ср. показанія Гучкова в Чр. Сл. Ком.;
[268]
Эти знаменательныя «обмолвки» Родзянко будут разобраны ниже.
[269]
Как фактически отразилась задержка с опубликованіем манифеста в войсках, будет разсмотрѣно ниже.
[270]
В телеграммѣ, посланной в 9 ч. 11 мин. веч. кн. Львову, Ник. Ник. высказывал опасенія, что «отреченіе в пользу в. кн. Мих. Ал., как императора... неизбѣжно усилит смуту в умах народа. Опасеніе это усугубляется неясной редакціей манифеста и отсутствіем указанія в нем, кто является наслѣдником престола» .. По поводу свѣдѣній о «якобы готовящемся соглашеніи между Правительством и Совѣтом Р. Д. по вопросу о созывѣ через полгода Учр. Собранія», Ник. Ник., как «отвѣчающій перед родиной за успѣх наших армій», «категорически» высказывался, что заключеніе подобнаго соглашенія было бы величайшей ошибкой, грозящей гибелью Россіи".
[271]
Алексѣев приводил в примѣр Ревель, гдѣ при ознакомленіи с текстом манифеста образовалось «хорошее приподнятое настроеніе».
[272]
В некрологѣ Милюкова, напечатанном в «Новом Журналѣ»: Керенскій говорит, что на ночном совѣщаніи первым о невозможности воцаренія в. кн. Михаила высказался Родзянко.
[273]
Мстиславскій, повторяя ходячую версію, говорит об арестѣ Гучкова его «чуть не поставили под разстрѣл» и пр.
[274]
Эти рѣчи мемуарист, конечно, сотворил в духѣ будущих большевицких трафаретов – о милліонах сахарозаводчика Терещенко, «князей и графов» из Врем. Прав. и т. д. Терминологія выдает мемуариста – ни один из ораторов-рабочих не мог 3-го говорить о «революціонной демократіи» (позднѣйшее словоупотребленіе, едва ли не введенное Церетели).
[275]
По разсказу Родзянко делегаты были освобождены дежурной ротой. Об этой ротѣ, явившейся с пулеметом, упоминает и Шульгин. Шляпников утверждает, что потребовалось вмѣшательство Совѣта, и Гучков был освобожден только послѣ переговоров с Исп. Ком. По свидѣтельству еще одного современника (Б. Н. Б.). выступавшаго на столбцах эмигрантскаго бурцевскаго «Общаго Дѣла», «вмѣшательство Совѣта» выявилось в том, что был арестован комендант станціи полк. Т., который со взводом петраградскаго полка высвободил Гучкова.
[276]
Кн. Путятина, воспоминанія которой точностью не отличаются, утверждала, что Родзянко на Милліонную прибыл за час до остальных и убѣждал Мих. Ал. принять власть. Вѣроятно, автор спутал с тѣм, что было наканунѣ, когда, по ея словам, Родзянко нѣсколько раз посѣтил Великаго Князя и говорил ему о регентствѣ. Вечером 2-го в тѣх же цѣлях квартиру Путятиной посѣтил и вел. кн. Ник. Мих.
[277]
По словам Милюкова, послѣ Родзянко говорил Керенскій. Шульгин утверждает, что Керенскій выступил послѣ перерыва. В рѣчи Керенскій возражал Милюкову. Так как я могу слова Керенскаго изложить только по Шульгину или дать их из третьих уже рук – в описаніи в. кн. Андрея, то откладываю их на время послѣ перерыва. Возможно, что Керенскій выступил два раза. Шульгин с Гучковым опоздали к началу бесѣды.
[278]
На другой день Палеолог, дѣйствительно, обратил вниманіе на то, что Милюков постарѣл «на десять лѣт».
[279]
Очерк Алданова носит в себѣ черты слишком опредѣленнаго юбилейнаго преувеличенія. Между прочим, он заключает: «Обращаясь к документам (!) того времени, историк признает, что такого яснаго истинно вѣщаго предвидѣнія надвигающейся на Россію катастрофы не имѣл в первый час революціи ни один другой политическій дѣятель». Послѣдующее изложеніе, стилизирующее факты, устраняет эту иллюзію «предвидѣнія» в отношеніи Милюкова. «Вѣщих предсказаній» о «гибели Россіи» было много, даже слишком много – и особенно перед революціей. Все это больше словесная мишура, которую навѣвали летучія переживанія в данный, иногда короткій отрывок времени.
[280]
В изложеніи Шульгина Керенскій сказал Мих . Ал., что он принадлежит к партіи которая запрещает соприкасаться с лицами императорской крови (!). Еще болѣе образно представил это Андр. Владиміровичу Караулов. Керенскій заявил, что «поступился всѣми своими партійными принципами ради блага отечества и лично явился сюда», за что его «могли бы партійные товарищи растерзать»...
[281]
По отзыву Караулова Керенскій «наиболѣе ярко характеризовал момент». Он сказал, что «вчера еще бы согласился на конституціонную монархію, но сегодня, послѣ того, что пулеметы с церквей разстрѣливали народ, негодованіе слишком сильное, и Миша (это запись Ан. Вл.), беря корону, становится под удар народнаго негодованія, из под котораго вышел Ники. Успокоить умы теперь нельзя, и Миша может погибнуть, с ним и они всѣ». Эта передача, очевидно, может установить только смысл рѣчи оратора, а не подлинныя его слова, равно как и термины «вчера» и «сегодня» должны быть понимаемы относительно.
[282]
По воспоминаніям Керенскаго («Новый Журнал»), Шульгин «просто промолчал».
[283]
В изложеніи Милюкова, Мих. Ал. все время молчал. В процитированных строках воспоминаній Родзянко говорится о вопросах, поставленных Мих. Ал. – вѣроятно, это было уже тогда, когда они остались наединѣ. По словам Керенскаго, Вел. Кн. все время проявлял активный интерес, много раз вмѣшивался, переспрашивал и просил повторить.
[284]
Милюков говорит, что отдѣльная бесѣда была только с Родзянко, но и Караулов разсказывал Андр. Влад. о бесѣдѣ с Родзянко и Львовым.
[285]
Информатор Палеолога передавал ему, что Керенскій попросил Мих. Ал. только не совѣтоваться с женой, на что М. А. отвѣтил: «Успокойтесь, А. Ф., моей жены сейчас нѣт здѣсь. Она осталась в Гатчинѣ». Сам Палеолог занес в дневник, что Вел. Кн. не там легко уступил бы, если бы «честолюбивая и ловкая» кн. Брасова была в Петербургѣ.
[286]
Впрочем, нельзя быть увѣренным в том, что опредѣленная точка зрѣнія Набокова не установилась под вліяніем позднѣйших размышленій над протекшими событіями. По крайней мѣрѣ ген. Куропаткин при свиданіи с Набоковым 1 мая (17 г.) записал в дневник: «Набоков не очень спокойно относится к происходящему. Говорит, что совсѣм не то они ожидали. Что надо было, чтобы Михаил нашел в себѣ мужество принять престол. Тогда разрухи и безначалія не было бы. Теперь нѣт власти».
[287]
Проф. Платонов, преподававшій Мих. Ал. исторію, дал в 1903 г. члену Гос. Сов., руководившему извѣстным «Имп. Рус. Ист. Общ.» Поворцову, такую, расходящуюся с традиціонным представленіем, характеристику Великаго Князя: «имѣет чрезвычайно сильную волю и без торопливости, с неуклонной твердостью достигает раз намѣченной цѣли. К сожалѣнію, умственно лѣнив».
[288]
Впрочем, и Караулов, отмѣчавшій большое «волненіе», которое испытывали члены Совѣщанія, разсказывал Андр. Влад., что они «все время посматривали в окно, не идет ли толпа, ибо боялись, что их могут всѣх прикончить».
[289]
Ниже будет особо разсмотрѣно отношеніе фронта к февральскому перевороту.
[290]
Ген. Краснов разсказывает, что 5-го и 6-го в 4 кав. корпусѣ он объявил под «громкое ура» на парадѣ о воцареніи Михаила Александровича и награждал именем новаго императора георгіевскими крестами.
[291]
См. мою книгу «Судьба имп. Николая II послѣ отреченія».
[292]
«А ргіогі, – пишет он, – можно привести очень сильные доводы в пользу благопріятных послѣдствій положительнаго рѣшенія принятія Михаилом престола, несмотря на порочность с точки зрѣнія юридической с самаго начала этого акта». «Прежде всего оно сохранило бы преемственность аппарата власти... сохранены были бы основы государственнаго устройства Россіи, и имѣлись на лицо всѣ данныя для того, чтобы обезпечить монархіи характер конституціонный... Устранён был бы роковой вопрос о созывѣ Учр. Собранія во время войны. Могло бы быть создано не Временное Правительство, формально облеченное диктаторской властью, фактически вынужденное завоевать... эту власть, а настоящее конституціонное правительство на твердых основах закона... Избѣгнуто бы было то великое потрясеніе всенародной психики, которое вызвано было крушеніем престола».
[293]
В текстѣ воспоминаній самого Керенскаго сказано, что он заявил Мих. Ал., что берет обязательство защищать Вел. Князя от всѣх. «Мы пожали друг другу руку. И с этого момента мы остались в добрых отношеніях. Правда, мы встрѣтились только раз в ночь отъѣзда Царя в Тобольск, но... я имѣл нѣсколько раз случай оказать услугу в. князю, облегчая ему немного жизнь в новой обстановкѣ, в которой он находился». Как характерен этот абзац для Керенскаго-мемуарнста! В иностранных изданіях своих воспоминаній он не упомянул, что Мих. Ал. в августѣ был арестован по личному распоряженію тогдашняго главы правительства.
[294]
Бѣдный Шульгин, имѣвшій, вѣроятно, нѣсколько потрепанный вид послѣ псковских перипетій, не избѣг обвиненій в демагогической приспособляемости ко вкусам толпы. Так кн. Брасова говорила Маргуліесу, что монархист Шульгин «нарочно не брился» и «надѣл самый грязный пиджак», «когда ѣхал к Царю, чтобы рѣзче подчеркнуть свое издѣвательство над ним».
[295]
Затрудненія, которыя испытывала военная власть на фронтѣ при быстротечном ходѣ событій и при условіях, что верховный главнокомандующій находился на Кавказѣ, Ставка в Могилевѣ, правительство в Петербургѣ, можно иллюстрировать примѣром, по существу, может быть, и второстепенным. Первый приказ верховнаго главнокомандующаго, помѣченный 3-м мартом, совпал с опубликованіем «манифеста» Михаила. В них имѣлось рѣзко бросающееся в глаза противорѣчіе. Ник. Ник. говорил, обращаясь к солдатам: «...что касается вас, чудо-богатыри, сверхдоблестные витязи земли русской, то я знаю, как много вы готовы отдать за благо Россіи и престола»... В манифесте 3 марта выдвигалось Учредительное Собраніе. В Псковѣ обратили вниманіе на такое «серьезное» противорѣчіе. Рузскій хотѣл вычеркнуть слово «престол», но его штаб запротестовал (сообщ. Болдырева). Данилов настаивал на замедленіи выпуска приказа и вступил в переговоры со Ставкой, указывая, что «войскам трудно будет разобраться в таком сличеніи времени отдачи приказа верховнаго главнокомандующаго и манифеста в. кн. Мих. Ал., ибо оба документа помѣчены третьим марта. Получается безусловное впечатлѣніе несогласованности очень тяжелое в таких государственной важности и деликатных для совѣсти каждого вопросах». Ставка в лицѣ Лукомскаго считала «недопустимым» задержку приказа верховнаго. Нач. штаба, как видно из слов Лукомскаго, не считал возможным какія-либо дальнѣйшія задержки, «пока не получится все черное по бѣлому», ибо «проволочка» привела уже к тому, что «балтійскій флот окончательно взбунтовался». Мы увидим, что этот формальный вопрос послужил прелюдіей довольно больших осложненій тогда, когда приказ в. кн. Ник. Ник. дошел до Совѣта Р. Д.
[296]
Энгельгардт уже считал себя почти военным министром, – так разсказывает Половцов, встрѣтившій его в Главном Штабѣ послѣ разговора со Ставкой: «Гучков не будет больше военным министром – завтра я буду военным министром».
[297]
Бубликов – его воспоминанія вышли раньше воспоминаній Ломоносова – совершенно также, со слов своих помощников, изображает вечерніе споры 3-го о формѣ опубликованія актов отреченія. приписывая только кн. Львову проект традиціонной внѣшней формулировки манифестов.
[298]
Дѣйствительное положеніе было таково. Когда командующій Балтійским флотом утром 2-го получил из Ревеля телеграмму коменданта крѣпости вице-адм. Герасимова, гласившую, что «положеніе грозит чрезвычайными осложненіями, если не будет мною объявлено категорически, на какой сторонѣ стою я с гарнизоном», он отвѣтил: «Благоволите объявить всѣм частям, что Исп. Ком. Гос. Думы требует от войск полнаго подчиненія своему начальству, а от рабочих возстановленія усиленной работы, и что я дѣйствую в полном согласіи с этим Комитетом, который занят устроеніем тыла, а от арміи и флота требует только поддержанія строгой дисциплины и полной боевой готовности для войны до побѣды. Если положеніе потребует, во что бы то ни стало, категорическаго отвѣта, то объявите, что я присоединяюсь к Временному Правительству и приказываю вам и старшему на рейдѣ сдѣлать то же». Вечером Непенин телеграфировал Рузскому о необходимости принять рѣшеніе, «формулированное предсѣдателем Думы». Сообщеніе о манифестѣ в Ревелѣ было объявлено «и получило широкую огласку». «Безпорядки временно прекратились" – доносил Непенин в 8 час. утра 3-го. В три часа дня, однако, положеніе в Ревелѣ вновь приняло угрожающій характер" – сообщал Непенин. „Прибытіе членов Думы не внесло достаточнаго успокоенія... Является желательным прибытіе деп. Керенскаго , который пользуется особым авторитетом среди рабочих... В Гельсингфорсѣ сегодня были безпорядки, прекращенные лично мною и нач. морской обороны в.-ад. Максимовым“. Затѣм послѣдовала телеграмма от 7 ч. 30 м. веч., на которую ссылался Алексѣев. На другой день в 11 ч. утра Непенин телеграфировал Алексѣеву: „Собрал депутатов от команд и путем уговоров и благодаря юзо-телеграммам мин. юст. Керенскаго удалось прекратить кровопролитіе и безпорядок... Через депутатов передал командам, пролившим кровь офицерскую, что я, с своей стороны, крови не пролью, но оставить их в командах не могу – виновных же пусть разберет Временное Правительство", а в 4 часа пришло „ошеломившее“ всѣх в Ставкѣ извѣстіе: «в воротах Свеаборгскаго порта ад. Непенин убит выстрелом из толпы “.
[299]
См. мою книгу «На путях к дворцовому перевороту».
[300]
Версія о «генералах-измѣнниках», доведенная до полнаго абсурда в работѣ Якобія «Le Tzar Nicolas II et la Révolution» (издана была и по русски, при чем вызвала горячій протест Деникина в «Посл. Нов.»), просто не заслуживает разсмотрѣнія по существу в историческом повѣствованіи. Не всегда разобравшись в фактах, автор, так специфически их препарировал, что дошел до фантастической концепціи, по которой смерть Царя во имя торжества революціи явилась чуть-ли не результатом соглашенія лидеров думской оппозиціи и генералов.
[301]
Не служит ли это лишним доказательством того, что вопрос об отреченіи во Врем. Комитетѣ тогда не был еще поставлен ребром?
[302]
Первое сообщеніе о Вел. Князѣ, как о «верховном главнокомандующем», появилось в № 3 «Вѣстника» – уже послѣ того, как об этом сообщили совѣтскія «Извѣстія».
[303]
В телеграммѣ городского головы Тифлиса Хатисова, посланной Львову вечером 4-го с отчетом о состоявшемся у Вел. Кн. пріемѣ, говорится нѣсколько по-иному: «Я заявил – сообщал Хатисов – что широкія массы населенія Тифлиса привѣтствуют назначенніе Е. В. верховным главнокомандующим, но вмѣстѣ с тѣм вызывает много толкованій то обстоятельство, что приказ об этом издан Государем, а не Врем. Прав., в то время, когда Государь отрекся от престола. Верх. Главноком. на это сказал, что назначеніе послѣдовало до отреченія Государя от престола, и что вслѣд за этим Врем. Прав, санкціонировало это назначеніе, о чем председатель Совѣта министров уже увѣдомил Вел. Кн. и вошел с ним в непрерывныя сношенія ».
[304]
На Правительство сказывали давленіе военные и дипломатическіе представителя союзников. Бьюкенен передает, что он всячески отстаивал Н. Н. в разговорах с Милюковым.
[305]
Условія посылки этого письма изложены в моей книгѣ «Судьба имп. Николая II послѣ отреченія».
[306]
Депутаты, побывавшіе на фронтѣ, вынесли и иное впечатлѣніе. Солдаты говорили им: «Довольно с нас Романовых. Нам не нужно Великаго Князя. Пусть будет, кто угодно».
[307]
Дубенскому «очевидцы присяги» передавали, что Н. Н. был настроен «очень нервно» и что «его рука, подписывая присяжный лист, тряслась».
[308]
Ген. Врангель, со слов адъютанта в. кн. Н. Н. гр. Менгдена, с которым он встрѣтился на ст. Бахмач в момент проѣзда Н. Н. из Тифлиса в Могилев, изображает дѣлю так, что Н. Н. был уже предупрежден о рѣшеніи Врем. Правит. и ѣхал в Могилев с принятым рѣшеніем отказаться от главнаго командованія.
[309]
Насколько помнит Суханов, в Исп. Ком. вопрос об отставкѣ в. кн. Н. Н. спеціально не подвергался разсмотрѣнію. 6-го обсуждался лишь вопрос об отмѣнѣ его приказа по арміи.
[310]
В письмѣ, помѣченном 9 марта, Львов писал, что «народное мнѣніе рѣзко и настойчиво высказывается против занятія членами дома Романовых какой-либо государственной должности", поэтому „Вр. Пр. не считает себя в правѣ оставаться безучастным к голосу народа, пренебреженіе которым может привести к самым серьезным послѣдствіям". и просит В. Кн. „во имя блага родины“ пойти навстрѣчу этим требованіям и сложить с себя ещё до пріѣзда в Ставку званіе верх. главнокомандующаго“.
[311]
«Рад вновь доказать мою любовь к родинѣ, в чем Россія до сих пор не сомнѣвалась» – отвѣчал Н. Н.. указывая, что он не мог сдать верховное командованіе до приѣзда в Ставку, так как письмо Правительства получил 11-го марта, а пріѣхал в Ставку 10-го в 4 часа дня.
[312]
Выраженіем «контр-революціонности» Ставки могло служить то обстоятельство, что в Могилевѣ по примѣру Петербурга не сшибали царских «орлов» (кстати, они сохранились вплоть до захвата Ставки в ноябрѣ большевицкими бандами). Не у всѣх, конечно, было мужество противостоять этой революціонной мишурѣ. Ген. Половцев разсказывает, как он при выѣздѣ с новым военным министром на фронт, прежде всего самолично занялся вывинчиваніем в вагонѣ царских портретов, которые желѣзнодорожники забыли снять.
[313]
Нашумѣвшаго письма ген. Гурко, направленіям Царю в первых числах марта, мы коснемся в другой комбинаціи фактов. Этому письму бывшаго одно время незадолго перед революціей замѣстителя Алексѣева искусственно придали иной характер, чѣм оно имѣло в дѣйствительности и увидѣли в нем выраженіе реставраціонных вожделѣній генералитета.
[314]
Кн. Путятина – та самая, в квартирѣ которой происходила драматическая сцена с отреченьем в. кн. Михаила, – со слов своего рода знаменитого Пеликана (одесскаго гор. головы и виднаго члена Союза Русскаго Народа – за ним была замужем сестра Путятиной), разсказывает о существованіи плана, согласно которому кавалерійскій корпус гр. Келлера должен был занять Одессу, чтобы поддержать монархическое движеніе в Подолѣ и на Волыни. Вѣроятно, это отклик тѣх позднѣйших разговоров, которых нам придется коснуться. По выраженію ген. Половцова 3-й корпус в началѣ революціи невѣроятно «скандалил» и, слѣдовательно, не был силою, на которую мог опереться реставраціонный план, если бы он и существовал в реальности.
[315]
Ген. Селивачев в дневникѣ эту армію опредѣлил, как «сплошь состоящую из третьяго сословія – извозчиков, печников и т. п. Родзянко, ссылаясь на характеристику одного из военных корреспондентов, указывает, что командный состав перед революціей был проникнут „штатским духом и болѣе близок к интеллигенціи и ея понятіям“.
[316]
Как раз этот «факт, смахивающій на анекдот», и вызывает сомнѣніе. Этот красочный гусар заимствован из статьи полк. Парадѣлова «Комсостав, его рост и значеніе в арміи» в с.-р. сборникѣ «Народ и армія», изданном в 18 г. Парадѣлов – автор, весьма мало заслуживающій довѣріе в смыслѣ точности сообщаемых фактов и способный к прямым измышленіям.






