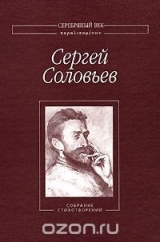
Текст книги "Собрание Стихотворений"
Автор книги: Сергей Соловьев
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 27 страниц)
Ночь на Преображение Господне
Одною тайной непонятной
Порядок мира утвержден.
Над всем один лишь благодатный,
Уму неведомый закон.
Мир существует, заключенный
В цепях божественной судьбы,
И неподвижного закона
Мы все свободные рабы.
«Ночь холодна и ненастна была…»
Какая ночь! Фавор туманный
Залит сиянием луны,
И все полно какой-то странной
Необъяснимой тишины.
Шатер небес блестит звездами,
И над уснувшею страной
Фавор под лунными лучами
Как будто смотрит в мир иной.
Цветы курят благоуханья,
И этот чистый фимиам —
Земли владычицы дыханье,
К ночным стремится небесам.
И вся окрестная пустыня —
Генисарет и Иордан —
Народа Божьего святыня,
Спасенье, слава прочих стран
Молчит, в предчувствии немея.
Меж тем сбегает ночи тень,
И на востоке, пламенея,
Уж загорелся новый день.
Погасли звезды. Холод веет.
Вокруг Фавора тишина.
Уж потухает и бледнеет
На небе полная луна.
И в этой бедной Галилее,
Где власть приял надменный Рим,
И где презренного еврея
Завет священнейший гоним,
Спасенье всех, спасенье мира.
Под властью римского орла,
Под властью Цезаря – кумира
Благая весть с небес сошла.
Заветов Божьих исполненье,
Фавор, сегодня ты узришь,
И в этот день Преображенья
Весь мир сияньем озаришь.
«О, не верь во власть земного тленья!..»
Ночь холодна и ненастна была,
Буря со свистом деревья рвала:
Ветра порывы на дом налетали,
Ставни в ответ им дрожали, стонали.
Целую ночь пролежал я без сна,
В час предрассветный глядел из окна.
Жуткой толпою по серой дороге,
Криком петушьим гонима в тревоге,
В тусклом сияньи ночного серпа,
К лесу неслась вурдалаков толпа.
Быстро бежали ужасные гости,
Лечь поскорее на ближнем погосте.
Бледно и тускло смотрели луга,
В жуткой дремоте стояли стога.
Только над лесом, в тумане ненастном,
Встала заря, будто заревом красным.
Сонет («Торжественная песнь неслась по темным сводам…»)
О, не верь во власть земного тленья!
Это все пройдет, как душный сон.
Лишь лови нетленные мгновенья,
В них огонь бессмертья отражен.
И за этот краткий миг прозренья
Ты забудешь все, чем дорожил.
Воспаришь над злом земного тленья,
Оглушен гармонией светил.
И зажгутся в мыслях ярким светом
Пред тобой священные слова.
И на сердце, пламенем согретом,
Отразится сила Божества.
«Среди снегов, залегших, как пустыня…»
Торжественная песнь неслась по темным сводам,
Струился фимиам воздушною рекой.
С душой, исполненной любовью и тоской,
Я у дверей стоял с молящимся народом.
Распахивалась дверь, и с чьим-нибудь приходом
Врывался громкий шум тревоги городской.
Оглядывались все, и этим эпизодом
Смущаем был на миг служения покой.
Душа, в томлении изнемогая, блекла
И с тайным трепетом ждала заветной встречи.
Перед иконами горели ярче свечи,
В вечернем сумраке тонули алтари…
Холодный вешний день прощался через стекла
Мерцаньем розовой, тускнеющей зари.
Новый взгляд на назначение средней школы
Среди снегов, залегших, как пустыня,
Среди весенних, радостных ручьев,
Все та же ты, бессмертная святыня,
Все тот же путь, без мыслей и без слов.
В уборе светлом хлопьев белоснежных
И в тайных чарах сладостной весны
Один огонь очей лазурно-нежных,
И те же всё заманчивые сны.
И как средь мрака яростной мятели,
Так в свете ярком радостных небес
Иду все к той же неизменной цели,
В далекий край таинственных чудес.
Среди ночей весны благоуханной
Горят огнем мистическим мечты,
И в белой дымке, нежной и туманной,
Как и зимой, все та же, та же ты.
Другу Борису Бугаеву
«Для того стоит гимназия,
Чтобы к жизни приучать!
Что за дикая фантазия
Цицерона изучать!
Знать Гомера, Фукидида
И не знать, что стоит рожь!
О, ужасная обида!
Где позор такой найдешь?»
И всеобщее решенье —
Классицизм из школ изгнать.
Средней школы назначенье —
К нуждам жизни приучать,
Знать науки кулинарные,
Знать изжарить фунт котлет,
Где поближе есть пожарные,
Где хороший есть буфет.
Ведь возможно приключение,
Что кухарка вдруг уйдет.
Тут Гомера изучение
Пользы нам не принесет.
Ежели пожар случится
(Лампу опрокинешь вдруг),
Тут Софокл не пригодится,
А пожарный – добрый друг.
Вот что умным признается!
Браво! Изгнан классицизм,
И изгнать нам остается
В молодежи атеизм.
Чтоб они слугами верными
Были Богу и властям.
Не зачитывались скверными
Повестями по ночам.
Тридцать шесть часов в неделю
Пусть за книгами сидят.
До ложения в постелю
Всё зубрят, зубрят, зубрят.
И для поддержанья веры
Так решили приказать:
Вместо чтения Гомера
Три часа маршировать.
Твой сон сбывается. Слышнее и слышней
Зловещий шум толпы, волнующейся глухо.
Я знаю – ты готов. Пора. Уж свист камней,
Толпою брошенных, стал явственен для слуха.
Пребудем до конца покорны небесам,
Их воля вышняя на нас отяготела.
Нас люди умертвят и бросят жадным псам
Камнями острыми израненное тело.
Теперь обнимемся. Окончен трудный путь,
Не просим чуда мы, к чему просить о чуде?
Молитву сотворив, подставим смело грудь
Отточенных камней на нас летящей груде.
Декабрь 1917, Дедово
«Грёзы! Пора на кладбище вам…»Дом познания
Грёзы! Пора на кладбище вам…
Небо – как море тоски.
Красное солнце над Ртищевом,
Рельсы, вагоны, тюки.
В этом краю заколдованном,
Мира проклятом углу,
Долго ль в вокзале заплёванном
Спать среди вшей на полу?
Сколько судьбу ни измеривай,
Будешь повален врагом
Видишь: ни дома, ни дерева
На версту нету кругом
Сел на платформу близ нищего,
Вместе нас вдаль занесло!
Сердце, как солнце над Ртищевом
Кровью давно изошло.
Пропахший йодоформом коридор
Набит битком в пылающем июле,
И всем хирург выносит приговор.
Гудят палаты, как пчелиный улей.
«Дорогу, эй!» Носилки волокут:
Лица не видно, кто-то ранен пулей.
Тарелки грязные с остатком блюд
Раздетая хожалка-проститутка
Проносит в кухню. А у двери ждут
С головкой забинтованной малютка,
Хромающий брюнетик-агроном
И женщина, взывающая жутко.
Закрылась дверь, и вдруг потрясся дом
От взвизгивания, всхлипывания, рёва…
Там женщину ланцетным лезвиём
За миг её паденья рокового
Скоблит палач и плод её любви
В ведро бросает грязное… Готово!
И с фартуком, забрызганным в крови,
Хирург выходит в коридор вонючий
С хорошенькой сестрой. А визави
Уж новый стон от муки неминучей,
От боли, подступившей к животу.
К больным, лежащим безобразной кучей,
Подходит врач. Схвативши на лету
Клочок письма, он вертит папиросу.
А к быстро покрасневшему бинту
Уж муха льнёт. Привычному вопросу
Ответив: «Не валяйте дурака»,
Уходит доктор к новому допросу.
И там в углу я видел старика:
Он высох весь, он умирал, но всё же
Подёргивалась слабая века,
И с каждым днём пронзительней и строже
Смотрел он взором дикого орла.
Он был скелет в грязно-лиловой коже,
Не мог пошевелиться, и текла
Слизь жёлтая на простыню. И это
Ему простить хожалка не могла
И выкинуть в окно грозила. Где-то
Служил он раньше в банке, но теперь
Он гас один в зловонном лазарете.
Воспоминанья ли былых потерь,
Иль юных дней, когда он был любимым,
Вставало в нём, когда, как жалкий зверь,
Он вдруг стонал под зноем нестерпимым.
Он вспоминал блондинку, орденок
И ужины парадные по зимам.
И как имел он пару стройных ног,
Почётный пост, зелёные конторки
И созывал знакомых на пирог,
А не жевал обглоданные корки.
Теперь давно не ел он ничего,
Лишь руку синюю тянул к махорке.
Но злился на соседа своего
За съеденную грушу. Пред хожалкой
Он весь дрожал, когда она его
Ругала и прибить грозилась палкой,
Смеясь на членов скрюченных красу,
На остов, обнажившийся и жалкий.
Когда она, рыча подобно псу,
Его приподнимала на кровати,
Обрубки ног дрожали на весу
В присохшей марле и кровавой вате.
Но час пришёл. Он, кажется, уснул.
Кончался день. Настала тишь в палате…
Румяный врач соседу подмигнул,
Пощупав пульс немеющий и вялый.
Колоколов вставал субботний гул
Над городом, и луч заката алый
Проник в окно, старик раскрыл зрачки
И, руку выпростав из одеяла,
Хожалке дал последние куски,
Сказав: «Прощай» со взором просветлённым —
В котором прежней не было тоски.
Он умирал спокойным, просветлённым,
Затем, что он простил за всё и всех.
Простил больнице, простыням зловонным,
А ей простил её звериный смех…
О, мой наставник в смрадном лазарете!
Среди всего, что искупает грех,
Среди всего, что видел я на свете,
До гроба я в молитвах пронесу
Матрац твой грязный, кроткий взор и эти
Обрубки ног кровавых на полу
1921
Муза Хорея
Как я кликал вас, хореи,
Как я ждал вас! Но скорее
Я бы мог достигнуть звезд.
Долго омрачали думы
Ямб, мыслительно-угрюмый,
Трубный, бранный анапест.
Замолчали ваши струны
Вместе с дерзостностью юной,
Вместе с пламенем любви.
Но недаром ждал я чуда:
Вот неведомо откуда
Ваши брызнули струи!
И в напевах вьюги буйной,
Златокудрой, златострунной
Ты сошла из горних стран.
Вновь в игре снежинок белых
Алых уст оледенелых
Вечно-сладостный обман!
Кудри по ветру развеяв,
Искры золотых хореев,
Жажду звуков утоля,
Ты рассыпала со смехом,
И твоих лобзаний эхом
Стала белая земля
Слушай, слушай, Муза, Муза,
Нерушимого союза
Властно рвущийся напев —
Песню вьюги, песню брака…
Что пред ней угроза мрака,
Твой земной, бессильный гнев?
10/23 января 1922
Дочери Марии
Зеленеет трава над могилой твоей,
На далёкой чужбине, в безвестной глуши.
С каждым годом больней, с каждым годом нежней
Приближенье твоей лучезарной души.
Раньше всех ты вернулась к родным небесам
И затеплила мне путевую звезду.
Ты сияешь и ждёшь скоро, скоро ль я сам
В недоступный нам край на свиданье приду.
Скоро, милая, скоро! Окончить мне дай
Мой тяжёлый, мой Богом назначенный труд.
Коль его не свершу я, не видеть мне рай,
Всех искупленных душ озарённый приют.
Не затем ли с земли ты так скоро ушла,
Чтобы легче была мне крутая стезя
В мир бесплотных духов из удолии зла,
Где замедлить тебе уже было нельзя?
Каждый год я на холмик заброшенный твой
Прихожу прочитать мой любимый псалом.
И я жду, припадая к земли гробовой,
Что меня ты заденешь воздушным крылом.
Одинокий вокзал в чернозёмных степях
И белеющий город с собором вдали —
Вот где лёг навсегда твой замученный прах,
Далеко от родной и весёлой земли.
Отзывая меня от родных рубежей,
Заметая следы примелькавшихся дней,
С каждым годом нежней, с каждым годом свежей
Зеленеет трава на могиле твоей.
25 ноября 1924, Надовражино
«Где чернеют, словно змеи…»
Где чернеют, словно змеи,
Ветви древние дубов,
Различал я Лорелеи
Ускользавший смутный зов.
То губящий, то целебный
С каждым годом всё властней
Голос звал меня волшебный
В мир видений и теней.
И не жаль мне, что поверил
Я призыву девы той,
Хоть ощеривались звери
На дороге заклятой.
Тает облако тумана,
Путь ясней передо мной,
И в рыдании органа
Тот же голос неземной.
5 февраля 1925, Надовражино
Сентябрь
Довольно доживало лето,
Повеял утренний мороз.
Сегодня золотом одета
Семья серебряных берёз.
Осина в ужасе трепещет
Багрянцем каждого листка.
Холодная, блестит и плещет
В увядших берегах река.
Какой простор, какие дали!
Что за молитвенная тишь!
Пред тайной неземной печали,
Как очарованный, стоишь.
В глухих лесах, где дышит тленье,
Где поступь не слышна ничья,
Свободен дух от впечатлений
Прельстительного бытия.
Всё в мире девственно и свято,
Пора приняться за труды
И силлогизмы Аквината
Впивать с дыханьем резеды.
В беззвучном голубом эфире
Душа застыла. И царём
Приходит в золотой порфире
Сентябрь, грозящий октябрём.
15 сентября 1926, Крюково
«Скоро, скоро станет звездной…»
Скоро, скоро станет звездной
Быстро меркнущая твердь.
Ты покоишься над бездной,
Где сгустились мрак и смерть.
Здесь, где пламя бушевало,
Где ворочал камни смерч,
Возле самого провала
Смотришь ты, как замерцала
Огоньком маячным Керчь.
Волны бьются о каменья
С вечной страстью и тоской.
Подожди ещё мгновенье:
Дай испить самозабвенья
Упоительный покой.
6 августа 1926, Коктебель
Лягушиная бухта
Сырой туман сгущается. Пора бы
Спешить домой, где ждёт весёлый ужин.
Но этим видом я обезоружен
И не ушёл отсюда никогда бы.
Чернеют камни, скользкие, как жабы,
Морской прибой с моей душою дружен.
И, рассыпаясь брызгами жемчужин,
Гудит у скал, где копошатся крабы.
Под влагой дремлет мох тёмнозелёный,
С дыханьем гнили смешан запах йода,
И всё омыто пеною солёной.
Здесь в первозданной каменной порфире,
Во мгле пещер готовит мать-природа
Зародыши всего, что будет в мире.
2 ноября 1927, Крюково
Сон царевныПосвящается Наташе Соловьёвой
Жарко натоплено в девичьем тереме,
Утро синеет в окне слюдяном.
Греема пухом лебяжьим и перьями,
Девочка нежится сном.
Рдеет лампадка, и лик Одигитрии
Кротко чернеет из мглы золотой…
Знать, о царевиче, знать, о Димитрии
Сон ей приснился святой.
Встань, ненаглядная, в шкуру медвежую
Ножкой нырни восковой.
Брызни на глазки лазурные свежею
Льдистой водой ключевой.
Ждёт тебя пряник медовый на столике;
Ну же, вставай поскорей.
Видишь, как белые нежные кролики
К ножке прижались твоей.
Кошку свою покорми шелудивую,
Брось голубям золотого зерна,
Выдь на крыльцо приласкать юродивую:
Любит царевну она.
Дети уж кличут тебя, запоздалая!
Кинь им серебряный смех…
Что ж не остудит уста твои алые
Первый порхающий снег?
Выбеги, в шубку закутавшись беличью,
Вскинулась девочка: «Нет, не хочу!
Раньше Димитрию, раньше царевичу
Вставши, затеплю свечу».
Стефано Гардзонио. «ЖИВОЙ СМЫШЛЕНЫЙ АНГЕЛЕНОК…». Поэт Сергей Соловьев (Послесловие)
Прекрасная! кормилицею нежной
Дни детства моего вскормила ты!
С. М. Соловьев, Италия
Среди поэтов русского символизма Сергей Михайлович Соловьев (1885–1942), внук великого русского историка Сергея Соловьева и племянник философа Владимира Соловьева, занимает особое место. Будучи троюродным братом Александра Блока (был и первым шафером на его свадьбе в 1903 г.) и ближайшим другом Андрея Белого[253]253
О дружбе между двумя молодыми поэтами см. мемуарные книги А. Белого Воспоминания о Блоке, На рубеже двух столетий, Начало века, Между двух революций и его же поэму Первое свидание.
[Закрыть], он следовал примеру своих молодых соратников на поэтическом поприще, находясь при этом под сильным влиянием творчества Вл. Соловьева, и в 1903 г., вместе с Андреем Белым и Эллисом, состоял в литературном кружке «аргонавтов», почитателей раннего Блока и его мистической поэзии о Прекрасной даме. Окончив в 1904 году Московскую частную гимназию Л. И. Поливанова, Соловьев поступил на историко-филологический факультет Московского университета, сначала на словесное, потом на классическое отделение, которое окончил в 1911 г.
Включенные в рукописный журнал А. Блока «Вестник» за 1896–1897 гг. ранние литературные опыты Соловьева тесно связаны с примером Александра Блока[254]254
См.: Дикман М. И. Детский журнал Блока «Вестник», «Литературное наследство». Т. 92: Александр Блок. Новые материалы и исследования. М., 1980. Кн. 1. С. 203–221; Лавров А. В., Юношеские стихотворения Сергея Соловьева в рабочих тетрадях Александра Блока, Блоковский сборник XV. Русский символизм в литературном контексте рубежа XIX–XX вв. Тарту: Tartu Ulikooli Kirjastus, 2000, С. 210–238.
[Закрыть]. Здесь ощутимы те же мистические упования, очарование перед красотой богослужения, которые «сроднили троюродных братьев на рубеже веков»[255]255
Котрелев Н. В., Лавров А. В. Переписка Блока с С. М. Соловьевым (1896–1915), «Литературное наследство». Т. 92: Александр Блок. Новые материалы и исследования. М., 1980. Кн. 1. С. 309.
[Закрыть]. Соловьев стал интенсивно писать стихи с 1898 г., переводил Г. Гейне и А. Мюссе, подражал Фету и вскоре направил свой путь в русло мистической поэзии Владимира Соловьева и блоковских Стихов о Прекрасной Даме. Именно Блоку он посвящает целый ряд стихотворений, как следующее, написанное в Дедове 13 июня 1899 г.:
Истертый в прах, подавлен миром,
Измучен пошлостью людской,
Склонился я перед кумиром
Своей презренной головой.
Но голос твой раздался ясно,
Меня воззвал из темноты,
И я увидел, что ужасно
Незнанье чистой красоты.
Я понял твой размах могучий
И дух мой с ним соединил,
И с ним теперь лечу над тучей,
Исполнен новых, свежих сил.
Об атмосфере, возникшей после первой встречи Блока с Андреем Белым в Москве в начале 1904 года, пишет А. В. Лавров:
«…мистический энтузиазм, роднивший гимназиста Соловьева со студентами Бугаевым и Блоком, был подлинным – настолько, что на его основе сложился на короткое время, в 1903–1904 гг., своего рода эзотерический триумвират соловьевцев»[256]256
Лавров А. В. «Продолжатель рода» – Сергей Соловьев. В кн.: Соловьев С. Воспоминания. М., 2003. С. 8.
[Закрыть].
Однако вскоре поклонничество в отношении ранней блоковской поэзии превратилось у Соловьева в неприятие последующего, зрелого творчества автора Балаганчика[257]257
О разных этапах отношений между Соловьевым и Блоком см. вступительную статью Н. В. Котрелева и А. В Лаврова к Переписке Блока с C. М. Соловьевым (1896–1915), цит., с. 308–324.
[Закрыть]. Соловьеву была присуща значительная доля мистического, визионерского фанатизма, и когда в поэзии Блока стали проявляться новые тенденции, явно противостоящие прежним заветам молодых соловьевцев, разрыв стал неизбежным
К этому надо добавить, что в тот же период, не без влияния нового ментора молодого поэта – мэтра русского символизма Валерия Брюсова, тематический и формальный диапазон творчества Соловьева стал расширяться. О разном характере поэзии Блока и Соловьева писали Н. В. Котрелев и А. В. Лавров. Они отмечали: «При всем сходстве первоначальных лирических импульсов Блок и Соловьев действительно в ходе творческого становления оказались на противоположных полюсах символистской поэзии, стали выразителями различных творческих принципов: у Блока преобладает музыка стиха, у Соловьева – пластика образа; у Блока на первом плане – субъективный мир поэта <…> у Соловьева – тяготение к передаче мира в его объективной данности; у Блока самодовлеющая лирика, у Соловьева – тяготение к эпике даже в лирических сюжетах»[258]258
Котрелев Н. В., Лавров А. В. Переписка Блока с C. М. Соловьевым (1896–1915), цит., с. 313.
[Закрыть].
Вдобавок Соловьев пережил некоторый идейный и творческий кризис (в биографическом плане он совпал с семейной драмой: кончина отца в последующее самоубийство матери в начале 1903 года), что я привел его к новому облику поэта-филолога. В его поэзии решающим стало динамическое противопоставление и слияние христианского мистицизма и тонического язычества, небесной и земной красоты. Как точно отмечает А. В. Лавров, «прообраз грядущей гармонии этих начал открылся Соловьеву в танце Айседоры Дункан»[259]259
Лавров А. В. «Продолжатель рода» – Сергей Соловьев, цит., с. 9.
[Закрыть], о чем он сам писал в заметке Айседора Цепкам в Москве 1905 г. и в стихах из первой книги Цветы и ладан:
Я помню пляску нимфы Диркейских струй
О, Айседора, рощ Эриманфских цвет!
В покрове из цветов весенних
Ты устремлялась к родному солнцу!
То резвым фавном, ствол приложив к губам,
Топтала стебли диких, лесных цветов;
То, наклоняясь к белой влаге,
Изнемогала в истоме сладкой.
То, позабывши шелест родных дубрав,
Хитоном красным нежную скрывши грудь,
Сменяла ты напев свирельный
Новыми гимнами арф небесных.
Ты заменяла родины злачный луг
Садами кринов и золотых плодов,
И полевые розы Мосха
Райскою лилией Фра Беато.
В заглавии своего первого поэтического сборника, вышедшего в 1907 г., Соловьев обозначил духовную антитезу одновременное двойное стремление. Как резюмирует М Л. Гаспаров, «…языческие цветы и христианский ладан сосуществовали в ней, не смешиваясь, а строго распределяясь по разделам»[260]260
Гаспаров М. Л. Сергей Соловьев. В кн.: Русская поэзия серебряного века. 1890–1917: Антология. М., 1993. С 271.
[Закрыть]
За разочарованием в поэзии Блока последовало сильное увлечение Соловьева поэзией и поэтический методом Валерия Брюсова, аполлоническим принципом его творчества и мировоззрения. В Брюсове Соловьев видел «поэта мысли, классика по форме, ученого изыскателя, организатора и практика»[261]261
См. процитированный А. Лавровым мемуарный набросок Соловьева Брюсов эпохи Urbi et orbi и Венка (1924): Лавров А. В. «Продолжатель рода» – Сергей Соловьев, цит., с. 10–11.
[Закрыть].
Именно Брюсов, вместе с Горацием, Ронсаром, Пушкиным, Крыловым, Баратынским и Вяч. Ивановым, указан Соловьевым среди главных образцов своей первой поэтической книги, которую Александр Блок резко определил как «справочная книга для поэтов»[262]262
См. статью А. Блока О лирике, напечатанную в Золотом руне (1907, № 6).
[Закрыть], в то время как Андрей Белый, в знак старой дружбы, отозвался о ней положительно и отметил: «образы его – аполлинический сон над бездной»[263]263
«Перевал». 1907. № 7. С. 58.
[Закрыть]. Суждение особенно интересное, если учесть, что Вячеслав Иванов приписал черты дионисийства поэзии Блока. Так получилось, что Блок и Соловьев оказались выразителями противоположных поэтических начал, что выразилось в конфликте между ними. Разрешение этого конфликта последовало с новым поворотом Блока (в 1910 г.) к религиозно-теургическому символизму, с его «возвращением в дом отчий».
Кумир молодого поэта, Валерий Брюсов, заметил, что поэзия Соловьева еще не вышла «за пределы перепевов и подражаний», а Цветы и ладан – «книга, быть может поэта, но еще не книга поэзии, а только книга стихов…»[264]264
Рецензия Брюсова напечатана в «Весах» (1907, № 5). Брюсов отметил также небезупречность формальной стороны поэтической книги Соловьева.
[Закрыть].
Теперь Соловьев не ограничивается воспроизведением позднеромантических и предсимволистских образцов, снискавшим ему в узком дружеском кругу известность наиболее правомерного соловьевца»[265]265
Вишневецкий И. Живые и «блистательная тень»: Трансформация образа Италии в поздней поэзии Сергея Соловьева. В кн.: Русско-итальянский архив. Trento, 1997. С. 357–358.
[Закрыть]: в его стихах заметно влияние поэзии Баратынского и Пушкина, философско-эдонической традиции, которую несколько лет спустя в новом кризисном состоянии сам Соловьев определил как «батюшковско-пушкинский волнизм»[266]266
В письме к А. К. Виноградову от 11 мая 1912. См.: Вишневецкий И., цит., с. 345.
[Закрыть].
Другой поэт-неоклассик, Борис Садовской, отметил, что Соловьев «должен быть причислен к числу виднейших представителей нео-пушкинской школы»[267]267
«Русская мысль». 1907. № 6. Отд. III. С. 107.
[Закрыть]; аналогичное мнение выразил позже Сергей Дурылин: «прекрасная ясность стала действительным достоинством его поэзии, ревность по строгой форме всегда была ему присуща»[268]268
Дурылин С. Луг и цветник: О поэзии Сергея Соловьева. «Труды и дни», 1914, тетрадь 7, с. 152.
[Закрыть]. Данный подход вернее передает весь смысл и значение поэтического творчества Соловьева, который в новой книге сказок и поэм Crurifragium (1908) счел нужным детально ответить на критику Александра Блока и любимого мэтра символизма, Валерия Брюсова.
Второй сборник стихов Соловьева, Апрель, посвященный Андрею Белому, вышел в 1910 г. и тоже был холодно встречен В. Брюсовым, который, среди прочего, отметил: «Он всё еще не нашел ни своего стиха, ни своего круга наблюдений, ни, главное, своего отношения к миру. У молодого поэта по-прежнему нет определенного миросозерцания, осмысливающего отдельные впечатления и объединяющего разнородные переживания»[269]269
Рецензия вышла в «Русской мысли» (1910, № 10).
[Закрыть].
Диалог-полемика продолжалась дальше. Соловьев напечатал третью книгу стихов, Цветник царевны (1913), где опять решил ответить Брюсову. И эта книга, как и предыдущая, свидетельствовала о напряженном поиске новых форм и тем, но «основы поэтики Сергея Соловьева» оставались «по-прежнему внутренно конфликтными и неустоявшимися»[270]270
Вишневецкий И., цит., с. 358.
[Закрыть].
На этот раз Соловьеву ответил не Брюсов, а другой критик, В. Шмидт, который, улавливая давние критические замечания Брюсова, так определил поэзию Соловьева: «В лучшем случае, ему удается недурно сделать стихотворение под того или иного поэта, т. е. передать своими стихами чужое “отношение к миру”. Но как только он покидает заимствованный канон и пытается настроить лиру на свой собственный лад – муза его беспомощно опускает руки»[271]271
«Русская мысль». 1913. № 10. Отд. IV. С. 367.
[Закрыть].
Вообще поэзию Соловьева критики объявляли «безжизненной амальгамой чужих мыслей, чужих изобретений»[272]272
«Современный мир». 1910. № 6. Отд. II. С. 103.
[Закрыть]; в ней разочаровался Гумилев, который определил стихи Соловьева как «то упражнения на исторические и мифологические темы, то неловкое наивничанье “под” старых поэтов»[273]273
Гумилев Н. С.Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 167.
[Закрыть].
Точное определение его первых поэтических книг предложил М. Л. Гаспаров, который писал: «Книги Соловьева читаются как антологии. Как Жуковский, только менее умело, он складывал свой художественный мир из чужих миров – у Жуковского переводных, у Соловьева подражаемых»[274]274
Гаспаров М. Л. Стих начала XX в.: строфическая традиция и эксперимент В кн.:Связь времен: Проблемы преемственности в русской литературе конца XIX – начала XX в. М, 1992. С. 351.
[Закрыть].
Итак, первые четыре книги Соловьева представляют собой сложное и противоречивое собрание поэтических испытаний и переосмыслений, которые живо вписаны в болезненное развитие биографии поэта. Если кратковременная идеализация крестьянско-народного мира обернулась любовью к девушке из народа (ситуация послужила Андрею Белому прообразом для сюжета Серебряного голубя[275]275
Об этом см.: Лавров А. В. Дарьяльский и Сергей Соловьев. О биографическом подтексте в «Серебряном голубе» Андрея Белого. В кн.:Лавров А. В.Андрей Белый. Разыскания и этюды. М., 2007. С. 105–129.
[Закрыть]), безответная влюбленность в будущую актрису Софью Гиацинтову довела поэта до психического расстройства и до попытки самоубийства 31 октября 1911 г.
Новый этап в творчестве Соловьева связан с новой фазой биографии поэта. Осенью 1912 г. поэт обвенчался с Татьяной Тургеневой (младшей сестрой Аси Тургеневой) и вместе с женой отправился в Италию.
Надо отметить, что Италия сыграла значимую роль в истории семьи Соловьева. Мать поэта, Ольга Коваленская, в 1879 г. училась живописи у художника флорентийской художественной Академии, для нее, по свидетельству сына, Италия стала «второй родиной». Сам Соловьев провел с семьей в Италии зиму 1890–1891 гг., побывав в Сорренто, Риме, Флоренции и Бордитере[276]276
Вишневецкий И., цит., с. 342–343.
[Закрыть]. Неудивительно, что путешествие по Италии, с которым связана многогранная и художественно зрелая поэма Италия (1914), стало поводом для полной переоценки ценностей и для внутреннего переосмысления своего искусства и его идейных основ, что и отразилось в оценке поэта своих предыдущих сочинений. Поэма Италия, написанная большей частью онегинской строфой, оказалась высшим результатом стремления Соловьева к «обретению концептуального поэтического единства». В ней реализовались его требования формальной точности и стихотворного разнообразия и, одновременно, динамика переосмысления его религиозных я философских убеждений. Поэтическое путешествие по Италии стало также стимулом для глубокого размышления о красоте я святости, о собственной жизни и о судьбах своей семьи:
Страна цветов! в мечтах влюбленных
Храню я, как заветный клад,
Твоих фиалок благовонных
Чуть слышный, легкий аромат;
Златовоздушные мимозы,
Вдоль стен виющиеся розы
И рощи пальм по склонам гор.
Их каждый год сечет топор
В священный дар, на праздник Рима.
Олива, искривись от мук,
Простерла узловатый сук,
В листве из голубого дыма.
В ее тени ронял Христос
Росу окровавленных слез.
Здесь мой отец мечтой упорной.
Забыв о настоящем зле,
От жизненной юдоли черной
Летел к своей святой земле.
И пели пальмы и маслины
Ему о рае Палестины
И трогали его до слез.
Не чаял он грядущих гроз
И брату слал привет любовный
На север, в темную Москву…
А тот, во сне и наяву
Горел идеею церковной,
За что его равно бранил
Безбожник и славянофил.
Неслучайно новый поэтический сборник, четвертый, вышедший в 1914 г., куда и вошла поэма Италия, получил название Возвращение в дом отчий, которое красноречиво указывало на возвращение поэта к подлинным истокам, семейным, христианским.
Сборник был посвящен другу отца поэта, епископу Трифону, и само посвящение засвидетельствовало о коренных изменениях в мировоззрении поэта. Это сильно отражено, например, в стихотворении В Галиции:
Там веры совершались чудеса,
Там ждет давно народ многострадальный,
Там нас зовут Богемии печальной
Приветливо шумящие леса.
В 1915 г. Соловьев принимает духовный сан и в феврале 1916 г. рукоположен в священники. Отказ от предыдущих философских убеждений, от языческого эдонизма, от любимого классика Гёте, от концепций неохристианства (от Мережковского до антропософии) отражен в его религиозной книге Богословские и критические очерки (1916).
В поэтической перспективе отмечается также значительная перемена, которая хорошо вырисовывается, если сравнить, например, поэму Италия с циклом Призраки Италии 1922 года. Классический контекст поэмы Италия, написанный еще верным поклонником Гёте, сменяется медитативным, элегическим тоном поэта-священника; холодную симметрию классических форм и идеалов сменяют платоническая тема дантевской VitaNuova и образ святого Франциска. Конечно, в данном переходе орошается и новый подход к русской классической поэзии. Теперь ощутимо влияние позднего, «религиозного» Пушкина, философской лирики Баратынского. Критикой указано и возможное знакомство Соловьева с Фракийскими элегиями В. Г.Теплякова[277]277
Вишневецкий И., цит. с. 362.
[Закрыть]. Интересно еще отметить, как комплексный образ Италии и ее духовный пласт важны для творческих и идейных тенденций позднего Соловьева, когда он редактирует незавершенный брюсовский перевод вергилиевой Энеиды, доводит его до конца (кн. VIII – ХII) и размышляет о значении и судьбе вечного города Рима (см. его стихотворение 1924 г. Эней у берегов Лациума).
Довольно трудно проследить дальше сложное и противоречивое развитие идейных и религиозных убеждений Соловьева, от «всплеска патриотизма и мессианических чаяний»[278]278
Лавров А. В. «Продолжатель рода» – Сергей Соловьев. Цит., С 19.
[Закрыть] военного времени, когда поэт еще отстаивает преимущество православия перед католицизмом, до восторженного восприятия католицизма (особенно после поездки 1915 г. в Галицию), когда он по стопам дяди, Вл. Соловьева, стал поддерживать примирение и сближение церквей. Чуть позже, после Февральской революции, Соловьев стал призывать к воссоединению церквей во вселенской церкви, к восстановлению единства с Римом. Победу большевизма Соловьев истолковал как торжество антиевропейских и антихристианских начал. В этой перспективе он не мог приветствовать скифство и восприятие Блоком и Белым русской революции, как не мог приветствовать и новые славянофильские настроения в русской духовной культуре. После окончания Духовной академии в 1918 г. Соловьев переселился в Саратовский край, где жил и служил два года. Об этом периоде он писал в поэме Чужбина (1922). После переезда в Балашов произошел окончательный распад семьи: жена его бросила, и Соловьев вернулся в Москву один. Здесь в 1920 г. он не без долгих колебаний принял решение перейти в католицизм и вошел в общину католиков восточного обряда[279]279
О Соловьеве и католицизме см.: Смирнов М. Последний Соловьев. Главы из книги. «Russian Studies». 2001. Т. III. № 4.
[Закрыть]. После кратковременного возвращения в 1921 г. в лоно православия, в 1924 г. Соловьев окончательно переходит в католицизм и становится католическим священником восточного обряда. Дочь поэта Наталья Сергеевна отмечает: «Силу выдержать все испытания давала религия. В начале 20-х годов Соловьев перешел в католичество, которое воспринималось как сохранившаяся твердыня веры. Католические священнослужители подвергались жестоким гонениям, и перемену конфессии в такое время можно понять как стремление к мученичеству. В 1926 г. С. М. Соловьев становится вицеэкзархом греко-католиков, главой официально не зарегистрированной общины в Москве. При этом “западником” он не стал, сохраняя веру во Вселенскую церковь и особое предназначение России»[280]280
Соловьева Н. С. «Штрихи к портрету отца». В кн.: Соловьев С. М. Стихотворения (1917–1928). М., 1999. С. 5–6.
[Закрыть].
В стихотворении 1918 г., обращенном к А. В. Карташеву, Он не лжет – этот ангел на площади града Петрова…, Соловьев, как точно отметил И. Вишневецкий, синтезирует собственную историософскую концепцию, которая лежит в основе его искусства и мировоззрения, явно проектируется в его биографии[281]281
Об этом стихотворении см. статью Г. Струве. Об одном стихотворении Сергея Соловьева. «Мосты». Вып. 10. Мюнхен, 1963. С. 179–184.
[Закрыть]. История у Соловьева – динамическое противопоставление «хтонического, природного, и мироустроящего, государственнического начал» (тут явное влияние позднего Пушкина, Медного всадника); собственное участие в истории воспринято Соловьевым как «странствие или путь в образах троянско-энеевского мифа» и, наконец, восприятие Рима – как «первого и главного исторического основания вселенской Теократии»[282]282
Там же. С. 354–355.
[Закрыть].
Отсюда у Соловьева органическое понимание творчества и жизни в их разных проявлениях. Отсюда его экуменический пафос, который до известной степени сближает его с Вячеславом Ивановым на основе идей Владимира Соловьева[283]283
«Символ». 1993. № 29. С. 249.
[Закрыть], идеализация Рима, что подтверждается аналогичными интересами обоих поэтов в области классической филологии, изучения античного и христианского наследия, эстетики античного театра.
Что касается дальнейшего собственно творческого пути Соловьева, помимо преподавания античной литературы в Брюсовском институте и потом в Московском университете, он примыкает к группе московских «неоклассиков» (А. Эфрос. К. Липскеров. С. Парнок и др.), участвует в альманахе Лирический круг (М., 1922), куда вошел его отклик на смерть А. Блока, стихотворение Стирфорс (герой романа Диккенса Жизнь Дэвида Копперфильда) с намеком на роль Блока в его жизни. Последняя прижизненная публикация стихов Соловьева появилась в альманахе Никитинские субботники в 1926–1927 гг. Одновременно он все интенсивнее занимается прозой, много переводит из античных (Сенека, Вергилий, Эсхил и т. д.) и из новых авторов (от Шекспира до Гёте и Мицкевича). В 1923 г. он заканчивает фундаментальный труд о дяде, Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева, который был опубликован лишь в 1977 г. в Брюсселе. В то же время он занимался писанием мемуаров. Известные его Воспоминания об Александре Блоке были напечатаны в 1925 г. в Ленинграде в книге Письма Александра Блока.
Дальше Соловьев, как католический священник, был отстранен от преподавания и в феврале 1931 г. арестован и приговорен к 10 годам лагерей с заменой на ссылку в Казахстан. Из-за тяжелого психического состояния и благодаря ходатайству Максима Горького он был перевезен в психиатрическую больницу недалеко от Москвы (ст. Столбовая), позже перешел в больницу имени Кащенко. В августе 1941 г. он был эвакуирован в Казань, где и скончался 2 марта 1942 г.








