Собрание Стихотворений
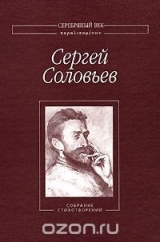
Текст книги "Собрание Стихотворений"
Автор книги: Сергей Соловьев
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 27 страниц)
Три девы (с. 646). Капитолий – один из семи холмов, на которых возник Древний Рим. На Капитолии находился Капитолийский храм, проходили заседания сената, народные собрания. Тибулл Альбий (ок. 50–19 до н. э.) – римский поэт. Основное содержание его любовных элегии – мечты о деревенской идиллии. Проперций Секст (ок. 50–15 до н. э.) – римский поэт, основоположник элегического стиля. Тибур (ныне Тиволи) – город в Италии, известен с IV в. до н. э., расположен в области Лацио, близ Рима. Веронский певец – Катулл. Игемон – правитель, высший чиновник в Древнем Риме, который назначался к наместнику провинций из значительных лиц и должен был заботиться о доходах казны и разбирать гражданским порядком разные дела. Авентин – один из семи холмов, на которых возник Древний Рим. Согласно преданию, на Авентин удалялись плебеи в период борьбы с патрициями. Квиринал – один из семи холмов, на которых возник Рим. Тибр – река, на которой стоит Рим. Арка Траяна – часть Форума в Риме, центра общественной и политической жизни; представляет из себя парадный архитектурный ансамбль, включавший триумфальные арки, в т. ч. арку Траяна. Скрижали (библ.) – каменные доски, на которых были написаны десять заповедей. Юноша рядом стоит, золотыми сияя власами… – апостол Иоанн: «Иисус, увидев Матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит…» (Иоан. 19, 26). Сатиры – в греч. мифологии лесные божества, демоны плодородия в свите Диониса.
…Афродита… со свитой божественных граций – в греч. мифологии богиню любви и красоты, родившуюся из морской пены, сопровождали юные хариты. В римской мифологии этих богинь красоты, изящества и радости называли Грациями. Роспись на сундуке Хрисиллы – библейский эпизод о сыновьях Иакова и гонении ими самого любимого – Иосифа (Быт. 37). Шуйца – левая рука. Чресла – поясница, крестец, часть тела над тазом. Ложе Тифона покинув, Эос… – Тифон (Титон), в греч. мифологии божество света, «полдень», «начало конца дня»; отец Мемнона и Фаэтона, супруг Эос, которая, полюбив Тифона, унесла его на Олимп, попросив для него у Зевса бессмертия, но забыв о вечной молодости, поэтому Тифон состарился.
[Закрыть]
Н. П. Киселеву
Пролог
I
Последним, роковым ударом
Грозит грядущее. Близка
Заря тех дней, когда labarum
Поднимут римские войска.
Забыть алтарь. Иссякла вера,
И нет доверия к богам.
На алтарях твоих, Венера,
Оскудевает фимиам.
На обесчещенном престоле,
Верша вселенские судьбы,
Сквернят священный Капитолий
Вчера наемные рабы.
Бушует войско. Пехотинцы
И всадники, окончив бой,
Добро разграбленных провинций
Открыто делят меж собой.
И планы будущего чертят,
И, обступив толпою трон,
По произволу в пальцах вертят
И скиптр, и золото корон.
Напевам муз закрылось сердце.
Певец лугов и деревень,
Угас Тибулл; в раю Проперций
Ласкает Кинфиеву тень.
Бунтов и войн грохочут бури,
Ожесточаются сердца.
Забвенья плющ повис в Тибуре
На гроб Веронского певца.
Над ним синеет свод лазурный,
В сиянье вечном торжества;
И с сиротеющею урной
Печально шепчется листва.
Дряхлеет Рим. Усталость давит,
И седины его – белей.
Но старец ожил: шумно правит.
Тысячелетний юбилей.
Темнеет вечер. Город – ярок,
К веселью праздника готов.
Везде обвили своды арок
Гирлянды пестрые цветов.
В пурпурной, бархатной завесе,
С тяжелым золотом кистей,
Рабы несут в главе процессий
Носилки царственных гостей.
Алтарь увенчан, над которым
Встает курений синий столб.
Театры, цирки, храмы, форум
Полны кипящих, буйных толп.
И говор их разнообразный
Чреват предвестьем близких бед.
Ликуй же, Рим! Ликуй и празднуй
Века блистательных побед.
II
По долине, осенним туманом увитой,
Погоняя коня, через холм, через ров,
Окруженный отборной, воинственной свитой,
Проезжает иге мон, по имени Пров.
Чуть поляна ущербной луной серебрима;
Там, где купол небесный с землею слился,
Над стенами и башнями черного Рима
Разноцветным сияньем полны небеса.
От веселого праздника мчится зачем он?
Добрый конь изнемог; в белой пене – узда.
Повелением Цезаря послан иге мон,
На разгром потаенного, злого гнезда.
Их приют сокрушится, по ветру развеян:
Истребится огнем, истребится ножом.
Уж довольно отверженный род Галилеян
Тишину государства смущал мятежом.
Конь бежит, погоняемый плеткой шелковой,
Чрез ручьи, по опавшим осенним кустам,
Бьет копытами пыль, и грохочет подковой,
Пролетая, как ветр, по чугунным мостам.
Конь вздыбился, и стал. «Отдохни, ты устал,
Пробираясь кремнистой тропой».
Молвил Пров, и коням, по песку и камням,
Дал идти и начать водопой.
Все, сошедши с коней, отдаленных огней
Любовались блестящим дождем.
«Здесь навалимте дров, и у жарких костров
До рассвета зари подождем».
И, прохладным дыханием ночи бодрим,
Утомленный поспешной ездой,
Пров смотрел с высоты на ликующий Рим,
Где взлетали звезда за звездой.
Свет уж сумерки гнал. Мир кругом начинал
От ночной просыпаться дремы;
И игемон узнал Авентин, Квиринал,
Проступавшие ясно из тьмы.
Далеко, за стеной кипарисов зубчатой,
Где над Тибром жемчужный склоняется грот,
Груды камней лежат, кирпичей, для начатой,
Но походами прерванной, стройки ворог.
И, пурпурным, рассветным лучом осиянна,
Отеняя заросший кустарником склон,
Возвышается гордая арка Траяна,
И красуется мрамором белых колонн.
А за градом, кругом прихотливых извилин
Полноводного Тибра, за черным мостом,
Простирается дол, виноградом обилен,
Золотясь и краснея осенним листом.
И подумал игемон: «уж время, я тронусь,
Призывая в защиту богов и богинь».
Кипарисов надгробных чернеющий конус
Уходил в лучезарную, знойную синь.
На востоке заря разливалась пожаром,
В догоревших кострах чуть краснели дрова,
И ущелье клубилось предутренним паром,
И холодной росой серебрилась трава.
Книга первая
Малый стоял монастырь недалече от города Рима,
Спрятан глубоко в саду, возвышаясь стенами над морем.
Кельи везде окружала густая тенистая заросль,
Даже в полуденный зной разливавшая в окна прохладу.
Древнею ветхой стеной замыкались зеленые рощи;
Мохом стена поросла; в черепицах роилася плесень,
Цепким побегом плющи обвивались по мшистым карнизам.
Сыро было в саду, и пахло цветами и гнилью.
В темной глубокой траве плоды перезрелые тлели,
Фиги и персики; сорной травой зарастали тропинки.
К морю извилистый путь пролегал по глубоким пещерам,
Мшистым, обрывистым, врытым в бесплодных, желтых утесах.
Там по камням раскаленным чудовищный, лапчатый кактус
Стлал широкие, твердые, иглами колкие листья.
Скудный сочился ручей из отверстий жемчужного грота.
Берег тянулся морской, цветными камнями усыпан,
Множеством раковин дивных, медуз, кораллов, полипов,
Трупами гадов морских, попавших с рыбами в сети.
Море синело безбрежно, вскипая серебряной пеной,
И в беспредельность летела крыла распластавшая чайка.
Женский тот монастырь состоял под началом Софии,
Старицы праведной; несколько с ней добродетельных постниц
Там укрывалось, Христу угождая постом и молитвой.
Девы писали иконы, гимны играли на арфах,
Золотом ткали по шелку, и шили парчовые ризы.
В кельях ладаном пахло; горели желтые свечи.
В красном лампад хрустале густое янтарное масло
Теплилось ночью и днем, освещая ясные лики;
Из кипарисного дерева крест возвышался над ложем;
Веяло благостным миром в просторных девических кельях.
В третьей весне потерявши родителей, граждан богатых
Города Рима, игуменье старой Анастасия
Дочерью стала приемной, и выросла в вере Христовой.
Вот восемнадцатый раз свой круг совершили светила,
С дня как родилась прекрасная Римлянка Анастасия.
Тяжко было челу от бремени кос золотистых,
Влага очей изумрудных дышала желаньем и негой.
Губы, как два лепестка, розовели, налитые соком.
Розою нежная грудь круглилась под черной одеждой,
Тело ее облекавшей до ног – серебряных лилий.
Рано вставала она; с сестрами шла на молитву;
В полдень к общей трапезе сходилися сестры; немного
Темных оливок вкушала Анастасия; с елеем
Хлеба пшеничного. После, трапезу окончив, друг другу
Сестры давали потир деревянный, до самого края
Полный багряным вином, утоляющим жажду, и тело
Силою дивной крепящим. Затем по тенистому саду
Девы гуляли свободно, пока почивала София.
Часто, забравшись туда, где погуще мглистые тени,
Косы расплетши, дремали, раскинувшись в заросли травной.
Солнце склонялось над морем; тогда в прохладные кельи
Сестры шли за работы свои приниматься. Порою
Вместе садилися ткать на высокой каменной кровле,
Иль на площадке, откуда видно лазурное море.
Пели хвалы Иисусу, апостолам, Деве Марии.
Тихий звон созывал на молитву вечернюю. После
Краткой трапе зы, приняв от игуменьи благословенье,
Девы ко сну отходили, на ложа из жесткой соломы.
Спали кто по три, а кто по четыре в объемистой келье.
Две сестры обитали с прекрасною Анастасией.
Дочь рабыни восточной, кудрявая дева Фалоя,
С медным цветом лица и черным пламенем взора.
Губы краснели ее, как будто насыщены кровью.
Тайно любила она в фиалкотемные кудри
Пышные гроздья вплетать и густые венки анемонов.
Часто к молитве была неприлежна. Меж тем как подруга
Дремлю по кельям, вдыхая прохладу божественной ночи,
Тихо Фалоя дойдет до дверей, и без верхней одежды
В сад благовонный скользнет, освещаемый полной луною.
Там срывает она виноградины с лоз отягченных,
Персика плод золотой, покрытый розовым пухом.
Плод подносит к устам, и кажется ей, что не персик
Трогает губы ее, а другие влажные губы
Отрока нежного льнут к ее устам воспаленным.
Лозы обнимет она, и опустит ресницы, и чует
Сладких ягод упругость, прижатых крепкою грудью.
Гроздья ее холодят, скользя по спине обнаженной.
Или в траву упадет ослабшим, пламенным телом,
Чьих-то объятий ища; но земля – холодна, безответна.
Вдруг, вскочивши, как зверь, побежит по тенистому саду,
Тунику сбросивши с плеч, и янтарно-смуглое тело
В страсти бесстыдно открыв для луны леденящих лобзаний.
Прыгает дико и стонет. Таков леопард разъяренный,
Если его уязвят не до смерти железной стрелою.
Гроздья роняя из синих волос и топча их ногами,
Мчится Фалоя к пещерам, и воплями в каменных гротах
Будит ответное эхо; ступни о кактус колючий
Ранит, и сок виноградный, смешавшись с теплою кровью,
Капля за каплей, сочится на камни холодной пещеры.
Ветер влажный повеял в лицо Фалое, и в море
Прядает дева с разбега, и черную, сонную влагу
Мощными делит руками. Сначала цепкие ноги
Трогают гладкое дно и шевелят пальцами камни,
Скоро до дна не достать. Под ней бездонная бездна
И над ее головой бездонная звездная бездна.
Черные кудри Фалои, соленой насытившись влагой,
Жадно, как змеи, облипли шею, спину и плечи.
Дышит прерывисто грудь; лучи луны серебрятся
В черных звериных зрачках, увлаженных томною негой.
В царстве влаги свободной, как рыбе, привольно Фалое.
Третья в келье жила ясноокая дева Хрисилла.
Взор безмятежно бездумный казался фиалкой лучистой,
Бледной фиалкою северной; гладкие кудри, с отливом
Нежного золота, были похожи на связку колосьев.
Многим казалось: вкруг них ореол излучался воздушный.
Вечно молчала она и как будто душою внимала
Хорам духов бесплотных и райским сладостным лирам.
Грустная часто улыбка в устах сияла сомкнутых.
Мнилось, что эти уста хотят рассказать о блаженстве
Рая, о том, как мгновенны, ничтожны страданья земные.
Весь ее лик лучезарный казался чашей лилеи,
Эмблемой плавно на стебле высоком; и лоб белоснежный
Был ослепительно чист – скрижаль святого глагола.
В матовых, детских губах как бы приметно белела
Манна небесная – след невещественной ангельской пищи.
Если ходила она, то не шаг человеческий – шелест
Слышался веющих крыл херувимских и зыбких покровов.
Сядет под вечер Хрисилла на каменной кровле, к перилам
Низким прислонится, смотрит на рдяное тихое море.
Там на границе небес и воды серебряный парус
Реет в безбрежность; над ним кружится белая чайка.
Парус и чайка исчезли; растаял розовый облак.
Ветер свежий подул. Хрисилла, звучную арфу
Взявши, играет на ней Христу вечерние гимны;
Смотрит на дымное облако, где разливается пламя,
Залежи золота рдеют, края легко серебрятся,
Ползают черные змеи, свиваясь в серебряном блеске.
Там рисуется ей знакомый ласковый образ,
В терпком, терновом венце, забрызганном каплями крови.
Полны любви несказанной его глаза голубые,
Губы сухие раскрыты в молитве за мир. И в ладони
Черные гвозди, как жабы, въелись, кругом червленея.
Кто-то копье протянул, с пропитанной оцетом губкой.
Юноша рядом стоит, золотыми сияя власами,
В красном плаще, и рукою держит согбенную матерь.
Звуки арфы замолкли; Хрисилла смотри недвижно,
С кроткой улыбкой в губах, на которых тает молитва.
Кто-то обнял ее, и Хрисилла Анастасию,
Более прочих сестер любезную сердцу, узнала.
Нежно прижалась к ее голове и шептала: «ты видишь?
Видишь, Анастасия, там, на облаке рдяном?» —
«Вижу», – провеяло с уст подруги. – «Какие страданья
Могут тебя устрашить, от него заставят отречься?» —
«О, ты знаешь, сестра, невозможны страданья такие!»
– «Сласти ль тебя соблазнят? Утехи брачного ложа?
Пытки: колеса, ножи, железные лапы, стругала,
Плоть терзая твою?» – «Ничто, ты знаешь, Хрисилла:
Мы уневестились обе Христу – Жениху» – «Для чего же
Негой желанья твои так часто подернуты очи?
Томно раскрыты уста? Сестра, ты молишься мало,
Дьявол тебя посещает». – «Бессильны пост и молитва».
– «Жарче и чаще молись. Побеждай вожделения плоти,
Грешное тело терзай, бичуй, Христовому телу
Сораспинаясь». – И, крепко обнявши Анастасию,
Арфу другою рукой подняла Хрисилла, и звуки,
Память о рае блаженном будившие, нежно запели.
Розовый солнечный сад зацветал далёко над морем.
Там, в прозрачном дыму золотые вставали колонны,
Синие дымы бежали с кадильниц, и храм многостолпный
Таял в багряных парах. И всё смесилось. Угасло.
Бледной лампадой луна всплыла над темной пучиной.
Плесенью пахло сырой из сада. Луна через листья
Сеяла матовый блеск. Дерева молчали без ветра.
«Где ты, Анастасия? – раздался голос. Фалоя
Снизу кричала. – Поди перед сном прогуляться немного.
Завтра сбор винограда. Чуть свет подыматься велела
Мать игуменья». В сумрак древесный Анастасия
Робко взглянула. Как будто ночь сырые объятья
Ей простирала оттуда, дыша гнилыми плодами,
Цепко лаская ее тяжелыми ветками. В мраке,
Спрятаны сорной травою, резко белели черепья
Статуй разбитых. Когда игуменья старица Софья
Здесь монастырь учреждала, нашла в саду кипарисном
Мраморных много кумиров; тут были: и фавн козлоногий,
С легкой цевницей, и нимфы, белевшие девственным роем;
Та уклонялася телом нагим от объятий сатира,
Та под свирель пастуха плясала на злачной поляне,
Та с белорунной козою играла, упавши под древом.
Там Афродита белела со свитой божественных граций;
Падали тяжко на мрамор синие гроздья. И с луком,
В легком плаще откидном, красою блистающий Делий
Мчался как ветер, гонясь за стыдливорумяною Дафной.
Тотчас велела игуменья мерзких богов изваянья
Все перебить и места, на которых стояли кумиры,
После молитв, окропит обильно святою водою.
Мохом теперь черепки зарастали, но всё же возможно
Было порой различить кусок божественной груди,
Пышных осколок кудрей, половину разбитой цевницы,
С мраморным пальцем и ногу, плющом перевитую гибким.
Анастасия хотела идти к синекудрой Фалое,
Но, улыбаясь, Хрисилла на плечи ей тонкие руки
Вдруг положила и тихо сказала: «адские бесы,
Жившие в статуях мраморных, пользуясь тишью и мраком,
Могут возникнуть теперь и навесть на тебя наважденье.
Много осталось от них черепьев: нечистая сила,
Верно, гнездится в осколках. Сберем их завтра поутру.
Выбросим в море. Тогда очистится сад монастырский,
И безопасно в нем будет ходить во всякое время».
Тут послышался звон, призывавший к вечерней трапезе.
В трапезной много толпилось сестер. В углу, пред лампадой
Стоя, игуменья тихо, вполголоса пела молитвы
Передтрапезные. Стол, накрыт белоснежною тканью,
Был от стены до стены. Вода в объемистой урне,
Для омовения рук, стояла у двери, и рядом,
Шитые шелком пурпурным, на длинном гвозде полотенца
Были повешены. Вкруг стола устланные ложа
Длинным рядом тянулись, на крепких ножках дубовых.
Были пред каждым прибором долбленые узкие чаши
Из кипариса, а также солонки с крупитчатой солью.
В медной корзине горой золотые навалены хлебы,
Уксус – в хрустальном сосуде, с оливами плоские блюда.
Сквозь растворенные окна темнели далекие пальмы,
И серебрилось луной фиалковидное море.
Старица, кончив молитвы, приблизилась к главному ложу,
Хлеб, оливы, вино осенила знаменьем крестным.
Девы молча вкушали плоды, и, разбавив водою
Сок виноградный, к устам подносили долбленые чаши.
«Завтра, – так начала игуменья, – все на рассвете
Встанем, любезные дочери! и, помолившись, приступим
К жатве кистей виноградных. Серпы отточите заране,
Чтобы под их остриями свободно падали ветки.
Гроздья в кучи сваливши, мы сложим в каменном гроте;
Будем из ягоды сладкой сок выжимать благовонный
И наполнять хорошо осмоленные, полые бочки.
На зиму нужно запас вина изготовить, чтоб было
Тело чем подкрепить и душу в тайне Христовой.
Лучший от Господа дар вино виноградное: сердце
Радостью полнит оно, и врачует во всякой болезни,
Если его принимать разумно, согласно природе.
(Только излишество вредно, к греху приводя неуклонно.)
Сам Господь Иисус Христос от лозы виноградной
Часто вкушал, и другим вино вкушать заповедал,
В образ его положив своей божественной крови,
Наших ради грехов пролиянной на дереве крестном».
«Мать! – воскликнула тут чернокудрая дева Фалоя: —
Если Господь освятил лозу виноградную, что же
Ты пеняешь, когда убираю я черные косы
Листом зеленым лозы и обильными соком кистями?»
Ей отвечала София, взглянув исподлобья: «Бесстыдной,
Верно, ты родилась и до смерти пребудешь, Фалоя!
На смех старухе такие слова ты сказала! Хрисиллу,
Милую дочку, спроси, коль впрямь тебе непонятно,
В чем упрекаю тебя, когда в стенах монастырских,
Сея соблазн меж сестер, наподобие пьяной менады,
Жрицы бесовской, ты рядишь цветами и зеленью косы.
Место ли здесь наряжаться и холить грешное тело?
Душу свою облекай одеждой нетленною веры,
Подвигов добрых цветами укрась. А меж тем, в наказанье
Дерзости новой твоей, я пост обычный усилю:
Только единожды в день приступать позволяю к трапезе».
Так говорила София. Меж тем кончалась трапеза.
После прощальных молитв на сон грядущим, София
Стала прощаться с сестрами, давая всем целованье,
И, на костыль опираясь, к своей направилась келье.
Встали Фалоя тогда, розоустая Анастасия
И доброзрачная дева Хрисилла. Аллеею темной
К кельям тесовым пошли, в глубину кипарисного сада.
Комната дев озарялась одною неяркой лампадой,
Свет разливавшей на лик Пречистой Девы Марии.
Став на колена пред образом, долго молилась Хрисилла;
Луч лампады дробился в ее фиалковых взорах.
Камень четок сжимали прозрачные, тонкие пальцы.
Эти четки София дала Хрисилле в подарок,
В день как исполнилось ей пятнадцать лет. На шелковой
Нити нанизаны были различной формы каменья,
Крупные, малые, круглые, продолговатые; цвета
Разного все: краснели морские кораллы, а рядом
Были янтарь, изумруд и много светлых жемчужин.
Ценные камни Хрисилла, молитву шепча за молитвой,
Двигала. Пламя лампады меж тем приметно бледнело
И умалялось; потом, с шипением легким, угасло.
Синий дымок взвился с фитиля и растаял. Хрисилла
Встала с колен и пошла к устланному ложу. Нагнувшись,
Из-под постели достала ларь деревянный, тяжелый,
Весь полированный, сверху окованный яркою медью.
Ящик был обведен кругом искусной резьбою:
Вкруг обвивались древесные ветви, гирлянды и змеи,
Резаны в дереве черном. На крышке, медью обитой,
Выведен хитрый рисунок: под сенью ветвистого дуба
Стадо лежало ягнят; сыновья Иакова в разных
Позах стояли: кто на пастуший опершися посох,
Срезанный в чаще недавно, еще местами зеленый;
Кто прислонившись к стволу густолистного дуба; кто руку
В белое агнца руно погрузив; кто могучие руки
Важно скрестив на груди, кто глаза потупивши долу;
Кругом обстали они прекрасного отрока; бедный,
Плакал он горько, глаза закрывая нежной ладонью.
Вплоть до колен доходила одежда расшитая; пряжкой
На обнаженном плече скреплялась она золотою.
Тут же, вокруг двугорбых верблюдов, измаильтяне,
В пышных одеждах, толпились. Один со спины у верблюда
Снял драгоценную кладь – набитый товарами ящик,
Вынул мешочек шелковый и сыпал жадной рукою
Денег кружки золотые в пригоршню старшему брату.
А в отдалении горы сияли; кудрявились купы
Пальм низкорослых, и небо синело кусками эмали.
Этот прекрасный рисунок, от времени сильно пожухший,
Лаком вновь навела розоустая Анастасия,
И прозрачными красками дивно везде расцветила.
Выставив ларь из-под ложа, Хрисилла медную крышку
Приподняла, и, нагнувшись, подперла ее головою.
Вынула сверху лежавшие, золотом тканные ризы,
И высокий сосуд подняла, с засмоленною пробкой.
Шуйцею дно охвативши, стала ногами на лавку,
И, из светильни фитиль свободною правой рукою
Выправив, свет заняла от свечи из янтарного воска;
Вынула пробку, сосуд наклонила, и осторожно
В чашу лампадную стала струю елея густую,
Капля за каплей, вливать, стараясь не переполнить
Емкость сосуда. Огонь засиял; и оливковым маслом
В келье запахло. Хрисилла, вложивши бережно пробку
В устья сосуда, назад отняла и в ларец положила.
Ризами снова накрыла, и, медною крышкой замкнувши,
Вдвинула тяжкий ларец под свое устланное ложе.
Анастасия меж тем корыто из крепкого бука
Чистой водой наполняла, чтоб в нем совершать омовенье.
К ложу поставила, села, и, ноги спустивши с постели,
Кожаный стала ремень разматывать, вплоть до колена
Ей доходивший, к ступне прикреплявший подошву. Фалоя,
Косы пред сном расплетая, в кусок полированной меди
Долго, прилежно гляделась. Фиал с граненою пробкой,
В поясе спрятанный, вынула, и, подошедши к корыту,
Несколько капель душистых влила, и, сбросив сандальи,
Ноги свои полоскать принялась, задевая игриво
Ноги Анастасии и брызгая на пол дубовый.
«А не на шутку сегодня игуменья мать рассердилась.
Знает сама, что права я. Сознаться не хочет и злится». —
«Будет, Фалоя! За дело, за дело тебе наказанье:
Стыд потеряла ты всякий». – «Послушай, Анастасия!
Матушка любит тебя, ни в чем тебе не откажет.
Ты испроси у нее для меня прощение. Шутка:
Голодом хочет старуха меня уморить». – «И за дело!» —
«Ну, по глазам твоим вижу, что ты замолвишь словечко
Ей за меня». – «И я попрошу, – сказала Хрисилла. —
Спи, и не бойся, Фалоя. У матушки доброе сердце.
Только тебя испугать она хотела, трапезы
Сладкой лишая». И тихо на ложе склонилась Хрисилла,
Тканью накрылась сребристой, и ясные очи смежила,
Завесы длинных ресниц опустив на бледные щеки.
Книга вторая
Девы шумели по саду, блеща голубыми серпами.
Здесь и там из листвы виноградной и гроздьев багряных
Смех серебристый звенел и вились умащенные косы.
Те золотою короной сквозили меж веток зеленых,
Те обвивали стволы и побеги свободным извивом.
Белые пальцы одной держали ягоды грозда,
Острым другая серпом отягченную ветвь подрезала.
До края были наполнены ягодой сладкой корзины,
И от груд винограда ломились дубовые скамьи.
Всюду звенели серпы, и сочились теплые капли.
Можно бы было сказать, что розы, с подземного корня
Вдруг оторвавшись, войну объявили соседственным лозам
Тщетно лоза обвивает стебель цветочный. Шипами
Вся изъязвленная, никнет, роняя мутные слезы.
Так серпоносные девы кололи гибкие сучья,
Бремя тяжелых кистей стряхая и брызгая соком,
Треск ходил по всему сырому, темному саду.
Скудный луч, проникая во мрак сквозь древесную заросль.
Гроздья слегка золотил и играл на румяной ланите.
Синие очи слепил, в золотые просеясь ресницы.
Знойная просинь пылала в просветах ветвей кипарисных.
В зелени черной плодов золотые и красные слитки
Грузно висели. В траве, меж корнями поросшей, глубокой.
Легкий точа аромат, цвели лесные фиалки,
Синие слезы дриад, обитающих в дуплах древесных.
Полную гроздьев корзину держа на плече, по тропинке
Шла чернокудрая дева Фалоя. Спустилася на лоб
Прядь непослушных волос, отливающих глянцем лиловым.
Были раскрыты зрачки широко, и под мутною влагой
Блеском горели сухим, утомленные страстною негой.
Влажноянтарной рукой она держала корзину.
Медленно шла, чтобы ягод не высыпать. Черной одежды
Подняты были края, и ноги ее до колена
Были крепким ремнем охвачены. Икры тугие
Вздулись меж цепких ремней, отягченные пленом сандалий.
В грот вступила она. Там, на полу деревянном,
Были навалены копны зеленых и исчерна-красных
Ягод. В досках на полу просверлены частые дыры
Были, чтоб сок протекал в под землею стоящие бочки.
Снявши корзину с плеча и ее опрокинув, Фалоя
В колокол стала звонить, на сучке, у входа висевший.
Девы с корзинами полными к ней устремились толпами.
Тяжко дыша и со лба утирая соленые капли,
Ягоды все из корзин высыпали в общую кучу,
Плотно отверстья забив и пол до края усыпав.
«Все ли в сборе?» – «Не все». – «Кого не хватает?» – «Кариста?»
«Здесь». – «Стагира?» – «Пошла за водою на берег залива,
Для омовения ног!» – «А где же Анастасия?»
«Нет и Хрисиллы?» – «Фалоя, куда девались подруги?»
Говор такой раздавался под сводом жемчужного грота.
В это время в дверях показалась Анастасия,
В золоте кос благовонных запутался лист изумрудный,
Сор от древесной коры и несколько ягод. Высокий,
Гроздьями полный кувшин, с изукрашенной медною ручкой
Держит на круглом плече розоустая Анастасия;
Томно вращает она шары изумрудные ока,
Девственных губ лепестки не скрывают жемчужные перлы.
В желоб долбленый меж тем наливали прохладную воду,
Ноги омыть перед пляской на гроздьях. Тотчас сандальи,
Пряжкой медной звеня, полетели с ног разрешенных.
В угол их навалив, одежды поддернувши, девы
Стали ступни полоскать в корыте из крепкого бука;
За руки дружно взялись, и, в тени сверкая ногами
Белоколенными, прямо вступили в глубь винограда.
Ноги их потонули в высоко наваленных гроздьях;
Быстро намокла одежда, поднятая выше колена.
Тут одна из сестер воскликнула: «Так невозможно!
Платья мы вымочим все, разорвем ветвями туники.
Скинемте лучше одежды! Тогда свободней, быстрее
Будут движения наши, и ткани останутся целы».
Ей сказала в ответ розоустая Анастасия:
«Грех нагими при солнце плясать. Золотыми устами
Нас зацелует оно, коли мы наготу обнаружим».
Тут прервали ее: «Не дело, Анастасия,
Ты говоришь. Не похвалит нас игуменья верно.
Если мы явимся к ней в раздранных, мокрых хитонах».
Все согласились и им покорилась Анастасия.
Девы сложили у входа верхние черные ризы.
Легкие белые ткани одни завязали у бедер,
Сбросили вовсе другие, а третьи, как полотенцем,
Чресла свои препоясали. Солнца стыдясь золотого,
Анастасия узлом над коленом скрепила тунику.
В глубь виноградной горы, рассыпая сладкие брызги,
Кинулись девы и начали шумновеселую пляску.
Сучья трещали, ягоды лопались. Мутной струею
Скоро закапали гроздья, сочась в отверстия пола.
В синебагряных волнах ныряли неистово девы,
Ветер по гроту ходил; кружились ткани и кудри.
Часто до пояса девы в шипящие, пенные копны
Вдруг погружались, и вновь возникали в серебряной пене,
Текшей по бедрам, ногам, проникавшей под нежные ногти;
Сучья царапали их, раздражали касаньями кожу.
Воздух от винных паров помутнел. В углублении грота,
Точно чудовищный зверь, чернея, лежали одежды.
Анастасия в тунике, промокшей от пота и ягод,
В изнеможенье плясала. Круги всплывали во взорах.
Крепко обнявши ее, кружилась нагая Фалоя,
Липла к медным ступням кожура раздавленных ягод.
Солнце высоко стояло над морем. Расплавленной медью
Зыбкие волны струились. Расколотых статуй черепья
Тлели с гнилыми плодами, поросшие плесенью склизкой.
Временем этим Хрисилла готовилась к празднику в келье.
В ступе кирпич истолокши, скребла им медную утварь,
Грудою на пол свалив подсвечники формы различной,
Вывинтив гвозди из них, по частям составным разложивши.
Также кадильницы медные терла намоченной тряпкой,
И кирпичным песком блеск на них наводила.
Вот подсвечник один засиял лучезарною медью,
Вновь его по частям собрала в порядке Хрисилла.
Стройным, высоким стволом воздвигся подсвечник, и только
Выпуклым медным брюшком иногда закруглялся. Подножье
Было на львиных основано лапах. Вверху же подсвечник
Чашей лилеи кончался. В узкие медные устья
Дева Хрисилла свечу из белого вставила воска,
Толстую, золотом вкруг перевитую, с необожженным,
Белым, мохнатым вверху фитилем. Листом виноградным
Ствол восковой завернула Хрисилла снизу, чтоб в устьях
Медных стояла свеча, не колеблясь. Потом, из-под ложа
Выдвинув ларь и поднявши тяжелую медную крышку,
Ящик вынула малый. Смолистые желтые зерна
В ящике том заключались. Хрисилла, подбросив в кадило
Черных углей, его на гвоздь повесила. Ладан
Горстью сложила, и вновь ларец задвинула медный.
В келью одна из сестер меж тем вошла со словами:
«Мать игуменья просит тебя на высокую кровлю;
Там беседу она ведет со священником нашим,
В полдень пришедшим из гор, для свершенья предпраздничной службы».
Так говорила сестра. Приказу игуменьи Софьи
Не неохотно послушалась дева Хрисилла. Но тотчас,
Бросив работы свои, пошла по тенистому саду,
К дому игуменьи. Там, над навесами штор полотняных,
С медным крестом на груди, на плоской возвышенной кровле,
Древняя днями София сидела на устланном ложе.
Против нее, опершись на дорожный посох руками,
Старец согбенный сидел, в коричневой, ветхой одежде.
Жидкие волосы старца струились серебряным током;
Впалы были ланиты; лазурные ясные очи
Были полны тишины, и любви, и таинственной думы.
Старец святой Поликарп обитал в горах по соседству.
Келья ютилась его в бесплодных, диких утесах,
Очень высоко над морем. Неверные, узкие тропы
Над пропастями вились. Порою цепкий кустарник,
В трещину въевшись корнями, лепился на круче отвесной.
Там, в сообществе птиц и ланей забеглых, спасался
Много уж лет Поликарп, удалясь из мятежного Рима.
Он питался плодами, кореньями. Старица Софья
Чтила святого отшельника, и в монастырь приглашала
Для совершения служб и божественных таинств. Любили
Сестры отца Поликарпа, подолгу охотно внимая
Мудрым его поученьям о тайнах веры Христовой.
Важные вести принес сегодня отшельник. Упорно
Слухи идут по округе, что новое скоро гоненье
Цезарь воздвигнет, что едет проконсул со строгим декретом
Общины все христиан разогнать и в пытках кровавых
Вынудить старцев святых и дев отречься о веры.
Злая ходила молва о проконсуле Прове: жестоким
Зверем он слыл, неспособным к жалости кроткой. К тому же
Мерзостно был похотлив и бесчестил дев христианских.
Если ж встречал противленье, тела их терзал беспощадно,
Груди клещами выдергивал, рвал колесом острогвоздным.
Эти тревожные слухи держать до времени в тайне
Было условлено между игуменьей и Поликарпом.
Что понапрасну пугать сестер? Быть может, обитель
Их и не тронет проконсул. Она стоит потаенно,
В месте, отвсюду закрытом горами, глухом и безлюдном.
Только Хрисилла вошла, и замолкли София и старец.
Старец благословил ясноокую деву Хрисиллу,
А игуменья так сказала: «от долгой дороги,
Верно, умаялся старый отец Поликарп. Изготовь-ка,
Чем освежиться ему и восставить упавшие силы».
Дева Хрисилла пошла хорошо устроенным домом,
И чрез недолгое время пред старцем поставила чашу,
Красным наполнив вином и разбавив водой ключевою.
Персика три принесла на круглом, серебряном блюде,
Только что сорванных с ветки. Еще кудрявая зелень,
Свежая, возле плода виднелась. Наполненный соком,
Персик с одной стороны розовел, а с другой золотился;
Пухом, прозрачным и нежным, была подернута кожа;
Вдоль углублением плод рассекался; а рядом гранаты
Рдели багрянцем, как свежая, кровью залитая рана.
Блюдо с вином и плодами пред старцем поставила дева,
И удалилась с поклоном. А ей на смену Фалоя
Быстро вбежала на кровлю, со сбитыми буйно кудрями,
В черной тунике, поддернутой вплоть до колена. Пылало
Зноем румяным лицо, обильно увлажено потом.
Старец любовно и кротко иссохшей прозрачной рукою
По темнокудрым ее волосам провел и широко
Знаком креста осенил. Смутясь пред старцем, Фалоя
Быстро одежду спустила, со лба откинула пряди,
И, поклонившись Софии, сказала: «уж солнце спускаться
Начало с синих небес; близка вечерняя служба.
Мать, не пора ли работу нам прекратить на сегодня,
Малость пойти отдохнуть и омыться на береге моря.
Все мы забрызганы соком; от запаха пьяного гроздий
Стало стучать в голове и туман расстилаться пред взором».
Выслушав деву Фалою, София на синее небо
Взор устремила внимательно, и отвечала Фалое:
«Правда, Фалоя, твоя. Удлиняются тени. На запад
Мчит искрометных коней золотая дня колесница.
Труд на сегодня прервите. Омойтесь в пустынном заливе,
Где не видал бы никто. Да кому и видеть? С закатом
Только пастух через берег прогонит веселое стадо
Коз белорунных, с отвислым, полным сладкого млека,
Выменем. После опять нелюдим наш берег песчаный.
С Богом, Фалоя, иди! Да смотрите, не долго плескайтесь:
Только зардеет заря, собирайтесь к вечерней молитве».
Девы нагие, одежды держа в руках, побежали
Вдоль по тенистому саду на берег синего моря.
Там, в прозрачных волнах, они полоскали одежды;
Влагу из них выжимали; потом на кудрявую зелень,
Или побеги морских тростников, омытые ткани
Вешали, долго суша в солнца лучах золотого.
Анастасия в воде стояла по пояс. В ладони
Черпала чистую влагу и мыла желтые косы.
Ноги белели ее, в прозрачных волн изумруде,
Точно серебряных две, перевитые розой, колонны.
Рыбы ныряли кругом золотые, хвостом задевая
Ноги мывшейся девушки. Неподалеку Фалоя
Плавала, дико визжа, хохоча, ударяя ногами
Шумно вспененные волны: «Скорее, Анастасия,
Мойся! давай поплывем! я знаю остров зеленый!
Много там ягод, цветов! успеем, Анастасия,
Мы и набегаться там, и роз нарвать благовонных!
Будем веночки сплетать, чтоб украсить святые иконы!
Верно, похвалит за это нас старуха София!
Ну же! Скорей поплывем!» Охотно Анастасия
Нежною грудью легла на зеленые, пенные волны,
И, возвышаясь над морем волос золотою короной,
Вслед за Фалоей помчалась. Меж тем невысоко над морем
Солнце стояло, и волн изумрудных хребта золотыми,
Всё удлинявшимися, языками лизало. Зеленый
Скоро возник островок пред глазами Анастасии,
Круглый, густо поросший травою, деревьями. Розы
В зелени темной краснели. Сплетаясь колючим побегом,
Вход закрывали они глубокого, черного грота.
В мраке древесном кой-где висел виноград пурпуровый,
Зреющий праздно, чтоб с ветки упасть, и, ничье вожделенье
Не утоливши, истлеть, в траве, густой и высокой.
Морем со всех омываем сторон, обилен плодами,
Чистым ключом орошен, засеян цветами, – Эдема
Диким, прелестным углом казался остров безлюдный.
Став жемчужной ногою на мох прибрежный, стряхнута
Капли соленой воды розоустая Анастасия;
Выжала русые косы. Ее обнявши, Фалоя
Быстро скользнула во мрак, под своды зеленые лавров.
«Стой, Фалоя! ты слышишь? – заметила Анастасия. —
Веет серебряный звон над морем багряным. К вечерне
Он созывает сестер. Как быть? Я устала от гребли.
В путь обратный поплыть не могу, без того, чтоб хоть малость
Здесь, у ручья, отдохнуть». – «Отдохни, – отвечала Фалоя. —
Я между тем благовонных цветов наберу, и с венками
Явимся мы в монастырь, когда, на розовых конях,
В море помчит колесницу заря, и звезда золотая,
Первая, ночи предтеча, отметит серебряной нитью
Путь наш пустынный по царству седого, волнистого моря.
Нас приметит рыбак запоздалый, свой невод влекущий.
Верно, подумает он, что две подводные нимфы
Вздумали с ним подшутить, на челн его утлый напавши,
Выгрузить ценный улов, отягченный рыбами невод
Вытрясти в море, любуясь на блеск сверкучих чешуек,
Снова пучине вернуть ее золотое богатство».
Так Фалоя сказала. Послушалась Анастасия;
Сладкой дремоте она отдалась под дубом зеленым.
Остров обегала весь в то время Фалоя. Стеблями
Дикие злаки ее обвивали, и ей до колена
Часто они доходили верхами, и влага, и холод
Ноги ее обнимали на дне глубокого луга.
Ветвь виноградной лозы она сорвала и короной
Ягод пурпурных чело увенчала; а несколько кистей
Падали вниз с головы и прятались в груди глубокой,
Так что и самая грудь плодом казалась средь ягод.
Лилии зеленоствольные райским лесом стояли,
Чаши к небу воздевши, как полные сладких курений
Цепи кадильниц серебряных. В их очарованной чаще
Тихо блуждала Фалоя. До чресел ее достигали
Лилий душистых цветки и, как уста серафимов,
Жадно лобзали ее, прохладой дыша лепестковой.
С долгих, зеленых стволов цветки обрывала Фалоя;
Вместе слагала цветы в одну благовонную груду.
К розам потом перешла чернокудрая дева Фалоя;
Больно язвила шипами она персты и ладони,
С терпких срывая ветвей закругленные нежные розы.
Вдоволь набравши цветов, Фалоя стала проворно
Шесть гирлянды, венки, сочетая в различные формы
С ворохом диких цветов, оплетя всё тело венками.
К гроту пришла на заре чернокудрая дева Фалоя.
Там, меж корнями зеленого дуба, раскинувши руки.
Сном непорочным спала розоустая Анастасия.
Ног лилейных ступни купая в ручье белоструйном.
С тихим жужжаньем пчела над нею кружилась, желая
В розу медвяную уст ее ужалить, взаправду
Диким считая цветком ее благовонные губы.
Вечер сгорал; дышали цветы; вдали золотое
Небо ровно сверкало за трепетной зеленью дуба.
Звон последний донесся, и замер над морем. Фалоя
Бросила наземь цветы; венки, оплетавшие тело.
Гибкой рукой сорвала, и спящую Анастасию
Запеленала цветами; из роз тернистых сплетенный.
Белобагряный венок на чело ей надела. И, вскрикнув,
Синие очи открыла язвимая Анастасия.
На ноги встала она, лучезарная в вихре цветочном.
К черной дубовой коре прислонилась серебряным телом.
Шепот пошел по листве, и замер. На золоте неба
Дуб неподвижно чернел. В листвяном его изумруде.
В розовом остром венке дышала Анастасия.
Капля за каплею кровь спадала в глубокие травы.
В ужасе вещем упала Фалоя под дубом. «Я вижу. —
Дико вскричала она, – я вижу венец твой кровавый.
Выбиты зубы твои, и язвой уста червленеют.
Как раздроблённый гранат; и бритвою нежные груди —
Срезаны – пали в траву, как поблекшие розы. Сиянье
Блещет из крови твоей, золотое сиянье. Мне сладко
Раны твои целовать, заструившие чистое миро.
Вспомни в раю обо мне, заступись за меня перед Богом!
Небо горит золотое. Цветами цветет золотыми
Каждая капля твоей нетленной розовой крови.
Анастасия, проснись!» Проснулась Анастасия.
Полная страшным и сладким виденьем. Рукою схвативши
Нежную руку ее, с лицом искаженным Фалоя
Вдаль устремляла глаза, и шептала: «о горе! погибли!
Ах! мы погибли наверно! Куда нам бежать? Беззащитны,
Даже одежд лишены, мы – одни на острове диком.
Слышишь бряцание лат и коней веселое ржанье?
Слышишь топот копыт? По берегу мчатся солдаты,
Медью доспехов звеня, зажигая криками небо».
Вдаль устремила глаза розоустая Анастасия.
Облако пыли багряной клубилось над берегом; ярко
Шлемы сверкали в пыли, голубыми султанами вея.
Панцири медью блестели; сияли щиты золотые.
Всадник внезапно, дотоль впереди отряда скакавший,
Лошадь уздой задержал и что-то крикнул солдатам.
Все задержали коней. Одной рукою от солнца
Всадник таза защитил, а другою на остров далекий
Свите своей указал. Отряд замедлил немного.
Снова раздался приказ, и всклубилось облако пыли.
Прямо в обитель Софии со свитой стремился проконсул,
В горы, откуда чуть слышно звон раздавался субботний,
Козни богов упраздняя, к небесной любви и молитве
Все призывая сердца и надеждой врачуя печали.
Море волной не плескало, вверху облака розовели —
Ангелов зыбкие крылья, пред сном осенившие землю.
Плакали в роще цветы; молились высокие кедры.
Книга третья
Отсветы мутной зари проникали в пустынную келью;
Ветер шумел; дерева шелестели золотом блеклым;
Мерный стук топора доносился из сада; Хрисилла
В келью пустую вошла, и лампаду затеплила. Тихо
Стала она на колени пред ложем Анастасии,
И зашептала молитву, припав к изголовью ланитой.
После молитвы взяла с полированной крышкою ящик,
Где хранились работы покойной Анастасии:
Кисти, краски, полотна и доски. В гробницу хотела
Милой сестре положить ясноокая дева Хрисилла
Образ, который написан самою Анастасией.
Долго смотрела она расцвеченные красками доски.
Выбрала образ один наконец; недавно написан
Образ тот был розоустой Анастасией; на древе
Масляной краскою сделан: кудрявились круглые пальмы,
Золотом синим сверкал Иордан; волнистые холмы
Вдаль уходили, синея, по склонам поросшие лесом.
Лодка рыбачья стояла у берега; на побережном
Желтом, влажном песке наполненный рыбами невод
Весь трепыхался и в солнце посверкивал золотом скользким.
В мокрой одежде, спеша выгружать наполненный невод,
Симон стоял среброкудрый и с ним сыновья Заведея.
Рыбарей бедных из лодки учил Иисус Галилейский,
В плотничьей ризе простой, с золотым лучезарным сияньем
Вкруг головы, и над ним голубело весеннее небо.
Волны соленые в красках дышали, кусты и деревья,
Рыб золотые тела и лучи благодатного солнца.
Вынувши образ, Хрисилла спрятала ящик, и тихо,
Выйдя из кельи, пошла облетающим садом. Печально
Ветер шумел в деревах, обрывая последние листья
Плотник, стуча топором, сколачивал гроб кипарисный:
В древо впивался топор, осыпались опилки и стружки
Рядом стояла Фалоя, окутана черным покровом,
Как изваянье надгробное; буйно разметаны кудри;
Ветер на голову ей свевал поблекшие листья,
Каплями крови и золота рдевшие в россыпи синих,
Длинных волос; неподвижно она стояла; как мрамор,
Холодно было лицо, и сомкнуты красные губы.
Тут же, в корзине серебряной, были навалены розы,
Лилии – жатва последняя, снятая с гряд монастырских.
В гроб кипарисный Хрисилла сложила нежные ткани,
Белый холст погребальный и тонкие верхние ризы.
Ящик вдвинула малый с алоем и смирной. Фалоя
У изголовья корзину с цветами поставила. Крышкой
Гроб замкнули они, и подняли на плечи. В то время
Месяц, багряным серпом прорезав кровавые тучи,
Вышел из бледных деревьев, тускло путь освещая.
Сад монастырский прошли чернокудрая дева Фалоя
И доброзрачная дева Хрисилла. Пещерой глубокой
На берег выйдя морской, направились к темному лесу.
Ветер холодный стонал и метался, как жалкий младенец,
Матерью брошенный. Облаки черными клочьями мчались,
Тмя сиянье луны, засветлевшей под тучею рдяной.
С севера злая зима грозила железным морозом,
И по ночам рыбаки у костров согревались трескучих.
С высей горных стада пастухи сгоняли в долины.
Снегом уже поутру ожемчужены были вершины.
Тщетно подножного корма в раздолье пастбищ долинных
Скот отощавший искал; увяли травы и листья;
Белая влага ручья корой подернулась льдяной.
Кончены были работы в садах, виноградниках, в поле.
К женам мужья возвращались из плаваний дальних. На берег
Лодку вытаскивал рыбарь, сушил и сматывал сети,
Выделкой шкур и топлением рыбьего жира зимою
Время свое наполняя, чтоб с первым дыханьем Зефира,
С первой улыбкой весеннего, ясного неба, надолго,
Бросивши дом и детей, уйти на промысел в море.
В лес глубокий вошли доброзрачная дева Хрисилла
И синекудрая дева Фалоя. При месячном свете
Лик Хрисиллы казался изваян из белого воска.
Очи же были ее – с лазурным елеем лампады,
Лик жемчужный насквозь проникавшие тихим сияньем.
Прядка бледных волос выпадала из черного плата,
Матовый лоб отеняя; слабо уста розовели,
Словно первой зари неуверенный, робкий румянец.
«Тише, Фалоя, пришли! затепли светильник», – сказала,
Старого дуба достигнув, Хрисилла, и наземь гробницу
Девы поставили. Месяц лучи просеял сквозь заросль
Дуба поблекшего. Здесь, пропитана свежею кровью,
Темная никла трава, куски раздробленного тела
Были разбросаны, сгустки недавно запекшейся крови.
Кровью и клочьями плоти кора широкого дуба
Вся червленела, забрызганы были увядшие листья.
Крышку с гроба сняла доброзрачная дева Хрисилла,
Вынула полную роз и лилий корзину и ткани.
Вопль Фалои раздался. Упавши наземь под дубом,
Волосы с корнем рвала, лицо терзала ногтями,
В грудь поражала себя, проливая слезы, Фалоя.
Громко взывала она: «Иди, Хрисилла, последний
Дай поцелуй!» – и рыданья речь ее заглушали.
Дева Хрисилла приблизилась к томностенящей Фалое.
В луже багряной лежала Фалоя, в пропитанной кровью
Черной одежде, в руках держала голову мертвой
Анастасии, лобзая в уста с запекшейся кровью,
В золото кос очервленное, в смертью сомкнутые очи.
Голову в гроб положили, обвив кровавую выю
Тканью легкой и нежной; влили в ноздри немного
Благоуханного масла, из трав ароматных, чтоб дольше
Плоть не распалась ее, и лицо не стало добычей
Жадных могильных червей, часто гнездящихся в язве.
Долго потом по частям собирали тело, но всё же
Грудей найти не могли. (Они не знали, что срезать
Груди игемон велел во время пыток.) Омыли
В ближнем ручье кровавое тело Анастасии
Дева Хрисилла и с ней синекудрая дева Фалоя;
Чистым обвили холстом, умастив его ароматом.
Сверху ж надели на тело сребристую, легкую ризу.
Кровь отерли с лица и волос. В открытой гробнице
Анастасия лежала, спеленута белым покровом.
«Вынь, Фалоя, цветы из корзины серебряной. В розах
Сладко уснет розоустая Анастасия. Страданья,
Страсти символ огнецветный – красные, пышные розы.
Лик же сестры увенчаем короной серебряных лилий —
Знак белизны непорочной, стяжаемой страстью и кровью,
Образ небесных лучей, нетленной райской одежды».
Так сказала, и обе, вынув цветочные связки,
Тело Анастасии цветами усыпали. Тихо
Ей целованье последнее дать склонилась Хрисилла,
Ей уронив на лицо несколько слезных жемчужин.
Долго от губ омертвелых не в силах отпрянуть, Фалоя
Синим разливом кудрей покрыла гробницу, и долго
Плакала глухо, сжимая горячими пальцами древо
Гроба холодного. «Время, – молвила кротко Хрисилла, —
Звезды бледнеют на небе; круг совершили светила.
Скоро заря». И безмолвно встала Фалоя. И, взявши
Горсть пурпуровых роз, лицо закрыла цветами
Анастасие. Затем, с Хрисиллою вместе, замкнула
Крышкой тесовою гроб. Меж тем рассветало в дубраве.
Ложе Тифона покинув, Эос в одежде шафранной
Вверх по небесному кругу спешила на розовых конях.
Место искать для могилы пошли Хрисилла с Фалоей.
Молча шли; дышала прохлада; свевались туманы.
Вдруг меж черной листвы кипарисов сверкнуло сиянье;
Райским повеяло вдруг ароматом; цветами богато
Луг поблекший оделся; нетленным золотом небо
Всё зацвело, и, ступая по злакам весенним, зеленым,
Девушка в пеплуме красном, сверкая золотом ценным
Пышного пояса, в белой короне из лилий, навстречу
Девам вышла. Сияли, как два золотых изумруда,
Дивные очи ее и уста розовели, как розы.
Нежно, нежно она улыбалась подругам. Навстречу
Руки к ней протянули Хрисилла с Фалоей, и быстро
Обе от сна пробудились. Давно уже солнце светило,
Иней в листве серебрился. Крепко уснули у гроба
Девы, измучены долгим блужданьем и горем. Поспешно,
Сон рассказавши взаимно и Бога прославя, в дубраве
Выбрали ров для могилы. Убравши зеленью яму,
Гроб опустили на дно; завалили сушью и листом
Яму могильную. Вскоре гроб перенесть в монастырский
Склеп желала игуменья Софья. Потом в среброводном,
Чистом ключе омывали одежды, залитые кровью.
Так погребали они розоустую Анастасию.
1905–1906






