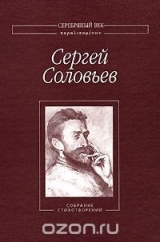
Текст книги "Собрание Стихотворений"
Автор книги: Сергей Соловьев
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 27 страниц)
Веснянка (с. 673). Посвящение – Алексей Сергеевич Петровский (1881–1958), близкий друг А. Белого и Соловьева; один из «аргонавтов», впоследствии переводчик, сотрудник библиотеки Румянцевского музея. Омофор – часть архиерейского облачения, надевается на плечи. Манна небесная – чудесная пища вкуса муки с медом и оливковым маслом, данная Богом евреям в пустыне (Исх. 16). Прозябать (церк. – слав.) – расти, прорастать. Царские врата – центральная часть иконостаса, за которой находится алтарь; раскрываются в определенные моменты богослужения. Домовина – гроб (однодеревный, долбленый).
[Закрыть]
А. С. Петровскому
Лепестковый ладан
I
Зацветали огнем золотым белоствольные свечи. Теплились розы лампад благовонно-елейные.
Ладан веял с кадила серебряного.
Розовый вечер таял в голубом дыме. Доцветавшие розы зари вечерней припадали к холодным стеклам. Где-то вздыхали цветы росоносные.
Был апрель прохладный,
Тебя звала молитва моя, в храме тихом, на заре вечерней.
Тихоокая царевна моя, ты не знаешь меня, но для тебя слагаю я мои песни.
В фиалковом дыме очей твоих разверзается мне небо.
Ты – лепесток райской лилии. Я видел, как цвела ты слезами. Золотыми зернами слезы твои упали в ниву моего сердца. Я взлелею посев ветрами благих помышлений, буду орошать его влагой молитвы. Да соберу жатву обильную и отдам ее Богу моему.
Ты – лампада светоносная. Плоть твоя соткана из лучей сверхъестественных. Ты облечена в ризу нетления.
Голубая влага очей твоих – истечение несякнущих источников любви Божией. В ней – пламя, опаляющее грех.
Очи твои – голубой мост в небо.
Ах! я не вижу тебя, но это ты провеяла. С зарею и запахом тополей весенних проникла ты во храм.
Белые потиры лилий отряхают дождь хрустальный. Ангел веет серебряным омофором.
Ты слышишь благовест далекий? Наступает ночь небесной любви и молитвы.
Бледно-золотой локон волос твоих упал на черный бархат одежды. В золотой пыли ресниц зыблется лазурь очей твоих. В устах белеет манна небесная.
Ты веешь холодом горним. Ты – роса на заре вечерней.
II
Ах! раствори окно. Как рой пчел, жужжит звон голубой, звон воскресный. Белые камни омыты волнами солнечными.
Первые травы возникли. Улыбчиво небо.
Пасха.
Нетленна лазурь весенняя. Небо – чаша золотая вина синего.
Весна плывет над розовым храмом.
Ты ли улыбнулась? Весна, Пасха, тихоокая моя царевна?
Ищу тебя там, где голубеющие волны ладана овевают печальные лица девушек; где синеет грусть первых цветков; где улыбнулся Апрель над урной надгробной, поросшей мохом забвения.
Здесь, где изваяния белых женщин склонились к гробницам разрушенным; где теплится елей любви неугасаемой; где расцвела песнь Воскресения.
Ты возникла из праха цветком апрельским сладкодышащим. Ты прозябла лепестками белыми. Ты заблагоухала росным ладаном.
Ты – свеча надгробная.
Очи твои – лампадки, где теплится елей лазурный.
С райских кринов собрали пчелы мед (пчелы небесные), чтобы выткать сот золотой.
То – не сот золотой, то – волос твоих златоцветных прядь; то – не воск райского улья, то – твое чело жемчужное.
Расцвел твой лик чашей лилеи утренней. А уста твои – роз лепестки бледные, фимиам молитвы свевающие.
Я – один. Но ты глядишь на меня из неба синего, благоухаешь мне первыми цветами весенними.
Золотая прядь волос твоих, как меч ангельский, насквозь рассекает мне сердце, выжигая из него червя греховного.
Ныне сердце мое – чаша, полная вином любви и молитвы.
III
Разверсты царские врата. Три ангела за престолом на оконной раме начертаны. Под кущей зеленой три ангела белокрылые. Авраам коленопреклоненный держит сосуд вина виноградного и хлебы пшеничные на блюде золотом.
Ты расцвела в голубом ладане.
Ты ли это, моя тихоокая царевна?
Фимиам сливает благовоние с ароматом розовых риз твоих. Косы твои златоцветные умащены елеем многоценным.
Стыдливо и робко преклонилась ты перед святою чашей.
Лепестки уст твоих бледные коснулись золотых устьев потира.
И ты съела частицу плоти нетленной, обагрянила уста твои нежные вином крови червленой.
Сверкнул меч златожалый.
Розой расцвела ты перед Божиим престолом.
Где жемчужность ланит твоих? Где уст твоих серафимских линейность? Вся ты розами зажжена, окапана миром сладостным. Ты рдеешь в неге любви и познания.
Медвяное жало
I
Вот и ты, Матерь цветов, прославляемая играми веселыми, и за тобой хороводы нимф белолокотных; лобзают древесную листву уста Зефира тиховейные.
Дриады зеленозрачные кычут в дуплах древесных; звенит изумрудный смех; плескаются руна листвяные.
Из сырой земли, из дубовых гробов выходят тела дев проклятых; в косах русых – комья сырой земли; греют на солнце груди мерзлые, посинелые; плещутся в синем хрустале озер полноводных; чешут волосы зубчатым гребнем.
От зеленого смеха леса звенят. Зачинаются игры любовные, звоны поцелуйные.
Отогрелась, пооттаяла кора древесная; дышит ствол смольный: зацветает устами роз медвяных.
Видишь, сквозит хвоя зеленая меж березок белоствольных? То – не хвоя зеленая, то – волосы резвого фавна; он приложил к губам тростниковую цевницу.
Видишь в первой скудной траве фиалок нежный цвет?
То – не фиалки: то – слезы душистые плакучих дев дриад.
Здесь дева сирая роняла слезы росные. Здесь стонала душа древесная, исходя в пенях любовных.
Зеленоствольная купальница расцвела над ручьем белоструйным. Здесь на заре нимфа дубравная мыла ноги сребролодыжные. Здесь мыла она одежды пурпурные и сушила, развесив на кудрявой зелени тростника приречного.
Пылает яростью синею неба терем злат.
II
Ты отстала от подруг твоих, розоустая девушка? Они кличут тебя на злачных полянах.
Ты устала. Отдохни под ласковой тенью зеленого дуба.
Поставь на землю твою плетеную корзину, полную душистых фиалок.
Еще долго до вечера.
Дай я сниму твои кожаные сандалии и омою прах дорожный с твоих ног.
Вечер.
Ты спишь, розоустая девушка?
Ветер ночной тронул листья.
Розовеет облако золотое. Вдали подруги твои кличут коров цветоядных. Проснись. Сгорел день весенний.
Туман голубой стелется. Ты слышишь игры веселые, свирель и смех?
Бедная, как ты найдешь теперь подруг твоих? Страшен лес светлой весенней ночью.
Вот ты раскрыла ресницы золотые. Ош твои – лампадки, где теплится слей лазурный.
Коса твоя желтая – спелый колос ржи. Ноги твои – два белых цветка в изумруде злачном.
Бедная, ты не вернешься больше в дом родимый. Напрасно будет ждать тебя мать твоя, в хижине малой, на крутой горе. Ты не будешь доить ее овец сладкомлечных. Ты не будешь петь ввечеру вышивая одежды венчальные.
III
Да будет весел мой пир вечерний.
Нимфы дубравные принесли сот пчелиный и плоды земные. Розами багряными и лилеями белыми убрали они трапезу
Девушка розоустая! ты – сад запечатанный, ты – потир многоценный вина заповедного.
Но я оборву цветы полурасцветшне, до дна выпью потир червленый и, выпив, разобью его на осколки.
Жертва вечерняя, крестись в купели ручья белоструйного, омойся росой студеной.
Весел будет мой пир вечерний.
Девушка, ты – хлеб пшеничный; ты – потир вина виноградного.
Грудь твоя – плод медвяный, розовым цветом прозябший.
Ах, я – одна с тобою в глубоком, зеленом лугу.
Разгораются лазурные лампады очей твоих. Я узнаю тебя: это – ты, моя тихоокая царевна.
Ты слышишь пение Пасхальное?
Нет, только пчелы жужжат над лугом зеленым.
Не ладан ли веет с кадила серебряного?
Нет. Только крепче на заре запахли медуницы полевые.
Ах, зачем ты забил меня в улей пчелиный. Ах, ты убьешь меня; то – не улей пчелиный, то – гроб тесовый.
Улыбнись, моя тихоокая царевна: то – не улей пчелиный, то не гроб тесовый, то – луг зеленый, глубокий. Высоко над нами сплетаются вершинами злаки полевые. Никто не увидит нас на дне глубокого зеленого луга.
Ах! мед залепил гортань мою. Пчелы жалят меня ядовитыми жалами. Ах! смерть моя в лугу зеленом, в цветах медоносных.
То – не пчелы, моя тихоокая царевна. То – мои поцелуи любовные. Ширятся зраки твои лазурные, как улыбчивое небо Пасхальное.
Вернулся Апрель прохладный нашей первой весны.
Ах! земля раскрылась; пахнет корнями цветочными и костями мертвыми. Что ты сделал со мною?
Ты замкнула очи лазурные. Ты уснула сном вечным.
Мир тебе, моя тихоокая царевна.
Последнее целование
I
Ты спишь в домовине тесовой, в золотой парче. Дышат розы увядшие в перстах твоих. Не колышется грудь бездыханная.
В келье дощатой теплится свеча воску ярого. А за окном яблоня весенняя, что невеста, цветами белыми разукрасилась. И шумит зеленый Май.
Я выдолбил тебе гроб белодубовый. Я омыл тело твое и умастил его ароматами. Я повил тебя полотном чистым. Я спеленал твои руки и ноги.
Крепко пахнет в келье цветами и ладаном. Ах! то – не цветы и не ладан, но твоя грудь увядшая, твои уста отцветшие.
Кто надел тебе венчик червленый? Ах! то – не венчик червленый. Я уснул и забыл. Ведь я убийца твой. И вот лежишь ты недвижная, и кроваво-черная язва изъела жемчужное лицо твое.
Я целовал твою язву червленую. Я убрал ее розами. Колыбель – ложе брачное – гроб.
Ты – дитя спеленатое, невеста распятая.
Я распял тебя в лесу зеленошумном, у ключа среброводного. Я пригвоздил твои ноги белые к сладкодышащей коре. Ты цвела, пригвожденная к древу. Нежная грудь твоя – роза в листве древесной, зеленой.
Ты – цвет и плод. Тобою прозябло древо дубравное. Въелись в плоть твою белопшеничную язвительные жала гвоздные. Каплет багряный грозд. Уста раскрыты – лепестки сладких роз. Зраки твои воздеты – синий виссон.
Слезы твои – роса листвяная. Не ты стонешь: то ветер гудит в коре дуба.
На заре пылает небо золотое. Темнеет лесная глушь. Крепко пахнут медуницы полевые.
Я склонился меж корней древесных; я целую твою пяту жемчужную. Я целую твою язву червленую; из нее падает кровь густая в глубину вечерних трав.
Дитя синезрачное, девушка розоустая, мертвец распятый.
Листва шелестит над тобою. Заря дышит в лицо мертвое. Мне тихо под покровом твоим.
II
Что ты киваешь мне, урод лесной, за кочкой болотной? Ты издеваешься надо мной, строишь мне рожи. Но я знаю: ты боишься меня.
Я – с вами, но я – не ваш. Вы – рабы мои покорные. Вы собираете мне ягоды лесные, выгоняете птиц и зайцев из заросли, когда я иду на охоту с моим золотым луком.
Из осколков лиры моей я сделал себе лук золотой. Я думал заклясть зверя святой песнью, но глухи к песням рая уши звериные.
И разбил я лиру мою. И лежала она в золотых осколках.
И подобрал я осколки лиры и сделал из них лук, и колчан, и пять стрел. Одна из девушек лесных шла мимо, когда я любовался моим новым луком, сверкавшим на солнце. И я сказал девушке: есть у меня лук, есть и колчан, и стрелы; только тетивы нет у меня. Дай мне волос из золотой косы твоей. Он крепок и сверкуч, и все станут завидовать моему луку.
И девушка расплела свою косу. И я вырвал тот волос, который мне показался лучше.
А девушка со смехом убежала, так что я не мог разобрать, листья ли шумят, или она, убегая, смеется.
Хорош оказался мой лук. И звери, не боявшиеся лиры, стали бежать при блеске моего лука.
И по всему лесу прошла молва, что перековал я мою лиру на лук.
И пресмыкаются с тех пор передо мною твари лесные. Ненавидят меня, но боятся моего лука и служат мне.
И благословляют меня плененные души древесные.
III
Мирно спишь ты, моя тихоокая царевна. Не истоптана дикая трава у могилы твоей. Только пчелы жужжат в ней.
Я не встревожу твоего сна могильного. Я не разбужу твою тень загробную. Я не зачарую слух твой приятным пением лиры. Разбита лира моя.
Да если б и привеяла твоя тень неуспокоенная в мои дикие дебри, ах, да ты бы не узнала меня. Нежный слух твой привык к пению лирному. Тебя испугает звон стрел и бряканье колчана. И – бедная – вернется тень твоя в поля загробные, и не останется у ней ничего заветного на земле, о чем она вздохнула бы в стране мертвой. Нет, не возвращайся в места родные. Спи спокойно – моя тихоокая царевна.
Ты не узнала бы моего голоса, шептавшего тебе ласки любовные. Одичал мой голос, скликая лихих охотников и зверей лесных по глухим дебрям.
Огрубели мои пальцы, которыми я сплетал тебе венки розовые, чтобы украсить косы твои медвяные. Теперь они изжалены колючими травами, отмечены волчьим зубом. Сомнет твои волосы нежные рука, привыкшая рвать челюсти хищных тигров.
В глухой чаще стоит хижина лесничего. Туда я прихожу, когда почувствую голод.
Я приношу в моей охотничьей сумке убитую птицу или зверя. Угрюмый лесничий разделяет со мною обед и делает к нему приправу из диких корней и ягод.
Прости, моя тихоокая царевна. Пусть всегда будут свежи розы над твоей бедной могилой, пусть всегда овевает их прохладный ветер.
И пусть не долетят до тебя ни мои безлирные жалобы, ни веселый звон моего золотого лука.
1906
ПОЛЕМИКАОтвет Валерию Брюсову[243]243
Весы, 1907 г., № 5, стр. 62. Ответ Валерию Брюсову (с. 682). Один критик – имеется в виду критический разбор «Цветов и ладана», сделанный А. А, (Блоком в статье «О лирике» (1907). (βαθυς λειμων – выражение из трагедии Эсхила «Прометей прикованный». В переводе С. Апта: «сочный луг»…
[Закрыть]
Дорогой Валерий Яковлевич!
В Вашем отзыве о моей книге «Цветы и ладан» есть немало пунктов, далеко не бесспорных, притом имеющих при оценке моего творчества решающее значение. Многое в Вашей критике удивило меня, и сначала скажу об одном и главном: о полном пренебрежении к первому тезису моего предисловия, без принятия или опровержения коего невозможно правильное суждение о моей поэзии. Я разумею: единство формы и содержания. Между тем вся критика Ваша основана на понимании формы и содержания как начал раздельных, чему есть многочисленные примеры, как то: в начале Вы находите у меня (и притом в первых, незрелых стихах) «мастерство стиха»; говорите, что стихи мои «порой прекрасно сделаны»; и в заключение утверждаете, что моя книга «не есть книга поэзии» и даже что «напевность» совсем не досталась мне в дар. При этом Вы замечаете, что стихи мои «в лучшем случае звучны».
Валерий Яковлевич! что же значит: мастерски, прекрасно сделанное стихотворение, звучное, но не поэтическое и не музыкальное? Сколько бы я ни напрягал мое воображение, я не в силах был бы представить предмет, о котором вы говорите; мне кажется, что эта вещь нереальная. В самом деле, возьмем частный пример: звучность. Если Вы разумеете под звучностью соответствие выражаемой мысли с выражающими ее звуками, то звучность = музыкальность, ergo: если стих мой звучен, то он музыкален. Если же под звучностью Вы разумеете гармонию слов самих по себе, без отношения к содержанию, то такой гармонии слов существовать не может. Составьте стихотворение из бессмысленных слов, с рифмами, аллитерациями и т. д. Неужели Вы получите нечто звучное? Звучность, напевность, музыкальность (все три слова в применении к поэзии – синонимы) состоит в единстве звука, мысли и образа. Поэтому критика стихов может исходить только из вопроса: соответствует ли форма стихов их содержанию, соответствует ли рифма настроению, эпитет – образу и т. д. Разбирать же, хороши рифмы или эпитеты сами по себе, – труд, по меньшей мере, бесплодный. Рифм, как и эпитетов, плохих самих по себе, не существует, ибо на рифме отражается всякое колебание чувства, всякий уклон мысли. Потому что в рифме – весь поэт; она – зеркало его души. Но стоит отнять предмет от зеркала, как получится пустота, ничто. Между тем Вы, «оставив в стороне идеи и чувства книги», именно отняли предмет от зеркала. И, вместо того, чтобы по изображению на стекле судить о изображенном предмете, занялись критикой свойств стекла, из которого сделано зеркало. И когда Вы нашли, что стекло хорошо или плохо, то Вы нисколько еще не определили свойства той, напр., лампы, которая недавно в этом зеркале отражалась. Хорошая лампа может отражаться в плохом зеркале, и плохая в хорошем. Можно ли, напр., сказать, хороша ли рифма «переулочной – булочной» или нет? Нельзя, потому что хороша она у Блока, поскольку типична для него, и нехороша была бы, напр., у Вас, поскольку для Вас не типична. Точно так же рифмы «темной – скромной» у Пушкина, «распят – аспид» у Вас – хороши, потому что типичны. А исследовать, хороши ли рифмы сами по себе, всё равно что исследовать свойства зеркального стекла для характеристики отраженного в нем предмета. Также и о эпитетах самих по себе не может быть речи. Какой, напр., эпитет лучше: красный или алый? Тот и другой, и ни тот, ни другой, в зависимости от того, где и как, в зависимости от «идей и чувств книги»[244]244
Если возможна критика, оставляющая в стороне «идеи и чувства», то критика – чисто филологическая. Но такие вопросы, как вопрос о «условности эпитетов» не подлежат ведению последней. Она может только указать, что такие-то эпитеты оригинальны, такие-то заимствованы оттуда-то, но оценка художественного творчества находится за границами ее компетенций (Примеч. С.М. Соловьева).
[Закрыть].
Далее. Вы обвиняете мои эпитеты в условности, что не так еще удивительно, как следующее замечание: «очевидно, сам сознавая условность своих описаний и эпитетов, С. Соловьев старается оправдать их тем, что выдерживает свои стихотворения в определенном стиле то античной оды, то пасторали XVII века, но от этого они, конечно, не становятся более живыми». В чем же дело? Если Вы сами признаете, что условность моих эпитетов происходит от стремления к стилизации, то, конечно, это не сделает их более живыми (ох! опасное слово), но, несомненно, делает стильными. Но неужели Вы, Валерий Яковлевич, будете укорять меня за стилизацию? Упрек неожиданный. Я ожидал упрека другого и более справедливого. Упрека не в том, что я выдерживаю стихотворения в стиле пасторали XVII века, каковым стилем, кстати сказать, ни в одном месте моей книги и не пахнет, а в том, что у меня в иных стихах стиль пасторали XVI века смешан со стилем пасторали XVIII века, свежие, девственные краски эпохи Генрихов не согласуются с искусственными и эротическим мотивами Версаля.
Теперь перейду к частным возражениям.
Вот какими примерами оправдываете Вы Ваш тезис: «С. Соловьев забывает, что из слов создаются предложения»: «В одном стихотворении св. Цецилия играет на органе, хотя во времена св. Цецилии органов еще не существовало». Но неужели же Вы забыли св. Цецилию Дольчи, играющую на органе, которою и было вдохновлено стихотворение? Далее. «Белица, сообщая, что она пойдет погулять и посбирать цветов и ягод, внезапно прерывает свою речь совершенно вставочным замечанием: “вся истомилась я за год”, только затем, чтобы дать возможность поэту срифмовать “ягод” и “за год”». Слова «вся истомилась я за год» совершенно уместны после слов «в горы пойду погулять». Ход мыслей таков: «пойду погулять, мне хочется пойти погулять, потому что я истомилась в келье за год». Скорее можно было бы возразить против слова «ягод», ибо малоправдоподобно, чтобы ягоды зрели в то время года, когда «голос кукушечий слышен». Далее возражение совсем изумительное. «В стихотворении “Свете тихий” приходится сообщать читателям довольно известные вещи, вроде того, что могила – “приют от бедствий”, а рыцарь – “монах, что закован в железо”, чтобы срифмовать красиво “в детстве” и “трапе за”». Позвольте, Валерий Яковлевич: не говоря уже о том, что «ничто не ново под луной», то, что могила – «приют от бедствий», далеко не всем известно, это положение не ассерторическое, а лишь проблематическое; могила в известном настроении, при известной обстановке, может казаться «приютом от бедствий»; в других случаях она может казаться началом бедствий, продолжением бедствий и т. д. Назвать могилу «приютом от бедствий» побудил меня общий замысел стихотворения. Также и рыцарь может представляться вовсе не монахом. Разве монах, напр., рыцарь Ричард Кольдингам? Сказать «рыцарь-монах» побудил меня общий замысел стихотворения.
Как примеры выражений, производящих «прямо комическое впечатление», Вы приводите: «в блеске выи розы давали место белым лилеям» и спрашиваете: «идет ли речь о выях розы или о розах выи». С трудом разобравшись в этом замечании, отвечаю Вам: пауза после слова выи, требуемая сапфическим метром, ясно показывает, что слово выи есть определение к слову блеске, а розы – подлежащее, nominativus pluraiis. Далее. Что значит: «сотни уст раскрываются на солнце»? – говорится ли здесь об «устах солнца» или «на солнце» значит «под солнцем»? На это приходится возражать пространно. Представьте себе, что один человек брал солнечную ванну, и приходит к другому человеку, и говорит: «я целый час лежал на солнце», и представьте себе, что на эти слова собеседник делает изумленное лицо и совершенно серьезно спрашивает: «где же Вы, собственно, лежали? под солнцем или на самом солнце?» Согласитесь, что еще неизвестно, кто из двух собеседников произведет на Вас «прямо комическое впечатление», тот ли, кто сказал самую простую, естественную фразу, или тот, кто высказал такое странное изумление и непонимание. Впрочем, вообще по поводу моей книги много было высказано самого неожиданного удивления и непонимания. Один критик, упрекнув меня предварительно за банальные и нелепые суждения о природе, безмерно превышающие количество оригинальных и здравых наблюдений над ней, замечает по поводу моего стихотворения «Вечерняя молитва»: «мы только на 28 строке с удивлением узнали, что дело происходит зимой». Между тем первый стих этого стихотворения читается не более и не менее как:
Три дня подряд господствовала вьюга.
Мой критик так искусился в оригинальных и здравых наблюдениях над природой, что высказал о ней действительно небанальное суждение, удивившись тому, что вьюга бывает зимой, а напр., не в июле месяце.
Как примеры «просто неправильных» выражений Вы приводите: 1) «скрыться в лугу». Однако в этой неправильности виноват никто иной, как Эсхил, за знакомство с которым Вы так похвалили меня в начале. Из его βαθυς λειμων извлек я понятие глубины луга, состоящего из столь высоких трав и цветов, что в них можно укрыться; 2) «червленый от солнца». Червленый – причастие страдательное, следовательно, должно сочетаться не с предлогом, а с творительным падежом. Не так ли? Но «червленый» в народной поэзии давно окаменело в смысле прилагательного, и, как таковое, должно сочетаться с предлогом от: как: красный от солнца, так и: червленый от солнца; 3) «был доброволен в крови». Кровь в смысле убийство, смерть – вполне законный латинизм: если можно быть добровольным в смерти, то можно быть и добровольным в крови; 4) «Страх исчез с сердца». Если бы говорилось только «страх в сердце», то возможна была бы только форма «страх исчез из сердца». Но говорится: «печаль у меня на сердце», «страх у меня на сердце». И как от «книга лежит на столе» мы образуем «книга исчезла со стола», так от «страх на сердце» мы образуем «страх исчез с сердца». Что касается «прямого пренебрежения к аллитерациям и внутренним рифмам», то вот примеры того и другого:
1) внутренняя рифма:
Огороды огибая,
Холмы кругом оплетя,
Золотая, голубая,
Ты смеешься, как дитя.
2) аллитерация + внутренняя рифма:
В этом кротком позлащенье
В вещем шорохе листвы,
Извещенье возвращенья
Жаркой майской синевы.
Относительно рифмы я уже сделал основное возражение, остаются частности. Если Вы должны осудить рифмы, где одному н «соответствуют два», то кстати должны Вы осудить и гениальную строфу Вашего стихотворений:
Вспомни, вспомни луг зеленый, –
Радость песен, радость пляск.
Вспомни в ночи потаенный,
Сладко жгучий ужас ласк.
Если же Вы осудите те рифмы, где мягкое окончание рифмует с твердым, как напр.: «примирись – Парис», «зажглись – Симонс», то я Вам напомню Пушкинские рифмы: «зажглись-Дафнис», «вознеслись – кипарис». Неужели же в стихотворении «Таврическая звезда» есть рифма, заслуживающая, «осуждению)? В заключение всего изложенного я считаю себя вправе утверждать, что если и справедливо Ваше мнение: «“Цветы и ладан” – не есть книга поэзии», то Ваша попытка обосновать это мнение на объективных данных не может быть признана удачной.
Г. БЛОК О ЗЕМЛЕДЕЛАХ, ДОЛГОБОРОДЫХ АРИЙЦАХ, ПАРЕ ПИВА, ОБО МНЕ И О МНОГОМ ДРУГОМ[245]245
Г. Блок о земледелах, долгобородых арийцах, паре пива, обо мне и о многом другом (с. 687). Савонарола (Savonarola) Джироламо (1432–1498) – настоятель монастыря доминиканцев во Флоренции. Выступ пал против тирании Медичи, обличал папство, призывал церковь к аскетизму, осуждал культуру (организовал сожжение произведений искусства). После изгнания Медичи из Флоренции в 1494 способствовал установлению республиканского строя. В 1497 отлучен от церкви, по приговору синьории казнен, а его труп сожжен. De gustibus non est disputandum – О вкусах не спорят (лат.). Микель-Анджело – Микеланджело Буонарроти (1475–1564), итальянский Скульптор, живописец, архитектор, поэт. Морис Денис (искаж.) – Дени (Denis) Морис (1870–1943), французский живописец, один из основателей группы «Наби»; представитель символизма и стиля модерн. Метерлинк Морис (1862–1949) – бельгийский драматург, поэт; писал на французском языке. Лауреат Нобелевской премии (1911). Нам кем-то высшим подвиг дан… – из ст-ния В. Я. Брюсова «В ответ П. П. Перцову» (1902).
[Закрыть]
В шестом номере «Золотого Руна» за 1907 год г. Блок, разбирая новые стихотворные сборники, высказал свое собственное поэтическое credo. Сличая некоторые места из VI-й главы, где Блок разбирает мою книгу «Цветы и ладан», с некоторыми местами из 1-й главы, где Блок излагает свои общие мысли о поэзии, я усмотрел между этими местами несомненную связь. Единство им придает равная степень озлобления, доводящая критика, обыкновенно весьма кроткого и нежного, до брани дурного тона, до восклицаний вроде: «Ему я посылаю мое презрение от лица проклятой и светлой лирики. Так я хочу».
Против «так я хочу» полемика невозможна. Доказательство можно опровергнуть доказательством, но «так я хочу», пощечина, плевок – неопровержимы, и Блок занял воистину неприступную позицию. Также я ничего не могу возразить против того, что «в тысячах окон качается ситцевая занавеска», против того, что «румяный академик в холщовом сюртучке склоняет седины над грудой непереплетенных книг», против того, что «бесстрашный и искушенный мыслитель, ученый, общественный деятель – питаются плодоносными токами лирической стихии». Всё это хотя чрезмерно торжественно и витиевато, но, по крайней мере, правдоподобно; но, к сожалению, Блок не ограничивается этими интересными наблюдениями и на двух страницах решает вопросы религии, эстетики, общественности и многие другие, причем от его решения побледнел бы самый румяный академик и самый бесстрашный ученый устрашился бы «плодоносных токов лирической стихии», грозящих затопить все груды книг, не только «непереплетенных», но и переплетенных.
Г. Блок слыхал о христианстве. В своей автобиографии он сообщил, что учился на филологическом факультете. О христианстве писали Мережковский, Вячеслав Иванов, Андрей Белый. Но автор «Балаганчика» расправился с христианством очень скоро, всего на пяти строчках: «но есть легенда, воспламеняющая сердца. Она – как проклятое логово, залегающее в полях, в горах и в лесах; и христиане-арийцы, долгобородые и мирные, обходят его, крестясь. Они правы. Здесь нечего делать мирной душе, ее “место свято”, а это место, – “проклятое”». Где ты, румяный академик? Приди и скажи: «почему, г. Блок, именуете Вы долгобородыми арийцев, т. е., напр., немцев, англичан, французов? и можно ли говорить “христиане-арийцы”, когда всё греко-римское язычество создано арийцами и когда христианство выросло на семитической почве и сам Христос был семитом? И неужели же Гёте, Шекспир, Лейбниц – несомненные арийцы – не заслуживают от Вас ничего, кроме презрения? Потрудитесь обосновать Вашу явно семитическую тенденцию». Итак, арийцам – не место в «проклятом логове», где засел «лирик». Блок торжественно предостерегает приближающихся к этому логову: «люди, берегитесь, не подходите к лирику». Но, вопреки всем ожиданиям, несмотря на ужасные угрозы, прямо выписанные из устарелой романтики и только слегка позолоченные дешевым модернизмом, как: «В ваших руках засверкают тонкие орудия убийства, и в окне вашем лунной ночью закачается тень убийцы. И ваши жены отвергнут вас и, как проклятые жрицы древних религий, пожелают холодных ласк трепетной и кольчатой змеи» (о!), «люди» осмелились и подошли, они «приходят и берут». Что же они берут? На это г. Блок отвечает фантазиями, которые, в свою очередь, ужаснут «бесстрашного общественного деятеля». Оказывается, что «на просторных полях русских мужики, бороздя землю плугами, поют великую песню – “Коробейников” Некрасова». Где видел г. Блок, чтобы мужики пели «Коробейников», «бороздя землю плугами»? Нет, г. Блок, если б Вы наблюдали мужиков не из Вашего кабинета, как добрый помещик старого времени, то Вы узнали бы, что мужику не до Ваших «плодоносных токов лирической стихии», когда он, ругая тощую лошаденку и обливаясь потом, пашет землю. Если он и будет петь Ваших «Коробейников», то в праздник, а коли он – мужик дельный, то предпочтет в свободный вечер почитать газетку, да поговорить с умным человеком о последнем заседании Государственной Думы, или о чем другом, что считает важнее «сладкого бича ритмов». Ох, довольно уж он испытал «сладость» всяких бичей!
Не более утешает и другая бытовая сценка, рассказанная г. Блоком: «Над извилинами русской реки рабочие, обновляющие старый храм с замшенной папертью, – поют “солнце всходит и заходит” Горького». Если эта сцена и правдоподобнее первой, то всё же г. Блок совершенно напрасно радуется тому, что обновление храма производится не с соответствующими религиозными помыслами, а под напев пошлой революционной песни, по существу антихудожественной и, во всяком случае, не народной.
Далее г. Блок посылает презрение от лица «проклятой и светлой лирики» тому, кто «умеет слушать и умеет обратить шумный водопад лирики на колесо, которое движет тяжкие и живые жернова, знает, что всё стихийное и великое (?) от века благодетельно и ужасно вместе, знает это и не хочет признаться… Он не задержит стихии. Он будет только маячить над ней, бросая свою уродливую тень на блистательную пену низвергающейся воды, бессильно стараясь перекричать грохот водопада. В облике его мы увидим только искусителя, возмущающего непорочный бег реки». Где подглядел г. Блок своего «искусителя», догадаться трудно. Для нас же несомненно, что тот, кто «не хочет признаться в чем-то» и еще стремится перекричать грохот водопада стихийной жизни, представляет комическую фигуру. Но несомненно и то, что стихийная жизнь, как бы она ни была благодетельна, с лирикой ничего общего не имеет и в ней не нуждается. И если никакой крик не заглушит грохота стихийного водопада (который г. Блок назвал бы «миром явлений», если бы, вместо того, чтобы похлопать по плечу «румяного академика», хоть немного бы почитал из его книг и еще не гнался бы за дешевым модернизмом), то единственный звук, заглушающий грохот мира явлений, есть звук лиры, гармония песни, лирика. Если г. Блока интересует вопрос об отношении искусства к стихийной жизни, мы посоветуем ему прочесть III-ю часть сочинения Шопенгауэра «Мир как воля и представление» и представить свои возражения. Только едва ли идею единства лирики и стихийной жизни можно обосновать на чем-нибудь, кроме «ситцевой занавески, качающейся в тысячах окон». Впрочем, не будем решать вопрос заранее и подождем философской аргументации г. Блока.
Не более доказательно заявление Блока: «умеющий услышать (голоса стихий?) и не погибнуть – пусть скажет проклятие всякой лирике; он будет прав, ибо он знает, где его сила и где бессилие». По рецепту г. Блока, Гёте и Пушкин неизбежно должны были сказать проклятие всякой лирике, ибо они слышали голоса стихий острее и тоньше всех лириков, и, однако, как бы посмотрел Веймарский старец на российского декадента, заявившего ему, что он «погиб», если он лирик!
Расправившись со всеми арийцами, христианами, непогибшими лириками, г. Блок принимает себе «в сердце»… Савонароллу. Кланяйся, монах! Г. Блок прямо заявляет о своем великодушии к тебе: «вот ему – хлеб, вода и рубище от наших щедрот». Отсюда видно, что «проклятый лирик» действует «не без расчетца» и бедному флорентийцу не много перепадет от его «щедрости». Наконец, г. Блок бросает стрелу в «мещан». «Не умеющий слушать, тот мещанин, который оглушен золотухой и бледен от ежедневной работы из-под палки, – вот ему его мещанский обед и мещанская постель. Ему трудно живется, и мы не хотим презирать его: он не виноват в том, что похлебка ему милее золотых снов, что печной горшок дороже звуков сладких и молитв». Аристократизм лорда Байрона не к лицу г. Блоку. Истинный аристократизм – благороден. Байрон в значительной мере в силу своего аристократизма являлся защитником угнетенных и бичом тирании. Глумиться над бедным тружеником за то, что он «оглушен золотухой и бледен от ежедневной работы», снисходительно заявлять, что «мы не хотим презирать его», – как всё это аристократично] Нет, г. Блок, хоть Вы однажды на страницах того же «Золотого Руна» и обругали графа Алексея Толстого «аристократом, мягкотелым и сантиментальным», но, право, Вам не мешало бы почаще бывать в настоящем аристократическом обществе, хотя бы для того, чтобы осторожнее судить о «мещанах»!








