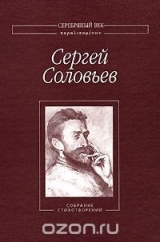
Текст книги "Собрание Стихотворений"
Автор книги: Сергей Соловьев
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц)
ЦВЕТНИК ЦАРЕВНЫ. Третья книга стихов. 1909–1912[139]139
Эпиграф – из «Элегий» Тибулла (I, 1). В переводе А. Артюшкова: «Лишь бы смотреть на тебя, когда час мой настанет последний, / И умирая, тебя слабой рукой обнимать».
Посвящение – Мария Алексеевна Оленина-д’Альгейм (1869–1970), камерная певица (меццо-сопрано), жена П. д’Альгейма, тетка сестер Тургеневых (Натальи, Анны, Татьяны).
[Закрыть]
Те spectem, suprema mihi cum venerit hora,
Те teneam, moriens, deficiente manu.
Tibullus. I
МАРИИ АЛЕКСЕЕВНЕ ОЛЕНИНОЙ-Д’АЛЬГЕЙМ преданно посвящаю
ПРЕДИСЛОВИЕ[140]140
Предисловие (с. 325). Гёте Иоганн Вольфганг (1749–1832) – немецкий поэт, мыслитель, естествоиспытатель. Батюшков Константин Николаевич (1787–1855) – русский поэт. Зелинский Фаддей Францевич (1859–1944) – филолог-классик, профессор Петербургского университета. Джотто ди Бондоне (1266/67 – 1337) – итальянский живописец, представитель Проторенессанса. Наиболее известны его фрески капеллы дель Арена в Падуе и церкви Санта-Кроче во Флоренции. Леонардо да Винчи (1452–1519) – итальянский живописец, скульптор, архитектор, ученый, инженер. Рафаэль Санти (1483–1520) – итальянский живописец и архитектор, представитель высокого Возрождения.
[Закрыть]
Разбирая мою книгу «Апрель»* (Русская Мысль, 1910 г. Июнь.), Валерий Брюсов, наряду с верными замечаниями и заслуженными мной упреками, высказал несколько таких, с которыми я отнюдь не могу согласиться. Оставить их без ответа с моей стороны могло бы значить одно из двух: или что я не дорожу критическим отзывом Брюсова, 2) или что я принимаю его упреки, как заслуженные. Но: 1) мнение Брюсова всегда мне дорого, как мнение моего любимого поэта и учителя, один тот факт, что после критики Брюсова я не только не перестал писать стихи, но даже решаюсь выступить с новым сборником, показывает, что не все упреки моего критика я принимаю как заслуженные. И к таким упрекам прежде всего отношу я упрек в том, что у меня «нет своего отношения к миру», «нет определенного миросозерцания», что я «неизвестно для чего повторяю евангельские сказания» и «развиваю в терцинах довольно наивные раздумия».
Позволю себе еще раз занять внимание Брюсова моими «раздумиями» (правда, не в терцинах, а в прозе) и коснуться существенного вопроса о поэтическом миросозерцании. Книга стихов не должна непременно являться выражением цельного и законченного миросозерцания. По большей части, книга стихов дает нам историю развития миросозерцания, его различные этапы.
Большой ошибкой было бы принимать за философское credo каждую отдельную мысль, заключенную в сборнике стихов. Книга стихов есть исповедь поэта, история его исканий, нахождений, ошибок, падений. Объединяет все отдельные мысли и переживания, заключенные в книге стихов, только единство сознания того, кто переживает, – поэта.
И предлагаемая теперь книга далеко не во всех отделах близка мне сейчас, многие страницы читаю я как чужие. Таковы для меня отделы, где слишком чувствуется одностороннее влияние Гёте, Батюшкова и Шенье, или где я старался разработать чисто реалистические приемы в описании мелочей обыденной жизни. И там, и здесь я ставил себе чисто-художественные задачи, в соответствии с настроением того момента, и считаю себя вправе поделиться с читателем моими опытами, если не считаю их вполне неудачными. Решительно отклоняя от себя обвинение Брюсова в отсутствии всякого миросозерцания, я охотно принимаю второй его упрек: в ученическом характере моих стихотворений.
И на предлагаемую книгу смотрю я как на «ученическую», в этом ее значении нахожу и мой суд, и мое оправдание. Но у меня есть надежда, что это последняя из моих ученических книг, что на последних страницах ее уже светлеет очерк устанавливающегося миросозерцания, находящего себе свои собственные поэтические формы.
Когда я закончил «Цветник царевны», мне стало ясно, что я совершенно ушел как от исторического критицизма, который сказался в моей первой книге «Цветы и ладан», так и от романтического пессимизма, который сказался во второй моей книге «Crurifragium». В предисловии к первой книге сказано: «При современном состоянии философской мысли едва ли возможно, без компромисса и самообмана, принять метафизику апостола Павла»* (Цветы и ладан, 10). В предисловии ко второй книге я противополагаю якобы ложному методу научного анализа истинный метод эстетического восприятия** (Crurifragium, IX, X.).
Новую книгу я издаю с твердой уверенностью в том, что наука и искусство разными путями ведут нас к одним целям, из которых высшая и подчиняющая себе другие есть цель религиозного знания и творчества, и что современная наука в своих дальнейших выводах неизбежно придет к новому утверждению той самой метафизики апостола Павла, которую она отвергла в незрелую эпоху своего развития.
Однажды мне пришлось высказать сочувствие идее профессора Зелинского о будущем славянском Ренессансе. Эта идея близка мне и теперь, но при следующих оговорках.
Высший расцвет искусства обыкновенно происходит от соприкосновения двух культур, от восприятия молодой, полной непосредственного природного и религиозного чувства народностью плодов многовековой и изысканной культуры. Так было, когда на почве дикой, средневековой Италии привились тонкие цветы византийского искусства. Это соприкосновение итальянской девственной культуры с перезрелым эллинизмом Византии дало весну Ренессанса, дало Джотто и Боттичелли.
Искусство раннего ренессанса до сих пор остается идеальным образцом, как соединившее в себе два начала: религиозное, условное, символическое, с одной стороны, и реалистичное, природное – с другой. Канон, условность, религиозность есть то, без чего не может быть истинное искусство. Этой религиозностью проникнут весь Джотто, она еще не исчезла и у Боттичелли. Но, в отличие от чистых византийцев, у Джотто есть всё возможное совершенство экспрессии, maximum реализма, допустимого в искусстве. С Леонардо начинается антирелигиозный характер итальянского искусства, достигшего полного падения в натурализме рафаэлевой школы.
Тот ренессанс, которого мы вправе ждать от русского искусства, который завещан великим прошлым нашей поэзии и духом нашего народа, есть именно этот ранний ренессанс прерафаэлитов. Начала этого ренессанса находятся в поэзии Жуковского и Пушкина, хотя и они не были свободны от предрассудков академизма и рафаэлевских традиций.
Россия – до сих пор дикая страна, не прошедшая того культурного пути, той классической школы, которую прошли народы Запада. Но при всей малоценности нашего культурного развития, мы обладаем тем, чего нет на Западе: массой религиозного народа, с одной стороны еще не потерявшего связи с землей и естественной религией, а с другой – глубоко восприявшего нравственные начала христианства: начала подвига, самоотвержения и любви. Эти начала завещаны нам и тремя корифеями нашей поэзии: Жуковским, о котором сказал Тютчев: «веял дух в нем чисто-голубиный», «его душа возвысилась до строю»; Пушкиным, в образе Татьяны воплотившим всё стремление русской природы и русской души к самоотречению, и Тургеневым, возведшим в лице Лизы это стремление до идеала церковно-аскетического. Из этих трех начал 1) народной религии, с ее близостью к земле, пережитками художественной старины и глубоко воспринятым нравственным началом христианства; 2) неисчерпаемой сокровищницы византийского эллинизма, оплодотворившего однажды искусство Италии и способного вновь оплодотворить наше искусство, и 3) нашего светского, культурного возрождения, выводящего себя из первоисточника нашей поэзии Пушкина, – из этих трех начал и может возникнуть будущий русский Ренессанс, ничего общего не имеющий с натурализмом и материализмом позднего итальянского ренессанса.
Сергей Соловьев. 11 октября 1912 г. Дедово
ОБРАЗ МИЛЫЙ[141]141Эпиграфы – 1) из ст-ния В. А. Жуковского «К ней» (1817); 2) из поэмы А. де Мюссе «Майская ночь» (La Nuit de Mai, 1835). Перевод: «О мой цветок, о моя бессмертная! / Единственная душа, верная и целомудренная, / В которой еще живет любовь ко мне!».
[Закрыть]
Имя где для тебя?
Не сильно смертных искусство
Выразить прелесть твою.
Жуковский
О mа fleur, o mon immortelle,
Seul etre pudique et fidele
Ou vive encor amour de moi.
Alfred de Musset
Сколько лет в тоске упорной,
Обступаем мглою черной,
Бога солнечного сын,
Я, пугая злые силы,
Вызывал твой образ милый,
Вечно замкнут и один.
Я стремил к тебе объятья,
Зовом лирного заклятья,
В пытках воззывал: приди!
Утоли и дай забвенье!
Ты, звездой сверкнув мгновенье,
Исчезала впереди.
Но теперь в напевах вьюги
Я расслышал зов подруги,
Всё развеялось как дым.
Мира тает призрак грубый,
Лишь младенческие губы
Рдеют смехом золотым.
Смех твой – как лесные струи
Животворны поцелуи,
Как лобзания небес.
Ты смеешься, ты ликуешь,
Ты над мраком торжествуешь,
Твой возлюбленный воскрес.
Радуйся богине, лира!
В море вечного эфира
Злая расточилась тьма.
Чу! голубки воркованье…
Дух познал очарованье,
Сладость легкого ярма.
Слышу: пленник вожделенья,
Ты отравлен ядом тленья,
Ты и слеп, и глух, как труп.
Все грехи твои омою
Голубиной чистотою,
Поцелуем нежных губ.
Дальше, дальше ото всех
Ты меня умчи
В снежный вихрь.
Шум метели, детский смех
И лучи
Глаз твоих.
Лишь увидел я тебя,
Позабыл
Всех подруг.
Нам легко, как голубям,
Реять в небе плеском крыл,
Королевна вьюг.
Нам ресницы опуша,
Падай, снег,
Звездочка, кружись!
Вот и вся моя душа…
Рдей, улыбка! Звонче, смех!
Вот и жизнь.
«Крепче голубой мороз…» (с. 332). Посвящение – неустановленное лицо.
[Закрыть]
Посв. Наталии В. Богословской
Крепче голубой мороз,
Воздух скован, пахнет дым.
Кто тебя, дитя, принес
В край железных, звездных зим?
Целый мир – лишь ты одна,
Как легко, светло с тобой.
Душу высветлил до дна
Взор хрустально-голубой.
Из-под загнутых ресниц
Блещет бледная лазурь,
Голос – щебетанье птиц
В воздухе без туч и бурь.
Кто ты: маленькая рысь,
Или райский ангелок?
Выжжена морозом высь,
Город мертв, рассвет далек.
Крепче яростный мороз,
Город бездыханно пуст…
Только мягкий шелк волос,
Нежный, нежный пурпур уст.
Ты знаешь, ты знаешь: я с первого отдал мгновенья
Мое сердце тебе, как только тебя увидал,
И стало былое добычей забвенья,
Всё прошлое смыл набегающей радости вал.
Весь день перед встречей, неясного полон похмелья,
Я плакал, молился, не ведая сам, почему,
И ты предо мною предстала, мое золотое веселье,
И ангел лазурный рассек облегавшую тьму.
Ты смотрела в пространство, задумчиво стоя,
И казалось: тебе открывается вечная даль.
И рванулась душа, и сверкнуло вино золотое,
О свиданье пропел зазвеневший заздравный хрусталь.
Так поверим, поверим вскипевшему пеной веселью!
И, покинувши мир,
В час полночи злой закружимся с безумной метелью,
Умчимся в синий эфир.
Я знал тебя вечно: ко мне приходила во сне ты,
Царевна морозов, принцесса серебряных грез…
Земля позабыта, в пространстве мерцают планеты,
И вьюга играет развеянной прядью волос.
Улыбаются очи, и близятся нежные губы…
Принцесса, принцесса, куда ты влечешь меня?
Чу, вьюга вдали затрубила в несметные трубы
И вихрем снежинок на нас налетела, звеня.
Быстро под напев метели
Миги счастья пролетели,
Снова ночь моя пуста.
Помнишь, помнишь, как, бывало,
Ты от уст не отрывала
Охладевшие уста?
Как, предчувствуя разлуку,
Жал я маленькую руку
И щекою к рукаву
Припадал с безмолвной лаской.
Всё, казавшееся сказкой,
Всё сбывалось наяву.
И дышал под пылью снежной
Уст полураскрытых нежный,
Смятый поцелуем цвет.
Сердце к сердцу приближалось,
Сердце сердцу отзывалось,
Билось радостно в ответ.
Было больно, было сладко
Выпить, выпить без остатка
Пурпур губ и нежность глаз.
Сердце всей своею кровью
Поклялось тебе любовью
В первый и последний раз.
И, когда мой час настанет,
Пусть душа твоя вспомянет
Сказку ночи голубой.
Ты, лобзаньем кончив муки,
Примешь в маленькие руки
Сердце, жившее тобой.
Бабушка и внучка (с. 335). Посвящение – Ахрамович (Ашмарин) Витольд Францевич (1882–1930), литератор, секретарь изд-ва «Мусагет».
[Закрыть]
Посв. В.Ф. Ахрамовичу
Колдует над полянами веселая весна,
А бабушка молитвенник читает у окна.
И незабудки нежные, в тени зеленых ив,
Смеются, глазки синие над озером склонив.
Земля под маргаритками, как в розовом снегу,
А девочка веселая играет на лугу.
Вся – маленькая, легкая, лазоревый глазок.
Заговорит, и кажется: воркует голубок.
Бежит из лесу к девочке знакомая семья.
«Ах, здравствуйте, голубчики, любимые друзья!
Лисичка-вертихвосточка, ты всё еще жива?
А вы как зиму прожили, синичка и сова?
Ты, рыбка красноперая, не любящая зим,
Как весело ты хвостиком сверкаешь золотым!
Плыви скорее к берегу и жди у тростника,
Тебе я в грядках вырою большого червяка!»
И вскрикнула, и кинулась, откинув волоса,
И смех, как звон серебряный, под небом разлился.
А бабушка молитвенник читает сквозь очки,
Каштан склонил над окнами зеленые сучки.
Синичка, рыбка, совушка, примите мой поклон!
Должно быть, в детстве радостном я видел этот сон.
Я лежал в гробнице без движения,
Посинели губы, взор ослеп;
Ароматом ладана и тления
Был насыщен, красными лампадами
Озаренный, безысходный склеп.
Вкруг меня враги смеялись злобные,
И не мог я злобу их заклясть.
Тело, тайными отравленное ядами,
Плащаницы повивали гробные,
Язвы нардовая умащала масть.
Но домчалось воркованье голубиное,
И гробница смрадная пуста.
Ты рассыпала на грудь мне кудри длинные,
И пурпурными омыла поцелуями
Посиневшие, холодные уста.
И вокруг одна лазурь бескрайная,
Пурпур уст и смех твой золотой.
Тлен пронизан голубыми струями…
Что вершится новое и тайное
Над безумною и темною душой?
Раутенделейн (с. 337). Раутенделейн – героиня пьесы Г. Гауптмана (1862–1946) «Потонувший колокол». На рифме в строфе V подразумевается оригинальное произношение: «Раутенделяйн».
[Закрыть]
Я стал на братьев непохожим,
Людские позабыл труды,
И мох зеленый стал мне ложем
Трапезой – корни и плоды.
Шалаш соорудив под буком,
Охотничий надевши плащ,
Бродил я годы с верным луком
Среди глухих, еловых чащ.
Чего со мною не бывало!
Все звери за меня брались.
Не раз коза меня топтала,
И грызла золотая рысь.
Я – весь одна живая рана —
Из цепких вырывался уз.
Плечо хранит клеймо капкана
И зуба волчьего укус.
На третье лето испытаний,
Не могшему постигнуть тайн,
Ко мне явилась на поляне
Царевна Раутенделейн.
Она была – как утро мая,
Нежнее первого цветка,
Живей, чем струйка ключевая,
Как серна горная, легка.
Звенели, как лесные струи,
Ее слова и смех живой,
И были свежи поцелуи,
Как первый ветер заревой.
Она сказала: «Я разрушу
Всю казнь, творимую зверьми,
Люби меня, отдай мне душу».
И я ответил ей: «Возьми!
Возьми ее всю без изъятья,
Я ждал тебя одну – года.
Твой поцелуй, твои объятья
Меня пленили навсегда».
Она, младенчески ликуя,
Припала грудью мне на грудь,
Не разрывая поцелуя
И медля губы разомкнуть.
Казалось, первым из сокровищ
Я обладал. Но лес восстал,
И целый хор лесных чудовищ
Неистово заскрежетал.
И, вдруг ужаленный ехидной,
Я в пропасть рухнул. Я, как труп,
Лежу в крови, и мне не видно
Ни глаз твоих, ни милых губ.
Татьянин день (с. 339). Плющихинский лихач – в годы создания ст– ний «Цветника царевны» Соловьев жил на Плющихе в 6-м Ростовском переулке в доме Кожиной.
[Закрыть]
Татьянин день! знакомые, кузины —
Объехать всех обязан я, хоть плачь.
К цирульнику сначала, в магазины
Несет меня Плющихинский лихач.
Повсюду – шум, повсюду – именины,
Туда-сюда несутся сани вскачь,
И в честь академической богини
Сияет солнце, серебрится иней.
Сквозь шум мужских и женских голосов
Твой детский смех я слышу из передней.
Всё тот же он, как несколько часов
Тому назад, в минуту страстных бредней.
Сдирая лед с замерзнувших усов,
Вхожу, смущен, как черт перед обедней.
«Как Вы бледны! не спали, верно?» – «Да».
А взор ее сияет, как звезда.
И сладко мне лелеять наши тайны,
И жаль, что чай смывает легкий след,
И тает поцелуй необычайный
Ее цветущих уст. Его уж нет.
Я взор ловлю и каждый вздох случайный.
Не двое ль мы? Действительность, как бред,
Уходит вдаль, и тонет взор во взоре.
Пускай кругом шумит людское море!
Татьянин день! О первый снег и розы,
Гвоздик и ландышей душистый куст.
О первые признанья, клятвы, слезы
И поцелуй оледеневших уст.
Уж близко утро, синие морозы
Сжигают высь, звенящий город пуст.
Последний вздох над лестницею темной…
Порыв любви, божественно-нескромный.
Прости! окончен тяжкий год
Лобзаний страстных и могил;
Пришел, должно быть, мой черед
Признаться, что не стало сил.
Так любят в жизни только раз:
Отец и мать, и отчий дом
Ты мне была. В последний час
Ты не подумала о том?
Прости! какое море мук,
Какое пламя, яд и кровь
Таит единый этот звук,
Звук, отпевающий любовь.
Кто осквернит твои уста?
Кому – твоя святая грудь?
Младенец мой, везде, всегда
За всё благословенна будь!
Так близко счастье, и ужель
Я одинок уже навек?
Я ухожу в мою метель,
В холодный ветер, ночь и снег.
Да, ты права, я сильно постарел
За этот год, он десяти годам
Равняется: сначала тучей стрел
Любовь пронзила сердце мне, а там
За гробом гроб и язвы тайных мук.
Измученный, не покладая рук,
Я всё иду к намеченной мете,
Но даль темна, и силы уж не те.
Я б не поверил год тому назад,
Что через год ты будешь уж не та:
Так светел был твой непорочный взгляд,
Так нежны полудетские уста,
Так ты любви всецело отдалась,
Так отдаются в жизни только раз…
Мне странно, что я столько перенес,
Что на тебя могу смотреть без слез.
Тебе ясна души моей тоска,
Так тщательно таимая от всех.
Не лгу тебе, ты слишком мне близка.
Зачем же эта злоба, этот смех,
Всё сердце мне повергнувшие в ад.
Я пред тобой ничем не виноват,
Не думал я, что так бессильна ты
Пред властью дней и ядом клеветы.
Но нет, но нет: душа полна любви,
Она верна тем голубым ночам,
Когда я кудри целовал твои,
Бегущие волнами по плечам,
Когда я был моей малютке люб,
Когда твоих полураскрытых губ
Касался я в порхающем снегу.
Нет, разлюбить тебя я не могу.
Я не могу сказать «прости» всему,
Чем долго так душа моя жила,
Я не могу вернуться в злую тьму,
Откуда ты так властно извела
Меня любовью чистою твоей.
…………………………………….
«Боярин! Боярин! о чем ты загрезил? куда
Глядишь ты печально, из рук уронив повода?»
– «Кручины моей не поймешь ты, мой верный слуга;
Давно мне постылы родные леса и луга:
Там, в синей дали, за лесами, как сон наяву,
Белеет дорога, и эта дорога – в Литву.
Туда полечу, опоясавши дедовский меч,
Туда, где уж боле не слышится русская речь,
Где пашут волы на чужих, незнакомых полях,
Где в темной корчме веселятся венгерец и лях,
Где кости гремят и веселые кубки шипят,
Где в небе синеют вершины далеких Карпат.
Туда, где свой гроб покидает алкающий труп,
Где бледные лица с сомнительной алостью губ,
Где бродит монах, по ночам, на дорогах глухих,
Где путник ночной бережется безумных волчих…
Там – тоже весна. Там фиалки цветут на лугах,
Поет соловей под тенистою липой, и – ах! —
Там сердце одно расцветает, как ландыш лесной,
И хочет любить и дышать голубою весной.
Прости, мой слуга, господина без страха покинь,
Уж ветром весенним лицо мне ласкает Волынь».
– «Боярин! Боярин! тебе не вернуться назад,
Истлеет твой труп у подошвы далеких Карпат…
Сладка упырям молодецкая русская кровь».
– «Мечом и крестом завоюю весну и любовь».
РОЗЫ АФРОДИТЫ[146]146
Не ваша ли кровь, как огонь, разливается в жилах?
В далеком потомке нежданно волнуетесь вы,
О предки мои, что столетия спали в могилах
Родимой Литвы?
Вы, летевшие в битву, едва раздавалась команда,
Обагрявшие кровью Дуная святые струи,
Блестящей толпой окружавшие трон Фердинанда,
О предки мои!
Литовские графы, я чую ваш дух непреклонный,
И гордая радость во мне заиграла ключом,
При виде фамильного льва с золотою короной
И с синим мечом.
О гении рода, врагов моих злых истребите,
Как ветер осенний срывает с деревьев листву,
Сомкните щиты надо мною, и благословите
Мой путь на Литву.
Цикл ст-ний под тем же загл. – Антология.
Эпиграф – из ст-ния А. А. Фета «Ее не знает свет, – она еще ребенок…» (1847).
[Закрыть]
Блажен, кто замечал, как постепенно зреют
Златые гроздия, и знал, что, виноград
Сбирая, он выпьет их сладкий аромат.
Фет
Парис (с. 346). Антология. С. 211–212. Палестра – частная гимнастическая школа в Древней Греции для обучения мальчиков 12–16 лет.
[Закрыть]
Еще вчера шел дождь, и море было серо,
А нынче целый день сияет небосклон,
Хранима Эросом, плывет моя триэра
В божественный Лакедемон.
Уже который день, не покидая вёсел,
Гребут товарищи, морскую зыбь деля.
Для сна и отдыха ни разу я не бросил
Из рук скрипучего руля.
Струятся с гор ручьи растаявшего снега,
Мне треплет волосы душистый ветр весны.
Какая слышится ликующая нега
В журчанье вспененной волны!
Не страшен мне ваш гнев, кичливые Атриды.
Мой жребий царственный открылся мне в тот день,
Когда я пас стада в лугах родимой Иды,
Свирелью прогоняя лень.
Напрасно Азии великую державу
Сулила Гера мне; во всех сраженьях верх
Афина прочила: и почести, и славу
Я с равнодушием отверг.
Но тут, сорвавши с плеч пурпуровую хлену,
«Ты вкусишь радости, доступной лишь богам, —
Киприда молвила, – я дам тебе Елену».
И я упал к ее ногам.
Ни слезы матери, ни отчие седины
Не задержали путь. Во прахе и крови
Пусть рухнет Илион! Всё, всё за миг единый
Ее божественной любви!
Приама древнего прими благословенье.
Уже чертог – в цветах, готов венчальный хор,
И нежных ног твоих зовет прикосновенье
Фиалка ионийских гор.
Остановись, ладья! Как с птичьего полета,
Я вижу весь узор таинственной судьбы.
Привет вши, тростники священные Эврота,
Палестры мраморной столбы.
Кто эта женщина, прелестная, как нимфа,
Стоит в кругу подруг, поднявши диск златой?
В кудрях ее – венок из роз и гиакинфа…
Погибни, Илион святой!
1910. 1 марта, Геленджик
Посещение Диониса (с. 348). Антология. С. 219–220. Менада (вакханка) – спутница Вакха (Диониса).
[Закрыть]
Тайный гость в венке из винограда
В полночь постучался у крыльца:
Отвори мне, юная менада,
В дом впусти ночного пришлеца.
Я устал, оборваны сандальи,
Вся в пыли на посохе лоза,
И полны желанья и печали
Отрока бессонные глаза.
С сердцем, полным ужаса и дрожи,
Грудь и губы устремив ко мне,
Ты не спишь на знойном, смятом ложе,
Свесив ногу в кованном ремне.
Как и я, ты зажжена любовью,
Очи вожделением горят,
И пылает жертвенною кровью
Алых уст и персей виноград.
Встань, возьми потир из кипариса,
Тайный пир для гостя приготовь,
И насыть лобзаньем Диониса
Темную, взволнованную кровь.
Нежная, в венке из роз и хмеля,
Свой хитон на части разорви,
Пей мой взор, исполненный веселья,
Светлого безумья и любви.
В дверь стучу. Тебя, тебя мне надо.
Я устал от долгого пути.
Отвори мне, юная менада,
И порог лобзаньем освяти.
Вакханка (с. 349). Антология. С. 221–222.
[Закрыть]
Вся – желанье, вся – тревога,
Без сознанья и без сил,
Ты замедлила немного,
Жрица бога, чуя бога
Приближающийся пыл.
Грозен Вакх, когда к менадам
Он нисходит: трепеща,
Ты возносишь с пьяным взглядом
Тирс, увитый виноградом
И побегами плюща.
Как любовница на ложе,
Млея, кличешь: Вакх! Эвой!
И тимпан из красной кожи
Кружишь в сладострастной дрожи
Над кудрявой головой.
Ты, как жертва в час закланья,
– Непорочна и свята.
В персях – трепет и пыланье,
Дионисова лобзанья
Алчут алые уста.
Ты упала с томным стоном,
Звонко бросивши тимпан…
Тише, с шепотом влюбленным
К персям девы воспаленным
Припадает юный Пан.








