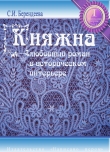Текст книги "Царский изгнанник (Князья Голицыны)"
Автор книги: Сергей Голицын
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц)
«Один в поле не воин, – думал он, – а вокруг кибитки народа, и народа подгулявшего, собралось немало. Потом, разумеется, я назначу строгое следствие; но теперь, пожалуй, так отдубасят, что и никакому следствию не рад будешь». Быстро сообразив всё это, Спиридон Панкратьевич пустился на дипломатию.
– Извините, князь, – сказал он, – у меня большое горе, и я весь вне себя: здесь на улице завязалась драка, в которой моего Петю сильно поколотили; как градоначальник и как отец, я должен разобрать дело и с виновных взыскать. Поэтому... прошу вас быть так добрым и меня больше не задерживать: князь Василий Васильевич, обе княгини и княжна Елена Михайловна, слава Богу, здоровы...
– У меня есть к вам письмо, – сказал князь Михаил Алексеевич.
– Письмо? От кого?
– От князя Репнина. Я вам ужо пришлю его.
«Ага-а! Наконец-то и на нашей улице праздник!» – подумал Сумароков.
– Письмо запечатано? – спросил он.
– Разумеется! А за что поколотили вашего Петю?
– Я ещё не разобрал дела; сейчас разберу его со всевозможной справедливостию. – Спиридон Панкратьевич хотел сказать: со всевозможной строгостию, но, взглянув ещё раз на толпу, перед которой он чувствовал непреодолимое уважение, он повторил:– Со всевозможной справедливостью, – И прибавил: – И со всевозможным снисхождением. Я всё ещё надеюсь, – продолжал он, – что дети не так виноваты, как кажется; тут, должно быть, какое-нибудь недоумение, которое я и разъясню. А вам не угодно ли заехать покуда к жене моей и передать ей письмо князя Микиты Ивановича? Князь Василий Васильевич теперь почивает; княгини, кажется, поехали кататься, и вы бы очень успели...
– Нет! Заехать к вам мне некогда; а письмо я вам скоро доставлю.
Кибитка тронулась, и за ней побежали все мальчики, кроме Пети; убежали даже Фадька и другой военнопленный Сумарокова. Толпа начала медленно расходиться.
Спиридон Панкратьевич повёл сына домой, освидетельствовал, с помощию своей жены, его раны и, видя, что они нимало не опасны, начал расспрашивать его о причине нанесённых ему побоев.
Петя объяснил дело очень просто: один из мальчиков, бывших на лотерее, украл в людской банку варенья; возвращаясь домой, он её выронил, а Петя поднял её и хотел отнести к Харитонычу, но мальчики, увидев это, накинулись на него и принялись бить его изо всей мочи.
– Недаром видела я такой сон! – сказала Анна Павловна... – А Клюквой ругали тебя?
– И Клюквой, и всячески ругали, – отвечал мальчик. – Они все ненавидят меня за то, что я сын их начальника и что, любя правду, я не скрываю от тятеньки их шалостей.
Спиридон Панкратьевич с любовью и гордостью смотрел на своего сына.
– Молодец ты будешь, я, отец твой, предсказываю тебе, что ты далеко пойдёшь; не правда ли, Анна Павловна, он далеко пойдёт?
– Если ты дашь повадку посадским озорникам бить его безнаказанно, то он далеко не уйдёт: посмотри, какие синяки на всём теле! Да и полушубок весь разорван.
– Ну, этой повадки я им не дам: нынче же главные зачинщики драки жестоко поплатятся за свою дерзость, а завтра и до остальных доберусь. Самую лучшую, самую новую дублёнку отниму для Пети и эту ему же оставлю для будней... А знаешь ли новость, Анна Павловна? Князь Михайло Алексеевич привёз нам ответ от князя Микиты Ивановича; обещал скоро прислать его.
– А посылка есть?
– О посылке не спросил, не до того было, так обрадовался я ответу. Должно быть, есть и посылка. Как, однако, умён князь Микита Иванович, догадался, с кем прислать ответ, чтоб он дошёл и скорее и вернее, и запечатал князь его сам, своей собственной княжеской печатью, чтоб князь Михайло-то не посмел полюбопытствовать, что в нём написано. Как ты думаешь, Анна Павловна, можно будет завтра же приступить к допросу Голицыных.
– Разумеется, надо завтра же. Что долго откладывать? Кончишь расправу с мальчишками, принимайся и за тех. Только прежде всего вытребуй мою посылку: неравно в опись попадёт, и достанется она не мне, а Сысоевой.
– Небось и нам что-нибудь перепадёт; тут не одной посылкой пахнет. Завтра же чем свет соберу всю мою стражу под ружьё и отправлюсь к старому князю, а теперь пойду с Савельичем по избам да на всякий случай захвачу с собой десятка два моих молодцов. Живо расправимся! И ты иди со мной, Петя; посмотришь, как твой отец заплатит за нанесённые тебе обиды: велю раздеть и перевязать всех этих негодяев, и ты сам собственноручно будешь пороть их, пока не устанешь. Что, тебе ходить не больно?
– Немножко больно, тятенька, то есть очень больно, но коль прикажете, я готов идти с вами и помочь вам.
– Ну, право, молодец мальчик растёт! Позови сюда Савельича, слышь, он храпит на полатях.
Петя вышел в соседнюю комнату и вскоре возвратился с известием, что Савельича никак не добудишься.
– Опять пьян, каналья! – сказал Сумароков. – Все эти писаря страшные пьяницы, хоть убей, хоть не бей их; вот уже в полгода осьмого меняю; и этого бы надо сменить, да мастер писать, бестия! Вечно, когда его нужно, тут-то он и назюзится. Конечно, я не говорю, выпить можно; отчего не выпить? Я и сам пью; но я меру знаю. Не правда ли, Анна Павловна, я пью в меру?
– Как же, Спиридоша, теперь ты гораздо реже бываешь...
– Попробую-ка сам разбудить Савельича. Матрёшка! – крикнул Спиридон Панкратьевич кухарке. – Принеси поскорее ведро воды да побольше снегу в тазу...
Ни одно из употреблённых Спиридоном Панкратьевичем средств для пробуждения Савельича на этот раз не помогло. Известно, что с незапамятных времён Сыропуст, то есть канун Великого поста, слывёт на Руси таким великим праздником, что всякий истинно русский человек считает непременным долгом почтить его обрядом, называемым по-славянски положением риз. Бывают, конечно, исключения из этого правила, но они касаются большей частью людей не чисто русских, а онемеченных. Обложенная снегом и облитая ледяной водой голова Савельича в первый момент как будто отрезвилась; пациент попытался даже привстать, но попытка эта оказалась неудачною: раскачавшись на полатях, как маятник испорченных часов, Савельич потерял равновесие и, грянувшись мокрым затылком об пол, пробормотал какое-то ругательное слово, повернулся на бок и захрапел на полу так же сладко, как минут пять перед тем он храпел на полатях.
– Ну, – сказал Спиридон Панкратьевич, – видно, нынче придётся обойтись без письменного следствия. Ограничусь словесным; с этим болваном нечего терять время: скоро смеркнется. Он, пожалуй, и завтра весь день проваляется... Эва! Хуже мёртвого, скотина!.. Посмотри-ка, Матрёшка, не пришли ли солдатики.
Солдатики, в числе пятнадцати человек, стояли перед крыльцом, ожидая приказаний начальника. Весь гарнизон Пинеги состоял из восьмидесяти человек, но многие ещё с утра, до истории с Петей, отпросились на весь день – погулять; другие гуляли не отпросившись; да и из собравшихся на зов начальника пятнадцати человек только трое или четверо оказались онемеченными; остальные, – и в том числе унтер-офицер, – едва держались на ногах.
Сумароков распустил команду по домам. «Пожалуй, замёрзнут, подлецы! – подумал он. – А там отвечай за них начальству. А скажи им теперь хоть слово лишнее, так они, спьяна, чёрт знает чего не натворят; те же мужики, только хуже – вооружённые».
Любя дисциплину, Спиридон Панкратьевич с должной строгостью поддерживал её во вверенном ему войске, но при этом он не забывал и благоразумной осторожности.
Сама судьба, очевидно, противилась рвению Спиридона Панкратьевича к службе и обуздывала нетерпение его начать следствие, хоть покуда словесное, хоть покуда над детьми. Видя, что на этот вечер расправа за своего Петю если не невозможна, то, по крайней мере, не безопасна, он возвратился к жене и велел подавать ужинать. Матрёна поставила на стол, накрытый полосатой грязной салфеткой, чашку с тремя деревянными ложками и пошла за горшком с солянкой из рыбы. Анна Павловна достала из шкафа графинчик водки, настоянной травами. Этот графинчик, вмещавший в себя ровно полштофа, составлял ежедневную порцию Спиридона Панкратьевича: поутру и за обедом он выпивал из него по чарке, а за ужином и вечером допивал остальное.
– Тятенька! А мне можно винца? – спросил Петя.
– Для праздника можно, – отвечал Спиридон Панкратьевич, и Анна Павловна, достав из того же шкафа другой графинчик с простым пенным вином, поставила его перед мужем, прибавив, по обыкновению:
– Не знаю, хорошо ли ты делаешь, Спиридоша, что позволяешь Пете пить вино: рано ещё ему приучать свой желудочек к этому зелию.
– Ничего! – отвечал Спиридоша. – Когда выпьешь, веселее на душе, а нынче Петя очень огорчён. Не правда ли, Петя? – Спиридон Панкратьевич налил полную чарку и подал её Пете, который проворно протянул руку, хотя и знал, что отец, всякий раз повторявший одну и ту же шутку, непременно его обманет. Действительно, первую чарку Сумароков выпил сам, сказав с громким хохотом: – За ваше здоровье, Пётр Спиридонович; не попадайтесь вперёд! – Потом он налил полчарки для Пети, который, тоже смеясь во всё горло, выпил за здоровье отца. Анна Павловна с умилением глядела на эту семейную картину.
Спиридон Панкратьевич любил иногда поднести водочки своему сыну, и на это было у него две причины: во-первых, хотя он и знал по собственному опыту, что излишнее употребление спиртных напитков вредно для здоровья, он полагал, однако, что полчарки хорошего хлебного вина, процеженного через уголь, не только не повредит организму двенадцатилетнего, быстро растущего мальчика, но даже предохранит его от многих недугов. Во-вторых, страдав недавно ещё запоем и с трудом оправившись от последней бывшей у него белой горячки, Спиридон Панкратьевич по выздоровлении дал заклятие, что впредь больше полуштофа в день он пить не будет. Это заклятие, данное им перед иконой Преподобного Спиридона, соблюдалось в продолжение целого месяца с твёрдостью непоколебимой, внушаемой каким-то непостижимым суеверным страхом: Спиридон Панкратьевич был убеждён, что если он нарушит своё обещание, то с ним случится что-нибудь недоброе. В те же дни, когда подносилась водка Пете, Спиридон Панкратьевич, как градоначальник и как отец, считал себя некоторым образом обязанным попробовать, нет ли в этой водке сивушного запаха, столь вредного для слабых нервов ребёнка. Сначала эти пробования ограничивались одним, и то очень маленьким, глотком из порции Пети. Это было в то самое время, как Спиридон Панкратьевич получил чин второго воеводы и назначение в Пинегу. Видя, что само небо продолжает так очевидно ему покровительствовать и что, следовательно, в пробовании Петиной водки Преподобный, приявший заклятие, не видит нарушения этого заклятия, Сумароков начал мало-помалу прибавлять размер пробной порции и вскоре дошёл до полной, по край налитой чарки.
После солянки Матрёна поставила на стол блюдо с крупной архангельской, жирно обжаренной навагой, кругом обложенной белозерскими снетками. Анна Павловна и Матрёна постарались превзойти себя и состряпали истинно масленичное заговение. Невзгоды дня забылись Спиридоном Панкратьевичем; забылся Анной Павловной виденный ею сон; забылись даже Петей нанесённые ему побои. Беседа, крайне оживлённая, поддерживалась со стороны хозяина травной настойкой и надеждой на скорое начало следствия над Голицыными: со стороны хозяйки – надеждой на посылку и на продолжение милостей князя Репнина; со стороны сына – перспективой мщения уличным мальчишкам по составленной его отцом программе. В стоявшем на столе графинчике оставалась недопитой ещё чарка, и Спиридон Панкратьевич, ласково улыбаясь то графинчику, то наваге, то жене своей, поласкал графинчик по шейке и наполнил или, вернее сказать, переполнил свою последнюю за этот вечер чарку.
В эту минуту в комнату пахнуло холодным ветром, и в неё вошла Матрёна, держа в одной руке тарелку с огурцами, а в другой – запечатанный огромной красной печатью конверт.
Вот, ваше благородие, – сказала она, – с княжеского двора верховой привёз. Не прикажете ли поднести ему водочки? Он, кажется, очень озяб.
Можно, – отвечал Спиридон Панкратьевич хриплым басом, – можно, только не этой. Он показал на свой графинчик, на дне которого оставалось ещё несколько капель.
Анна Павловна дрожащей от радостного волнения рукой налила полстакана из Петиного графина и велела позвать гонца.
– На вот, братец, выпей на здоровье, – сказала она, – отогреешься, мороз страшный.
– Так, госпожа, – отвечал посланный князя Михаила Алексеевича не чистым русским, но очень понятным языком, – очень морозно на дворе, зима сурова в этом крае.
– Выпей же, как раз согреешься, – сказал Сумароков, – а я покуда прочту письмо.
Очень благодарю, пулковник; я не пие вудки; пить не буду; а ежели пулковник позволит, то я погреюсь у печки. Hex тылько пулковник подпишет эту квитанцию.
– Что подписать?
– Вот эту бумагу, – отвечал гонец, учтиво кланяясь и подавая Сумарокову лист бумаги.
Сумароков прочитал написанное на листе:
– «Я, нижеподписавшийся пинежский военный начальник Спиридон Панкратьевич Сумароков, сим удостоверяю, что письмо от его сиятельства князя Аникиты Ивановича Репнина доставлено мне в исправности сего 15 февраля 1713 года; в чём и подписуюсь».
– Кто вы такой будете? – спросил Сумароков, немножко сконфуженный свободным обращением незнакомца и изменяя прежний грубый тон на менее неучтивый.
– Ян Ведмедский, компаньон его сиятельства.
– Кампании – что это за новый чин?
– То не чин, господин пулковник; то ужендованье[31]31
Лекарь.
[Закрыть]: я разом и маршалэк двору[32]32
Должность.
[Закрыть], и секретарь, и курьер, и лекарж[33]33
Дворецкий.
[Закрыть], и, смею сказать, сполечник[34]34
Сподвижник.
[Закрыть] князя Михаила Алексеевича.
«Ну, не важная же ты, брат, птица, – подумал Спиридон Панкратьевич, – а мне пришло было в голову, что князь Микита Иванович для верности прислал письмо со своим чиновником».
Сумароков подписал расписку, и пан Ян Ведмедский, учтиво раскланявшись, уехал.
– Где он поймал этого жендованова секлетаря и кульера? – сказал Сумароков. – Не нравится он мне, а – нечего сказать, – видный мужчина; и манеру знает хорошую: пулковником меня зовёт; по-ихнему пулковник значит полковник.
– Ах, какой ты учёный, Спиридоша, – сказала Анна Павловна, – даже по-ихнему знаешь: а вот насчёт того, что он видный мужчина, то я не согласна: ему, чай, далеко лет за сорок будет. Тебе тоже сорок второй год; но какой ты в сравнении с ним молодец! Ну-ка, читай письмо, Спиридоша. А о посылке-то ты так и не спросил!
– Что посылка? Говорю тебе: здесь не одной посылкой пахнет, – сказал Спиридон Панкратьевич, ударяя по пакету. – А ты мне вот что посоветуй, Анна Павловна: сейчас ли вскрыть пакет или покончить сперва с этой чаркой, а пакет покуда положить к образам. Выпивши, ещё веселее будет читать.
– По мне, лучше потом допьёшь, Спиридоша; ты вечером и то больно плохо видишь. От образов письмо не переменится, да и нечего меняться ему. Я хорошо знаю князя Микиту Ивановича: он бы скорее ничего не написал нам, чем написать неприятное. Дай-ка свечку, Матрёша, да поправь лампадку, ничего не видно.
Кухарка принесла сальную свечку и щипцы.
– Нет, Матрёша, – сказал Спиридон Панкратьевич, – для такого письма такая свечка не годится. Дай-ка две восковые, из тех, что церковный староста подарил на именины Анне Павловне.
– Ну, Спиридоша, в добрый час! Ломай печать, – проговорила Анна Павловна.
Ответ князя Репнина отличался большой чёткостью почерка, ещё большей ясностью выражений и более всего утраченной в нынешних официальных бумагах энергичностью слога. Вот ответ этот:
«Пинежскому военному начальнику Спиридору Панкратиеву сыну Сумарокову.
Письмо твоё от 25 декабря прошлого 1712 года я получил, и вот тебе мой ответ: если ты посмеешь ещё раз выйти из строгих пределов данной тебе начальством инструкции или тем паче если ты когда-нибудь затеешь что-либо против проживающих там бояр, то я тебя, – было бы тебе известно, – и знать не хочу, а бояре, если заблагорассудят, упекут тебя туда, куда Макар телят не гонял. Помни, что с иным рылом соваться в калашный ряд не следует, и знай, что сановники, против коих ты дерзнул каверзить, могут не нынче-завтра занять прежнее своё положение.
Своей Павловне от меня скажи, что данное ей его сиятельством князем Михаилом Васильевичем прозвище она вполне заслуживает, так как не сумела даже удержать тебя от твоего вздорного, гнусного и ни с чем не сообразного поступка. Главная квартира в лагере под Фридрихштадтом, января 31-го дня 1713 года. К сей грамоте князь Аникита княж Иванов сын Репнин руку приложил».
При чтении первых строк сей грамоты Спиридон Панкратьевич весь побагровел, и чем дальше продолжалось чтение, тем лицо его, и в особенности нос, делались длиннее и полосатее. Хмель прошёл. Прочитав последнюю строку, Сумароков уныло склонил голову набок.
– Вот те и посылка! – сказала Анна Павловна, – Недаром я во сне видела.
– А эта пристала ещё со своей посылкой да со своими дурацкими снами! – Спиридоша приготовил было свирепый взгляд для жены своей, но взгляд этот был перехвачен стоявшей перед ним полной чаркой, и по привычке Сумароков уже протянул к ней руку; но внезапно и быстро, будто действием вольтова столба, рука отшатнулась назад и схватилась за один из полуседых и полулысых висков градоначальника.
– Всё это ты наделала, проклятая чарка! – закричал Сумароков, с неистовством бросая её на пол. – Да ты, гадкий мальчишка, с вечным своим пьянством. Вот она, лишняя чарка! Вот оно, заклятие! Отозвались!
Спиридон Панкратьевич закрыл лицо руками и со стуком ударился им о стоявшую перед ним деревянную чашку с навагой.
Петя, прикидываясь испуганным, громко заплакал. Анне Павловне пришла мысль, что её муж сошёл с ума, и она не на шутку испугалась.
– Успокойся, Спиридоша, – сказала она, облепливая голову мужа огуречной кожей, – конечно, несчастие неожиданное, огромное, но зачем же убивать себя?.. Бог не без милости.
Спиридон Панкратьевич поднял голову.
– Бог не без милости? – вскрикнул он. – А Преподобный-то, а сивуха, а лишняя чарка?.. Ты говоришь, несчастие; не простое несчастие, а верная гибель, гибель на всю жизнь! Теперь они заедят меня. За что, говори, вы меня погубили? Знай же, дрянной мальчишка, – продолжал он, обращаясь к сыну, – знай же, что отныне тебе не дадут и понюхать вина; мало били тебя давеча эти негодяи!.. А если мать и после этого будет тебя спаивать, то не сметь заставлять меня пробовать твою подлую сивуху!
– Да когда же Петя смел заставлять тебя, Спиридоша? – сказала Анна Павловна.
– Да когда же я смел, тятенька?..
– Молчать, пострелок! Перестань реветь и пошёл дрыхать, не то так те уши надеру, что забудешь, как со мной спорить!..
Уже не в первый раз случалось, что Спиридон Панкратьевич гневался на своего сына. Он любил сына; он, конечно, любил бы его, если б он мог любить кого-нибудь, кроме самого себя. Он любил бы его, как продолжение своей породы, как отрасль, и достойную отрасль, столь дорогого для него корня; но это не мешало ему иногда очень круто обращаться с продолжателем своей породы. Петя хорошо знал это: на памяти его был не один синяк, сделанный отцовскими руками и ни в чём не уступавший синякам, которыми наделяли его посадские мальчики. Он знал также, что в иные часы, в особенности вечерние, заступничество матери не успокаивало, а ещё более раздражало отца и что в эти вечерние часы самое верное – удалиться от зла и сотворить благо.
В поднятом о сивухе и о лишней чарке крике Петя яснее всего понял то, что отец его хватил лишнюю чарку: дело бывалое, нимало не обеспокоившее Петю. В первую минуту он счёл полезным заплакать: иногда слезами удавалось ему смягчить разгневанного отца, но, видя, что на этот раз тактика эта бесполезна, Петя, не ожидая повторения приказания идти дрыхнуть, проворно выскочил из-за стола, ещё проворнее вскочил на полати, часа за два перед тем очищенные Савельичем, и начал засыпать, мечтая о том, как на следующее утро отец его проснётся таким же нежным, как всегда бывает по утрам; как о лишней чарке не будет и помину; как отец, внутренне сознавая свою несправедливость, приласкает Петю и сам поднесёт ему опохмелиться; как он первой чаркой обманет его и скажет: «Вперёд не попадайтесь, Пётр Спиридонович», а он, Петя, при этом засмеется. Сладкие мечты Пети мало-помалу перешли в грёзы ещё более сладкие; и вот он видит, как отец его вывел фурштатских лошадей из конюшни и привязал к коновязи Фадьку, Ваньку, Захарку; как Петя упросил отца раздеть и привязать также Дуньку и Акульку, сказав ему, что они чаще всех ругают его Клюквой; как он, Петя, вооружённый семихвосткой своего отца, перебегает от Захарки к Дуньке, от Дуньки к Акульке; как все просят у него прощения; как Дунька, коробясь от боли, клянётся, что никогда не будет ни играть, ни смеяться, ни даже говорить с Фадькой, а только и будет говорить с ним, Петей; как обе девочки кланяются ему в ноги и целуют его руки, а он продолжает бить их и семихвосткой, и рукой; как все дети, особливо Фадька и Дунька, начинают истекать кровью и уже не в силах кричать, а семихвостка всё продолжает... всё продолжает...
Долго ещё бесновался Спиридон Панкратьевич, долго уговаривала его жена успокоиться, повторяя ему всем известные, но редко кого успокоивающие истины, что криком, бранью, швырянием на пол посуды и ударами кулаками по столу и по письму Репнина – беде не поможешь и что, напротив того, чем больше беда, тем больше надо противопоставлять ей хладнокровия и рассудительности.
– Сама я вижу, Спиридоша, – говорила Анна Павловна, что положение наше тяжёлое, безвыходное, ужасное, особенно если там знают содержание твоего письма к князю Миките Ивановичу, но ведь ответ его был запечатан; значит, князь Микита Иванович не хотел, чтобы Голицыны читали его. Не съездить ли мне на княжеский двор разузнать, что там об нас думают? Ведь я им не чужая: мой дед Иван Феодорович Квашнин был двоюродный дядя отцу старой княгини.
– Знаю, матушка, но от этого не легче, как бы ещё хуже не было. Скажут: «На своих начал писать доносы».
– А коль скажут, так я отвечу им, что, мол, Сысоев велел и что ты не смел ослушаться начальства, что Сысоев прислал тебе уже совсем готовую бумагу, которую ты только переписал и отправил.
– Какую ты, матушка, околесицу городишь. Так и напишет о себе Сысоев, что он человек вздорный и малоспособный.
– Ах, я было забыла это! Ну, скажу им: ты от себя прибавил, что Сысоев человек вздорный, эта прибавка, может, ещё послужит нам...
– Не поверят этому Голицыны: не таковские; а вот – что правда, то правда – может быть, они о доносе ничего не знают, так надо поскорее принять меры, чтоб они не узнали о нём: придётся съездить тебе в Петербург и во что бы то ни стало выпросить этот донос у князя Микиты Ивановича; до тех пор я не буду спокойным ни на минуту. И кто мог ожидать подобного результата! Давно ли все придворные ненавидели князя Василия Васильевича, таскали его по острогам, чуть ли не пытали?.. А теперь вот что пишут! – И Сумароков ещё раз во всю мочь ударил кулаком по ответу князя Репнина.
– Ну полно, Спиридоша, – сказала Анна Павловна, – опять выходишь из себя: не хорошо. Итак, я сейчас же отправлюсь к княгине Марии Исаевне.
– Как же не выходить из себя! – продолжал Сумароков. – Знать тебя не хочу, пишет, свиным рылом зовёт меня...
– Вольно тебе принимать это на свой счёт, Спиридоша, да и князь Микита Иванович пишет: «с иным» рылом, а не со «свиным» рылом. Нельзя обижаться на всякую поговорку.
– Дурой зовёт тебя. Ну, положим, ты точно должна бы была отсоветовать мне. Прямая ты, право, дура, Анна Павловна, я на тебя понадеялся. Кому бы, кажись, как не тебе знать характер князя Микиты Ивановича? А ты зарядила своё: поклон, мол, князю напиши, попроси подачки да нет ли посылки? Вот те и подачка! Упекут тебя, пишет, куда Макар телят не гонял. Какие у него все глупые поговорки, никакой великатности не знает. А в самом деле, видно, князь Василий Васильевич опять входит в силу: даром что стар, а боятся его. Ну что ж! Ехать – так ехать! Поезжай, коль хочешь, а я ни за что не поеду; скажи, что мне нездоровится, что я давеча простудился. Ох, кабы знатье: не так бы обошёлся я давеча с князем Михаилом Алексеевичем!..
– Я сначала ничего не скажу, – отвечала Анна Павловна, – посмотрю, что там у них делается, и если увижу, что всё благополучно, то пришлю сани за тобой. Вот только вопрос: с кем мне ехать? Савельич, чу, как храпит; денщик провалился с утра; Матрёшка нужна дома. Жаль, что ты Петю уложил спать, а то он и меня бы свёз и за тобой бы приехал. Да за что, скажи, ты так на него рассердился? Чем он виноват, что князь Микита Иванович прислал такой ответ?
– А тем виноват, что ему не след нить водку: кабы не его лишняя чарка...
Сумароков вдруг остановился:
А ведь лишней чарки нынче не было, – пробормотал он сквозь зубы, – я её вылил на пол, и Преподобный, в справедливости своей, не может наказать меня именно в тот день, когда я перед ним не виноват... Знаешь ли что, Анна Павловна, – прибавил Спиридон Панкратьевич громким и внезапно повеселевшим голосом, – бояться нечего: я еду с тобой, и Петю возьмём, скажем: «Нынче прощальный день, и мы всей семьёй приехали проститься и, кстати, поблагодарить князя Михаила Алексеевича за доставленное им письмо. Чёрт бы побрал это письмо! Приготовь-ка мне новый кафтан, а я покуда разбужу Петю: бедный мальчик давеча очень перепугался.
Анна Павловна, ничего не знавшая о данном Преподобному заклятии, не понимала несвязных речей Спиридоши и приписывала их остатку хмеля, который, думала она, окончательно выйдет на морозе. Она вынула из сундука кафтан с серебряными галунами и принялась чистить его веником, а Спиридон Панкратьевич взлез на полати и потихоньку тронул своего сына за руку, судорожно мотавшуюся в воздухе.
– Погодите, тятенька, – говорил Петя во сне, – позвольте ещё немножко... Вот я только Дуньку-то... приподнимите её и положите на другой бок, тятенька... вот эдак! Да пустите руку...
– Полно бредить, Петя, проснись и одевайся. Сейчас едем на княжеский двор.
Петя открыл глаза.
– Гак это было во сне! – сказал он с упрёком. – Зачем вы разбудили меня, тятенька! Я видел, что...
И мальчик начал рассказывать отцу свой милый сон.
– Нечего жалеть пустого сна, Петя, – сказал отец, сделавшийся опять нежным и ласковым, – завтра наяву лучше увидишь, если будешь хорошо вести себя на княжеском дворе; не бойся, там весело будет: и полакомят тебя, и варенья, и пирожков, и чаю дадут; только ты, дурак, не объешься, как в последний раз, коль что дадут, не прямо в рот клади, а чинно положи перед собой. О давешнем варенье, чур, и не заикаться там, а если бездельник Харитоныч будет уличать тебя, то говорить то же, что мне говорил перед ужином... А в самом деле, мысль хорошая – привязать этих озорников и озорниц к коновязи... Право, молодец растёшь ты у меня, Петя!..