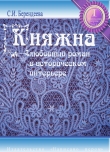Текст книги "Царский изгнанник (Князья Голицыны)"
Автор книги: Сергей Голицын
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 27 страниц)
– Как можно, Великим постом! – сказал монах. – Даже в смертном случае не разрешается...
Отец Савватий возразил, что не только в четверг на четвёртой неделе поста, но даже в Страстную пятницу мясная пища слабым и недужным разрешается и что по нужде он сам готов употреблять её.
Во время этих прений князь Василий Васильевич лежал как в забытьи, не принимая в них никакого видимого участия. Вдруг он приподнял голову и попросил пить.
– Я тоже не вижу большой нужды в кровопускании, – сказал он, – у меня ничего не болит, только голова очень слаба...
– Вы бы покушали бульону, дедушка, – сказала Марфочка, – вот и отец Савватий с вами покушает, пан Ведмецкий тоже советует, пан Ведмецкий хороший доктор: он не хочет пускать вам кровь.
– Нет, Марфа, – отвечал князь Василий Васильевич, – мне даже думать о еде противно.
– Пожалуйста, дедушка, хоть полчашки... хоть три ложечки, бульон подкрепит вас.
Проглотив счётом три чайные ложки куриного бульона и запив их полстаканом нектара, князь Василий Васильевич немножко оживился: бледные щёки его покрылись лёгким румянцем, глаза заблестели.
– Что, – спросил он у Агафьи, приносившей ему бульон, – плохо, Агафьюшка? Это, видно, не младенческая?
– На что плоше, батюшка князь! – отвечала Агафья. – Ишь как тебя вдруг сломило! Уж, видно, года такие...
– Полно, Агафья, – сказала Марфочка, – дедушка выздоровеет, ему и теперь, смотри, гораздо лучше... Ведь вам лучше, дедушка?
– Нет, Марфа, всё хуже и хуже. Агафья права: это начало конца. Без меня, видно, придётся ехать вам в Петербург... Когда увидишь царя Петра, Марфа, пожелай от меня счастия его царствованию и расскажи ему, как, умирая, я сожалел, что мне не привелось вместе с ним послужить России... Скажи ему, что я скоро собрался на его зов: пора собираться на зов того Царя!.. А что, наша Тавифа Иаировна спит уже?
– Нет ещё, дедушка...
– Принеси её мне. Я хочу с ней проститься.
– Зачем вы это говорите, дедушка? Больно слушать. Вы выздоровеете...
– Выздоровлю, так не беда, что я лишний раз перекрестил твою Тавифу; но я чувствую, что очень слабею; скоро начнётся агония, бред... принеси Еленку. Я хочу благословить её, пока бред не начался...
Марфочка, дрожа от волнения, едва была в силах добежать наверх.
– Неужели, Агафья, – спросил она, – дедушка так плох? Неужели нет никакой надежды?
– Горе-то какое, бедная моя княгинюшка! – отвечала Агафья. – И горе неминуемое: коль Бог и даст ему получше, так надолго ли?.. Не нынче-завтра... уж года такие!
– Пойдём, Тавифа, – сказала Марфочка, взяв дочь на руки, – пойдём прощаться с дедушкой. Он умирает... Боже мой! Не может быть, чтоб дедушка умирал!.. Ты тоже у меня умирала, Еленка... – Марфочка остановилась... «А что, если б у меня теперь спросили, – подумала она, – если б мне дали выбирать?..»
Марфочка крепко прижала дочь свою к себе.
– Молись, чтобы дедушка выздоровел, Еленка, – сказала она. – Бог услышит твою ангельскую молитву... Неси её вниз, Агафья, а то я уроню её: ноги подкашиваются!..
Когда Елену посадили на постель князя Василия Васильевича, он уже начинал бредить, но он узнал её, попросил отца Савватия поднести её к его лицу, поцеловал её в лоб, перекрестил и посадил перед собой. Девочка смотрела на него большими, серьёзными глазами, как будто понимая важность происходившего вокруг неё. Княгиню Марфу Агафья увела в соседнюю комнату, сказав, что её слёзы могут встревожить больного. Князь Михаил, тоже расхварывающийся, с мрачным видом стоял у изголовья деда, удерживая слёзы или утирая их, когда не мог с ними сладить и когда они застилали ему глаза. В эту минуту ему припомнилось, как двадцать пять лет тому назад он уезжал с Серафимой Ивановной за границу, как он плакал в Туле, прощаясь с дедушкой, как дедушка перекрестил его и сказал ему что-то очень грустное, от чего он, Миша, ещё больше расплакался.
«Вот... вот, – думал он, – дедушка сейчас скажет то же самое Еленке...»
– Перекрести и ты Еленку, отец Савватий, – сказал князь Василий Васильевич иеромонаху... – благословение твоё принесёт ей счастие.
«Нет, не то сказал тогда дедушка, – подумал князь Михаил, – а вот сейчас, сейчас скажет...»
– Да благословит тебя Бог, дитя моё! – сказал отец Савватий, осеняя Елену крестным знамением. – Да сохранит Он тебя на радость отцу, на утешение матери! Да поможет Он им взрастить тебя в страхе Божием и в правилах христианских! Да соделает Он тебя во всём подобной твоей матери...
– Что-то будет из тебя, дитя моё? – сказал князь Василий Васильевич, прерывая иеромонаха. – Да исполнится над тобой благословение отца Савватия: расти во всём похожей на свою мать! Издалека вернула она тебя, Тавифа; да никогда не раскается она!..
– Дедушка! Что вы говорите! – закричала Марфочка, стремительно подбегая к постели.
– Оставь, Марфа, – сказал князь Михаил, – дедушка должен был сказать это, я помню... я узнал...
И, упав на кресло, князь Михаил Алексеевич зарыдал так же, как двадцать пять лет тому назад Миша рыдал в Туле.
Бред князя Василия Васильевича всё усиливался; скоро он перестал узнавать окружающих. Вечер прошёл в страшной тревоге; красногорский врач продолжал настаивать на кровопускании. Ведмецкий, выведенный из терпения, объявил ему, что он такого упартэго[51]51
Упрямого.
[Закрыть] монаха никогда не видзял и что пустить крэвь князю и забить[52]52
Убить.
[Закрыть] его – одно и то же. Он принёс из своей походной аптеки какую-то склянку и дал князю принять из неё двенадцать капель в красном вине. Больной минут через десять после приёма перестал метаться, начал засыпать и проспал до рассвета.
– Мне получше, Марфа, голова посвежее, – сказал он, проснувшись, – а ты так и не ложилась?
– Нет, дедушка, мы все спали сидя. Только отца Савватия уговорили прилечь; вон он спит ещё... поспите и вы немножко. Ещё очень рано: сейчас пять часов пробило.
– Я слышал... и, не знаю отчего, мне представилось, что я в последний раз слышу бой этих часов, мне, однако, гораздо лучше, только бок что-то побаливает... А где муж твой?
– Наверху, с Еленкой, – отвечала Марфочка, боясь сказать деду, что князь Михаил накануне заболел довольно серьёзно и всю ночь был в бреду, – он только что заснул; и вы поспите, дедушка; пан Ведмецкий сказал, что если вы поспите часов двенадцать сряду, то вам не нужно никакого лекарства.
Князь Василий Васильевич закрыл глаза и пролежал, не открывая их, около получаса.
– Нет, не спится, Марфа, – сказал он, – бок очень болит, так и стреляет, уж не воспаление ли опять?
Ведмецкий, на которого после действия, произведённого его каплями, начинали смотреть как на очень искусного врача, скромно объявил, что хотя он цо-кольвтьк[53]53
Немножко.
[Закрыть] се-учил[54]54
Учился.
[Закрыть], однако он не есть настоящий доктор, что дать князю ещё капель он се-бои[55]55
Боится.
[Закрыть] потому что князь очень слаб, что гораздо б полезнее дать ему порошок з меркуриуша слодкиего[56]56
Из сладкой ртути.
[Закрыть]; но что и этот порошок вряд ли поможет; что вообще надзпи[57]57
Надежды.
[Закрыть] на выздоровление князя очень мало; но что спробовать належи[58]58
Следует.
[Закрыть].
Не имея меркуриуша в своей аптеке, Ведмецкий поехал составлять порошок в Красногорский монастырь. Вскоре после его отъезда больной впал в бред и начал метаться, голова его горела, перекидываясь то в ту, то в другую сторону, боль усиливалась при каждом движении, и стоны становились всё громче и громче. Не прошло получаса с отъезда Ведмецкого, как положение князя Василия Васильевича сделалось совершенно безнадёжным даже в глазах Марфочки, желавшей надеяться до последней минуты; до прибытия порошков оставалось три часа, коль не больше. Попробовали дать ещё двенадцать капель из склянки Ведмецкого; но они не успокоили больного, как накануне: подремав минут десять, он опять заметался и вскоре впал в беспамятство, похожее на агонию. Врач-монах продолжал настаивать на кровопускании, и, – нечего делать, – надо было на него согласиться... После кровопускания сделался обморок...
– Это конец, – сказал отец Савватий, перекрестившись, – грех мне, что я не подумал причастить его перед кровопусканием!
Очнувшись, князь Василий Васильевич глазами искал кого-то. Отец Савватий подвёл к нему внучку:
– Побудь около него, княгиня Марфа Максимовна, – шепнул он ей, – я схожу за запасными Дарами...
– Нет, это ещё не конец, а скоро конец, – сказал умирающий. – Прощай, Марфа. Дай мне руку; положи её вот сюда, на голову: мне легче, когда рука твоя на моей голове...
Марфочка обливалась слезами, едва держась на ногах. Агафья поддерживала её. Князь Михаил, через силу сошедший сверху, чтобы проститься с дедом, сидел в кресле, укутанный в шубу, и воспалёнными глазами смотрел на происходящее вокруг него.
– Прощай, моя Марфа, – говорил князь Василий Васильевич, – и ты, Миша, прощай; береги и цени своё сокровище. Не забывай, что я говорил тебе. Держи себя подальше от двора: не сладить тебе с царедворцами...
– А как Альтона-то горела, – сказал князь Михаил, бредя и очень слабым голосом. – Барятинский, верно, догонит Штенбока в Гузуме и повесит его.
– Теперь оставьте меня на минутку с отцом Савватием, – сказал князь Василий Васильевич, не расслышав слов своего внука. – А после исповеди приходите опять... Отец Савватий, я готов, – обратился он к святому отцу.
Исповедь продолжалась меньше минуты. Так как князь Василий Васильевич говел на второй неделе поста, то новых грехов у него накопиться не могло. После причастия больной ободрился.
– Тяжело тебе стоять надо мною, Марфа, и смотреть, как я умираю, – сказал он внучке, – но зато как мне легко умереть на твоих руках!
Марфа ничего не отвечала и, глотая слёзы, держала руку на лбу у умирающего.
– А бумаги мои, – сказал он, – так и остались неуложенными. Прибери их, Марфа, после меня; ты знаешь, какие надо сжечь и какие оставить... Ах! Я чуть было не забыл сказать тебе... – Жар и бред начинали опять усиливаться, голова, всё чаще и чаще освобождаясь из-под руки Марфочки, опять начала метаться из стороны в сторону... – Что, бишь, я хотел сказать тебе, Марфа... Да, о бумагах: там, над столом, в потаённом ящике... Где сыновья мои?.. Позовите их сюда... А ты, царевна, зачем пришла сюда со Щегловитовым? Зачем вы выдали Мишу Серафиме Ивановне?.. Позови отца и дядю, Миша... Ах, Миша, Миша, бедный мой Миша! Попался ты к Серафиме Ива...
– Да нет! – закричал князь Михаил пронзительным голосом. – Если б Серафима Ивановна была под Фридрихштадтом или в Альтоне, то Сусанне незачем было бы... Пётр пригвоздил бы её циркулем к ландкарте, и Серафима Ивановна не могла бы...
– Ишь, грех какой! – сказала Агафья. – Как они оба заколобродили!..
– Конечно, не могла бы, – говорил князь Василий Васильевич слабеющим с каждой минутой голосом, – конечно, Серафима Ивановна не может быть на русском престоле. У Петра есть сын... Зачем царствовать племяннице?.. Миша! Как нарядили тебя!..
– Читай отходную, княгиня Марфа Максимовна, – сказал отец Савватий, положив книгу на стул и подводя Марфочку к стулу. – Я пойду уложу князя Михаила и сдам его на руки Агафье, а ты читай эти молитвы, и да усладят они последние минуты отлетающей от нас души праведника!
Марфочка, очень встревоженная болезнью своего мужа, но подкрепляемая мыслию, что может облегчить участь деда, облокотилась на стул и начала читать страницу, открытую отцом Савватием.
– «Боюся смерти, – читала она, – яко горька ми есть, боюся геенны, зане бесконечна есть, боюся тартара...» «Что это мне дал отец Савватий?» – подумала она и пробежала несколько строчек молча, в надежде напасть на слова более утешительные для умирающего. – «Горе мне, горе мне, – продолжала она, – совести обличающи мене, и писанию вопиющу и учащу мене: о душе сквернений, и от тебе гнусных дел!..» – Марфочка пропустила ещё две или три страницы. – «Увы мне, увы мне, – продолжала она шёпотом, – якова есть место, идеже есть плач и скрежет зубный, нарицаемый тартар, его же и сам диавол трепещет! Горе, горе, якова есть геенна огня неугасимого, горящего и непросвещающего! Увы мне, увы мне, яковый есть неусыпаемый и ядовитый червь! Увы, увы, якова люта есть тьма оная кромешная и присно пребывающая...»[59]59
Слово об исходе души св. Кирилла, архиепископа Александрийского.
[Закрыть] Нет, это не то: это не может быть, – сказала Марфочка, – верно, отец Савватий ошибся... – Она закрыла книжку и, положив её на стол, пала на колени.
– Ты велел нам молиться друг за друга, Боже мой, – говорила она, – за умирающего моего деда молю Тебя, прими молитву мою, как Ты принял бы его молитву, если б он был в памяти и сам мог бы молиться. Мы все грешны перед Тобой, Боже мой; он, конечно, меньше других, но тоже, может быть, грешен. Пощади его, Боже милосердный, и прими его в своё Царство, открытое для всех любящих Тебя и с верой к Тебе прибегающих. Омой его прегрешения в крови Сына Твоего, за нас пострадавшего; да никода не встретит душа его ни одного из мытарств, описанных в книге отца Савватия; да не увидит она ни червя ядовитого, ни тьмы кромешной, ни огня неугасимого; но да покоится она в мире и блаженстве до наступления последнего, Страшного, но праведного Суда Господа и Спасителя нашего!
Умирающий мутными, гаснущими глазами взглянул на внучку:
– Спасибо, Марфа, – едва внятно прошептали побелевшие губы его, – положи руку на глаза мои... Закрой их... Спасибо, милая Марфа...
И тело великого Голицына последним, судорожным движением вытянулось во всю длину кровати, закрытые внучкой глаза закрылись навеки, и отрадная улыбка выступила на устах усопшего: Царь небесный навсегда избавил пинежского узника от опалы царя земного.


Часть вторая

ГЛАВА I
ОТ ТУЛЫ ДО ГРАНИЦЫ
Желая поближе познакомить читателя с одним из главных действующих лиц нашего рассказа, князем Михаилом Алексеевичем Голицыным, уже отчасти известным читателю, предлагаем проследить его биографию с детства его до последнего описанного приезда его в Пинегу, то есть до кончины князя Василия Васильевича Голицына.
Князь Михаил Алексеевич родился 8 ноября 1679 года в пятом часу пополудни. До появления его на свет Божий его предполагалось назвать Василием, в честь дедушки; но мальчик родился таким тщедушным, не жильцом на белом свете, что надо было поспешить окрестить его. Отца в это время не было дома, и, по обыкновению, никто не знал, где его найти. За дедом, обедавшим у царя Феодора Алексеевича, послали, велев посланному предупредить его, что ребёнок очень слаб. Немедленно призванный священник, покуда подливали тёплую воду в купель, успел рассказать несколько кратких, но убедительных анекдотов, в которых чуть ли не мертворождённые оживали и жили долго оттого, что были окрещены именами святых, празднуемых в день их рождения. Бабушке, княгине Феодосии Васильевне, истории эти понравились; старший сын её, князь Михаил, вместе с ней обедавший в этот день у княгини Марии Исаевны, счёл долгом, за отсутствием своего отца, предложить себя в восприемники. Вследствие стечения всех этих обстоятельств, княгиня Феодосия Васильевна решила, что сама судьба, очевидно, хочет, чтобы новорождённый внук её был Мишей, а не Васей, и таким образом его окрестили Мишей.
Первые годы Миши были очень нерадостны: княгиня Мария Исаевна сама сказала нам, что она не нежная мать и что детей своих она баловать не любила, и действительно, она не баловала Мишу: раскричится ли он, раздразнённый кормилицей или нянькой, – значит, злой ребёнок, и сейчас сечь его, заплачет ли он, прося чего-нибудь, – это каприз, и опять сечь. Известно, что высечь годовалого ребёнка, не умеющего иначе как слезами выражать свои нужды, гораздо легче, чем вникнуть в причину его горя, а польза от сечения очевидная: замечая, что, вместо того чтобы утешать его в горе, ему причиняют боль невыносимую, ребёнок делается всё тише и тише, а для иного рода воспитательниц только этого и нужно.
Князь Алексей Васильевич, отец Миши, мало вмешивался в воспитание своего сына; но когда он бывал дома, то охотно брал его на руки и играл с ним. Увидев раз, что княгиня Мария Исаевна выдрала Мишу за ухо, он строго побранил её за это, высказал ей в коротких словах своё отвращение к телесным наказаниям и взял с неё обещание, что впредь в его доме оно не будет употребляться не только в отношении Миши, но и прислуги. Такое неслыханное ограничение власти матери и помещицы показалось княгине Марии Исаевне крайне несправедливым и даже оскорбительным; но князь Алексей Васильевич не любил повторять жене свои приказания; он даже не любил часто разговаривать с ней. Вообще он не имел большой привязанности к домашнему очагу и проводил остававшееся от служебных занятий время у иностранцев, которыми в то время наводнялась Россия. Причина женитьбы его, красивого, богатого и во всех отношениях блестящего молодого человека на не красивой и не блестящей Марии Исаевне Квашниной долго оставалась загадкой, которую наконец московские кумушки разъяснили тем, что он, собственно, был влюблён в Груню, старшую замужнюю сестру Марии Исаевны, что за Марией Исаевной он слегка приволакивался только для того, чтобы отвести глаза ревнивому Груниному мужу; но что, встретясь раз с этим ревнивцем в такую пору, в которую ни один из них не рассчитывал встретить друг друга, князь Алексей объяснил своё присутствие в комнате Агриппины Исаевны непреодолимым и безотлагательным желанием посвататься за Машу.
Если эти догадки кумушек справедливы, то неудивительно, что с первых же дней после своей свадьбы князь Алексей начал предпочитать пирушки на Кокуе[60]60
Кокуем называлась в Москве Немецкая слобода, населённая иностранцами.
[Закрыть] семейным беседам со своей женой. Предоставив ей хозяйничать в доме, как она хочет, он выговорил для себя полную свободу действий во всех других отношениях. Сначала, разумеется, дело не обошлось без сцен: новобрачная и плакала, и кричала, и пищала дискантом, что она лучше готова разъехаться, чем согласиться на такое унижение. На это неверный муж возражал, что он предупреждал её, будучи женихом, что любить другую женщину – не в природе мужчин вообще и не в его природе в особенности и что после такого откровенного признания рассудительнее было бы с её стороны отказать ему тогда же, чем разъезжаться теперь, но что, впрочем, он и теперь не такой тиран, чтобы удерживать жену насильно.
Убедилась ли княгиня Мария Исаевна доводами мужа, заметила ли она, что после каждой сцены она делалась ему постылее, чем была прежде, но сцены мало-помалу прекратились, и – к чему не привыкнешь? – княгиня Мария Исаевна начала смотреть на неверности своего мужа как на милые шалости очень молодого человека, как назло, необходимое и даже довольно сносное.
Нельзя строго не порицать легкомысленного отношения князя Алексея Васильевича к брачным узам; даже молодость его (он женился двадцати одного года) и обстоятельства, устроившие его брак, не могут служить ему оправданием: принести себя в жертву, чтобы спасти скомпрометировавшуюся кокетку и чтобы избавить её от мщения ревнивого мужа, было бы, конечно, похвально, даже великодушно, если б вместе с этой жертвой не приносилась и другая, ничем не виноватая. Кто знает: может быть, без этого великодушия Машенька Квашнина нашла бы доброго мужа, была бы ему доброй женой и детям своим – доброй матерью.
Как бы то ни было, а счастливо для княгини Марии Исаевны уж и то, что она сумела примириться со своим положением, «покориться испытаниям, ниспосланным ей Небом», как говорила она навещающим и сожалеющим её кумушкам. Но от этой покорности Небу Миша ничего не выиграл. Женщина как бы била в своих детях ненавидимого ею мужа. Если б нам случилось встретить такую женщину, то мы спросили бы у неё, какое понятие она имеет о справедливости вообще и какой пощады она может ожидать от справедливости Того, на чей Суд она предстанет вместе с избитым ею ребёнком. Конечно, очень похвально надеяться на милосердие Божие, но не грех бы подумать иногда и о его правосудии.
Мы можем утверждать, что неверность мужа её имела дурное влияние на её характер, и без того от природы вспыльчивый, и если б допросить её под присягой или на исповеди, то, может быть, она и призналась бы, что ни один пучок розог, сгоряча изломанных на Мише, изломан был за вины его отца... Трудно представить себе картину отвратительнее той, когда сильная и здоровая женщина с яростью кидается на невинного, беззащитного, плачущего ребёнка и, одной рукой держа его за волосы или за ухо, другой рукой, вооружённой пучком розог, бьёт изо всей силы свою, умоляющую о пощаде, жертву.
В присутствии отца Миша не наказывался: отец любил сына и не любил крика и шума в доме. Но это не только не облегчало участи бедного ребёнка, но делало её иногда ещё несноснее: Миша даже приметил, что по вечерам, вслед за выездом отца из дома, ему доставалось гораздо больше, чем утром, когда отец работал у себя в кабинете или уезжал на службу; это сбивало бедного мальчика с толку: он не знал, радоваться ли ему присутствию отца или огорчаться им, часто, двух или трёх лет от роду, ласкаясь к отцу, Миша призадумывался, что будет после его отъезда. Иногда он просил отца остаться на весь вечер и поиграть с ним; но просьба эта редко исполнялась: отцу надо было спешить к какой-нибудь немочке на Кокуй.
Раз как-то вечером князь Василий Васильевич неожиданно приехал к сыну, князю Алексею, и ни его самого, ни жены его не застал дома. Мише только что минуло четыре года, и, кроме него у княгини Марии Исаевны были ещё сын и дочь. Князь Василий Васильевич вошёл в детскую. Няньки в это время мыли детей, и дедушка не замедлил увидеть на них несомненные признаки системы воспитания своей невестки. Как истый дипломат, дипломат, три года спустя перехитривший посланников короля Яна Собеского, князь Василий Васильевич не показал нянькам и виду, что он что-нибудь заметил, но, встретившись на другой день со своим сыном, он повёз его к себе и, запёршись с ним в кабинете, рассказал ему всё, что видел накануне.
– Любишь ли ты свою жену или не любишь, – сказал он сыну, – хорошо ли живёшь ты с ней или дурно – это ваше дело: я в семейные отношения ваши никогда не вмешивался; но, сколько я тебя знаю, князь Алексей, ты не можешь хотеть, чтобы твоих детей били так беспощадно, как бьёт их твоя жена; если б это делалось с твоего согласия, то я должен бы был вмешаться в это дело и заступиться за маленьких мучеников, из коих – вникни в это – старшему четыре года, а младшей всего одиннадцать месяцев! Суди, как приятно протекли для Миши эти четыре года, считающиеся обыкновенно невиннейшим и счастливейшим периодом жизни.
Князь Алексей Васильевич, слушая отца, краснел, бледнел и кусал губы.
– Успокойся, батюшка, – сказал он ему, когда он кончил, – этого больше не будет, я тебе ручаюсь...
Нежно любящему отца и детей своих и нимало не любящему жены князю Алексею Васильевичу распорядиться в этом деле было нетрудно: в тот же вечер Миша, видя отца ласковее обыкновенного, попросил его не уезжать, и отец согласился и весь вечер провёл с детьми. На следующий вечер детям делали ванну. Отец собирался было выехать, но раздумал и вместе с женой пошёл в детскую. Увидев на детях своих рубцы, и свежие, и подживающие, князь Алексей грозно спросил у жены, что это значит. Княгиня Мария Исаевна смутилась, оторопела и притворно развязным тоном отвечала по-французски, что нельзя же иногда не наказать детей, что они капризничают, шалят и, пожалуй, совсем избалуются. Князь Алексей промолчал и вышел из детской.
После ванны он позвал к себе в кабинет жену, детей и всех трёх нянек.
– Что, Миша, – спросил он у сына, – мать часто сечёт тебя?
– Нет, не цясто, – отвечал Миша, – нынце ни йазу не секья, и вцейя тозе не секья; ты игьяй с нами.
– А когда я не играю с вами, то сечёт вас мать?
– Сецёт... нет, никойда не сецёт, – отвечал бедный мальчик, со страхом глядя на мать.
– Что это за допрос? Разве ты хочешь поколебать материнский авторитет? – спросила княгиня Мария Исаевна.
– А с каких пор грубая сила называется материнским авторитетом? – сказал князь Алексей по-русски. – Смотри, бедная Маша – ей ещё и года нет, а она вся в рубцах! И неужели ты хоть минуту могла думать, что я не прекращу этих гадостей?..
– Вместо того чтобы так обращаться со мною при этих няньках, ты лучше сделал, если б отослал меня к моим родителям...
– К твоим родителям я тебя не отошлю, – отвечал князь Алексей, – а если ты не смиришься, то я разведусь с тобой и запру тебя на всю жизнь в монастырь... А вы, няньки, слушайте и знайте, что я не шучу: года два тому назад княгиня обещала мне, что не будет бить Мишу. Вы видите, как она исполнила своё обещание. Поэтому теперь, не веря ей, я приказываю вам: во-первых, чтобы розог в моём доме не было; во-вторых, когда вы увидите, что княгиня рассердилась на кого-нибудь из детей, то сейчас же уводите их всех в детскую, запирайтесь в ней и не отпирайтесь до моего возвращения домой. Во всём прочем, что не противоречит моим приказаниям, вы должны по-прежнему слушаться княгини; но и вы, и она прежде всего должны слушаться меня... А ты, княгиня Мария Исаевна, ты напрасно плачешь: это слёзы досады, самые гадкие слёзы в мире, самые богопротивные. Сравни их с теми слезами, которые мои дети проливают с рождения, и ты поймёшь, что твои не заслуживают ни малейшего внимания. Я думаю, даже няньки удивляются, что ты же считаешь себя оскорблённой выговором, хотя и строгим, но хладнокровно сделанным тебе мужем, между тем как во всей этой истории оскорблён я, и я один: во-первых, ты тайно от меня била моих детей, значит, обманывала меня; во-вторых, ты нарушила моё приказание – явное неуважение к мужу, и будь я такой же бешеный, как ты, то можешь себе представить, что бы из этого вышло: в-третьих, ты нарушила данное мне тобой обещание; значит, опять обман, и обман тем более гнусный, что если б я не рассчитывал на твоё обещание, то принял бы другие меры для обеспечения моих детей от побоев... Вспыльчивость не может служить тебе оправданием; да я и не верю в твою вспыльчивость: ведь перестала же ты пылить со мной, когда увидела, что это ни к чему не приводит; не пылишь ты и с моей матерью, от которой выслушиваешь иногда очень нелюбезные истины; значит, когда надо, то ты можешь владеть собой; отчего ж ты не хочешь владеть собой в таком важном деле, как воспитание детей? Наконец, в-четвёртых, ты выучила Мишу лгать, лгать отцу, то есть делать проступок, который, наверное, хуже всех тех, за которые ты его так жестоко тиранила... Что я делаю тебе этот выговор при Мише и при няньках, а не наедине, то и на это я имею важные причины: первый мой выговор был сделан наедине, но он не послужил ни к чему, а теперешний урок будет для тебя долго памятен, и приказание моё, я уверен, уже не будет нарушено... До сих пор я не считал тебя злой и приписывал странности твоего характера твоему воспитанию. Теперь я не знаю, что о тебе и думать: никакое воспитание не может, кажется, уничтожить инстинкт женщины, инстинкт матери, даже волчица бережёт своих волчат. Хоть бы ты подумала о том, в какое положение ты поставила бы и себя и меня, если б мой отец узнал, как ты обращаешься с детьми.
– Откуда ж узнать ему?
– Да я первый нынче же всё расскажу батюшке, когда он приедет.
– Нет, ради Бога, не рассказывай... Я обещаю тебе, что вперёд ничего подобного не будет, только не рассказывай князю Василию Васильевичу. Я, право, не думала, что ты придашь этому такую важность. Кого же не наказывали в детстве? Меня, правда, не наказывали, но ведь я вела себя так. Ну не сердись, князь Алексей. Только не рассказывай князю Василию Васильевичу. Я, право, не волчица. Я люблю детей, но иногда так горько на душе. Тебя нет, а они тут, как на грех, подвернутся...
Одного этого ответа достаточно, чтобы судить о степени нравственного развития княгини Марии Исаевны. С этого же дня князь Алексей, не изменяя, впрочем, своего образа жизни, стал внимательно следить за тем, что делается у него в доме. Он даже завёл тайную полицию в лице одной из нянек, и Миша не только вздохнул свободнее, но попробовал даже злоупотреблять переменой, происшедшей в программе его воспитания: отца он слушался во всём беспрекословно, очевидно не допуская возможности ослушаться человека, который смел бранить его мать, но с матерью, которую он не любил никогда и которой уже не боялся, он начал было позволять себе разные вольности, очень ей не нравившиеся.
Раз как-то после завтрака Миша пускал кубарь. Отец его, сидя за столом, читал своей жене только что пришедшую в Москву газету с известием о том, как польский король Ян Собеский разбил турок под Веной и спас римского императора. Не расслышав за шумом кубаря чего-то прочтённого мужем, княгиня Мария Исаевна крикнула Мише, чтобы он перестал шуметь, что он надоел со своим кубарем, но Миша, посмотрев на отца, погнал кубарь кнутиком ещё раза три и перестал только тогда, когда заметил по лицу отца, что и ему забава эта не очень приятна. Отец подозвал его.
– Послушай, Миша, – строго сказал он, – с тех пор как мать перестала сечь тебя всякий день, ты, кажется, вообразил, что можешь её не слушаться. Чтоб этого впредь не было! Слышишь ли? Тебе пятый год, и ты должен понимать, что, кроме розог, найдутся наказания для маленького шалуна, который не слушается своей матери: я бы, например, на месте твоей матери взял бы у тебя и кубарь, и кнутик и сейчас же бросил бы их в печку. Для первого раза мать тебя прощает, но вперёд берегись... Пошёл со своим кубарем в другую комнату!
Миша ушёл, но в этот день кубаря уже не погонял и призадумался. Княгиня Мария Исаевна, видя, что её поколебавшийся материнский авторитет начинал восстановляться, была очень обрадованна заступничеством своего мужа. Ещё больше обрадовалась она, когда по отъезде отца Миша подошёл к ней и со слезами попросил у неё прощения, обещая, что вперёд он огольцать (огорчать) её никогда не будет. Это обещание, придуманное, разумеется, нянькой Миши, восхитило княгиню Марию Исаевну, которая чуть ли не в первый раз приласкала сына и в тот же день подарила ему новый раскрашенный кубарь и хлыстик из волжанки с голубой шёлковой верёвочкой.
Миша не замедлил заметить, что – как ни ограничена над ним власть его матери – всё же выгоднее жить с ней в ладу, чем ссориться, и с тех пор жизнь его стала делаться всё приятнее и приятнее. Семи лет он начал учиться, и учился хорошо; не давалась ему только география, преподаваемая самой матерью: он не находил ничего интересного в вытверживании мудрёных названий рек, гор и городов. Зато княгиня Мария Исаевна с гордостью говорила гостям, что он уже знает четыре правила арифметики, и ещё с большей гордостью заставляла его говорить в подлиннике и в переводах басни Лафонтена, начинавшего входить в большую моду.