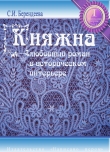Текст книги "Царский изгнанник (Князья Голицыны)"
Автор книги: Сергей Голицын
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 27 страниц)
Чальдини, имея на это инструкцию князя Василия Васильевича, не замедлил доставить Квашниной просимые ею десять тысяч, и, получив их, она тут же начала мечтать об отъезде.
«Что мне, в самом деле, здесь торчать? – думала она. – Здесь меня ценить не умеют; поеду я лучше в Голландию; там у нас посланник есть, Хвостов, кажется; там меня обижать не посмеют... Как только лицо подживёт, может быть, завтра же... нос можно напудрить. Поеду выкуплю у Исаака ожерелье. Если он предлагал за него Гаспару пятнадцать тысяч ливров, то оно, наверное, вдвое стоит... Ну, да хоть и за тысячу луидоров я продам его; всё-таки у меня останется, со своими, с лишком семьсот; из них заплачу половину долга итальянцу, другую погодит... Во всяком случае, у меня останется более пятисот луидоров; с экономией этим можно долго прожить в Амстердаме. А покуда напишу Машерке, что её сын никуда не годный мальчишка и чтобы она мне прислала письмо к банкирам; да напишу ей ещё, чтоб она хорошенько наказала дурака-бурмистра Панкрашку за то, что он смел продать Анютку, что не послушался Вебера... Впрочем, шут их знает: Вебер, может быть, сам был в заговоре и с Чальдини, и с Дэниелем, и с Гаспаром, и с кухаркой. Все эти иностранцы – народ продувной: рука руку моет; Бога не боятся они. Им ничего не стоит обидеть ближнего!..»
Планы Серафимы Ивановны насчёт денежных оборотов оказались не совсем верно составленными, или, по крайней мере, события не оправдали их. Явившись с квитанцией Исаака в его контору и не застав его в конторе, она обратилась к дремлющему над приходно-расходной книгой старичку еврею, который при виде осанистой, роскошно одетой и обильно набелённой дамы разгулялся, встал, зажёг лампы (дело было перед вечером) и предложил ей кресло за тем же письменным столом, за которым он проверял счета.
– Чем могу я служить вам, сударыня? – спросил он у посетительницы заискивающим тоном на очень плохом французском языке.
– Я бы желала переговорить с господином Исааком. У меня есть его квитанция на ожерелье, заложенное здесь за триста луидоров. Я желаю выкупить это ожерелье.
– Господина Исаака нет дома, сударыня, и прежде чем завтра к обеду он не возвратится; но, смею рекомендоваться вам, я Беренд Гутманн, ближайший его родственник и лучший друг. Позвольте взглянуть на вашу квитанцию, сударыня.
– Вот она.
Гутманн взглянул на номер квитанции и справился в конторской книге.
– Вам угодно выкупить вещь, фамильную драгоценную вещь, заложенную двадцать второго ноября отставным фельдфебелем Гаспаром? – спросил он.
– А! Он фельдфебель? Я этого не знала, но могла бы отгадать. Да, господин Гутманн, я хочу выкупить это ожерелье, которое Гаспар не столько заложил, сколько положил в вашу контору на сохранение, боясь потерять его; только это было не двадцать второго ноября, а в прошедший понедельник, двенадцатого декабря по-здешнему... Мне этот день слишком памятен, впрочем, я помню, Гаспар предупредил меня, что проценты вы всегда берёте за целый месяц, что у вас уж так заведено; но для меня вы, конечно, сделаете исключение. Вы мне уступите проценты, так как всего прошла с небольшим неделя... Позвольте ж мне получить моё ожерелье, вот ваши триста луидоров.
«Что это она всё болтает об ожерелье? – подумал Гутманн. – Это какая-нибудь новая штука Гаспара... А небось триста луидоров-то показала да и опять в карман сунула».
– Гаспар говорил мне, – продолжала Серафима Ивановна, покуда Гутманн рылся в шкафу, – что господин Исаак торговал у него это ожерелье и предлагал за него пятнадцать тысяч ливров. На эту цену я, разумеется, согласиться никак не могу, но если вы дадите мне тридцать тысяч, то тогда, может быть...
Гутманн принял очень озабоченную мину, как будто недоумевая, согласиться ли ему, не торгуясь, на предложение московийской боярыни или попробовать поторговаться немножко.
– Я, конечно, – сказал он, подумав, – первый друг и правая рука господина Исаака, сударыня, но сделать в его отсутствие покупку на такую значительную сумму я опасаюсь. Вот если вы потрудитесь заехать сюда завтра в это же время, то ручаюсь вам, что вы уладите это дело лично с господином Исааком, особенно если б вы уступили тысяч пять ливров... В этом случае я даже готов взять на себя...
– Ишь, как у него слюнки-то потекли! – ворчала Серафима Ивановна по-русски. – Да нет, пяти тысяч я не уступлю. Тысчонки две, пожалуй!
– Ишь, как гасконец-то облапошил московскую франтиху! – бормотал Гутманн. – Беда, коль откроет футляр да увидит, какое там тридцатитысячное ожерелье!
– Ишь, как у него, у старого, глаза-то засверкали. Не хочется небось с ожерельем расставаться! Да врёшь, брат, не на таковскую напал! Не уступят тебе пяти тысяч. И двух не уступят!
– Ишь, нос-то у неё как раздуло; точно оштукатуренный!.. А не по летам, бестия, осторожна. Попробуй-ка выложить она луидоры – да и любуйся на свои драгоценности!.. Не выкупит она их, коль увидит... Просто беда! Проклятый гасконец!
Во время этих монологов, как будто на выручку ростовщику, вошли в контору двое рослых мужчин, одетых, очень не по сезону, в потёртые нанковые блузы. Один из них обратился к Гутманну:
– Можем ли мы, милостивый государь, сказать вам два словечка по секрету? Всего два словечка? Это не отвлечёт вас надолго, а дело наше очень спешное.
– Извольте, господа, – отвечал Гутманн, с поспешностью подходя к ним. – Извините, сударыня, через две минуты я опять к вашим услугам.
Один из новых посетителей показал закладчику шляпу с плюмажем и галунами, другой – маленькую серебряную табакерку. Торг состоялся в одну минуту; продавцы в ожидании денег за проданный товар начали переходить от ящика к ящику, рассматривая выставленные под стёклами вещи.
– Я вам вот что предложу, сударыня, – шёпотом сказал Гутманн, возвратясь к письменному столу, – громко говорить об этом нельзя. Эти люди мне что-то подозрительны. Заметили ль вы, какой у того, у черноволосого, страшный бас... Оставьте ваше ожерелье и извольте получить за него покуда восемьсот луидоров; из них я вычту должные ваши триста, а остальные деньги, если вы сойдётесь в цене в господином Исааком, вы получите от него завтра же.
«Врёшь, брат!» – подумала Серафима Ивановна.
– Нет, так я не согласна, господин Гутманн, да и можно ль согласиться? Вот моё последнее слово: хотите дать мне восемьсот пятьдесят луидоров и не вычитать трёхсот за залог, то я, так и быть, уступлю вам ожерелье.
– Рад бы, но никак не могу решиться на эту сделку, сударыня. Лучше подождём до завтра, – отвечал Гутманн, продолжая свой шёпот и передавая Серафиме Ивановне красный футляр, – но спрячьте его поскорее, – прибавил он, – и не вынимайте, пока эти господа не вышли из конторы. Я их сейчас же выпровожу... Уверяю вас, что эта предосторожность нелишняя.
– Да почём уж им знать, что в футляре? Ведь мы всё время шептались... мне, правда, очень хотелось бы посмотреть на это ожерелье, которого я ещё не видала... давно не видала; но я вам так доверяю, господин Гутманн, что распечатаю футляр только по приезде домой, – прибавила Серафима Ивановна, тщательно сличив номер, наклеенный на футляре с номером, выставленным на квитанции.
«Печать цела, – думала она, – не мог же ростовщик отгадать заранее, что я приму залог, не посмотрев на него... Значит, он цел».
– За вами ещё пятнадцать луидоров процентов, – шепнул ей Гутманн, укладывая полученные от неё триста луидоров в конторку. – Угодно вам отдать мне их сейчас же, или, может быть, вы предпочитаете отдать их завтра, при продаже ожерелья? Я тоже, как видите, вполне доверяю вам... А вы, господа, извольте получить ваши деньги, – громко сказал Гутманн, обращаясь к ожидавшим его продавцам, – нынче у меня, господа, пренесчастливый день. Уже пять часов, пора бы и контору запирать, а я ещё ни одного порядочного дела не сделал. Все такие пустяки: шляпки, зонтики да разная дрянь. Вот и госпожа эта купила у меня ошейник в девять франков для собачки.
Серафима Ивановна мигнула Гутманну, чтоб показать, что она поняла его хитрость и благодарит его за осторожность. Сделав ему менуэтный реверанс, она вышла из конторы, села в первый попавшийся ей фиакр и, не вытерпев до приезда домой, открыла футляр...
Вместо ожерелья она увидала перстень, старый знакомый перстень, когда-то купленный ею у Гаспара и подаренный Даниелю на именины.
Тот самый перстень, который перед своим отъездом в Марсель Даниель передал Гаспару и который, даже по оценке обоих авантюристов, стоил шесть луидоров!
Серафима Ивановна буквально остолбенела от изумления и пробыла в этом состоянии минут пять. Опомнившись, она велела кучеру ехать скорее назад, в контору Исаака.
«Какая страшная ошибка! – думала она, подъезжая к конторе. – Как же Гутманн сейчас предлагал мне за этот футляр восемьсот луидоров... Это невозможно! Очевидно, это ошибка, непростительная ошибка. У них просто вышла путаница в номерах... Но отчего красный, непременно красный футляр и отчего именно этот перстень попал в него вместо ожерелья! Отчего именно этот перстень, а не другая какая-нибудь вещица?!»
Вылезая из фиакра, она увидела, что контора уже заперта. Оставалось приложить последнюю наружную доску к одному из окон. Серафима Ивановна подбежала к работнику, загораживающему это окно, и попросила его отпереть дверь конторы.
– Мне непременно сейчас же надо видеть Гутманна, – сказала она, – он сделал непостижимую ошибку.
– Господина Гутманна уже нет в конторе, – отвечал работник.
– Куда ж он девался?
– А Бог его знает. По вечерам он обыкновенно играет в домино в кофейной Прокопио или где-нибудь у знакомых.
– Что ж мне делать?
– Завтра контора будет отперта с восьми часов, и если вы пожалуете сюда, то наверное застанете господина Гутманна; а не то, коль прикажете, я передам ему об ошибке...
Серафима Ивановна возвратилась домой с самыми печальными предчувствиями и провела ночь как нельзя хуже: то ей снился Даниель, нежно обнимающий Клару, то Гаспар в фельдфебельском мундире, мстящий за свой затылок, то Аниська, убирающая Анютку в богатое ожерелье, то семейство Голицыных, требующее от неё отчёта в воспитании Миши..
Наконец томительные кошмары рассеялись: около восьми часов Серафима Ивановна встала, наскоро оделась, напилась кофе, попросила кухарку сходить за фиакром и начала пудрить свой нос.
– Там, в передней, кто-то спрашивает вас, сударыня, – сказала кухарка.
Серафима Ивановна очень обрадовалась.
«Это, должно быть, Гутманн, – подумала она, – он заметил свою ошибку, или, может быть, дворник со ставнем передал ему о ней, и он поспешил привезти мне...»
Оказалось, что это был совсем не Гутманн, а судебный пристав. Увидев бегущую к нему даму, он начал, ещё издали, низко раскланиваться, держа в левой руке шляпу, а в правой – листик бумаги.
– Что вам угодно? – спросила Серафима Ивановна, подойдя к посетителю.
– Я, не правда ли, имею честь говорить с превосходительной госпожой Квашниной?
– Да.
– По поручению господина Исаака, имею честь...
– Ну, я так и знала, что он прислал исправить свою вчерашнюю ошибку! – вскрикнула Серафима Ивановна, прерывая пристава. – Давайте скорее ожерелье...
– Позвольте заметить, сударыня, что ваше превосходительство изволите заблуждаться. Господин Исаак никакого ожерелья мне не поручал; а вот он представил ко взысканию вексель на ваше превосходительство, вексель в двенадцать тысяч ливров, и на меня возложена печальная, но необходимая обязанность попросить вас о немедленной уплате по этому бесспорному документу.
– Знаю! Это та бумага, что Гаспар и Исаак заставили меня подписать дней десять тому назад, но ведь платёж по ней назначен через четыре месяца. К тому времени я вышлю деньги.
– Документ – до востребования, сударыня. Господин Исаак, проведав, что ваше превосходительство изволите собираться за границу, обратился за удовлетворением к суду, а суд предписал мне получить это удовлетворение немедленно.
– А если я не хочу платить такому мошеннику, как Исаак, если вы узнаете, что он дал мне не двенадцать, а десять тысяч, что он дал мне их обрезанными червонцами и что он вычел проценты, – за четыре месяца вперёд?..
– Смею заверить, ваше превосходительство, что это меня не касается. Предписание суда ясно и положительно.
– А если я знать не хочу предписаний вашего суда?!
– Если вашему превосходительству неугодно будет согласиться на немедленное исполнение судебного приговора, то я с сокрушённым сердцем должен буду приступить к описи и к аукционной продаже движимости вашего превосходительства.
– Ну а если я докажу, на суде докажу, что и Гаспар, и Исаак, и Гутманн – отъявленные плуты и воры. Если я докажу, что не дальше как вчера они ограбили меня самым наглым образом: вместо сорокатысячного ожерелья они подсунули мне вот это кольцо... Если я докажу всё это, то неужели и тогда ваши суды не повесят этих бездельников?
– Всенепременнейше повесят; в этом ваше превосходительство не должны иметь ни малейшего сомнения: вашему превосходительству стоит только подать жалобу в судебную палату, и всех дерзнувших посягнуть на собственность вашего превосходительства перевешают; я даже могу рекомендовать вам очень искусного адвоката... Нам запрещено рекомендовать адвокатов, но для вас я готов преступить некоторым образом это слишком несправедливое запрещение; кому ж, коль не нашему брату, известны самые лучшие адвокаты?..
Положение Серафимы Ивановны становилось чрезвычайно критическим: из полученных ею от Чальдини десяти тысяч ливров у неё, по выкупе мнимого ожерелья, оставалось меньше трёх тысяч, а с неё требуют двенадцать, и требуют немедленно. Не отдать – продадут всё с молотка, а там в одном носильном платье перебирайся хоть на мостовую.
Как ни уговаривала, как ни упрашивала она пристава, ей удалось, – и то после долгих с его стороны колебаний, – добиться только того, что он покуда удовольствуется её письменным обещанием не выезжать из дому до уплаты всех двенадцати тысяч сполна.
Само собою разумеется, что устранение колебаний учтивого пристава не обошлось ей даром. Чтоб успокоить его возмутившуюся совесть, она предложила было двенадцать ливров, но означенная совесть могла окончательно успокоиться только тогда, когда владелец оной получил десять луидоров.
Зато поклоны пристава сделались ещё ниже прежнего, и предложения им услуг всякого рода так и посыпались одно за другим.
– Вот какой услуги попрошу я у вас, – сказала Серафима Ивановна, – поезжайте как можно скорее на улицу Ришелье, в гостиницу «Испания» и попросите ко мне, – тоже как можно скорее, – доктора Чальдини. Да, кстати, пришлите мне вашего адвоката. Вы понимаете, что это гнусное дело с ожерельем я не могу оставить без последствий. Надеюсь на вас, если и вы меня обманете, то я уж и не знаю, что мне думать о здешних людях! Кажется, вам не за что и незачем меня обманывать...
Серафима Ивановна, горько плакала, говоря это, и жалка же была она. Право, жалка!.. Так всегда бывает: обижай, тиран, беспощадно всех, кого можешь обижать и тиранить безнаказанно; а приди своё горе, хоть сносное, хоть денежное, и куда как трудно перенести его на себе; куда как трудно признать его заслуженным.
ГЛАВА VI
НАКОНЕЦ В СОРБОННЕ
Чальдини очень удивился, увидев перед собой судебного пристава, низко раскланивающегося и с большим жаром говорящего. Из всех речей его он понимал только слова: мадам Квашнина, но чего пристав желал от неё и зачем он так подробно о ней рассказывал, – этого Чальдини отгадать никак не мог. Ему пришло в голову, что пристав желает иметь адрес Квашниной, и он показал ему этот адрес в своей записной книжке.
– Да, да! Конечно, – сказал пристав, – поедемте скорее!
К счастию, в гостинице, где остановился Чальдини, большая часть прислуги умела говорить или по-испански, или по-итальянски. Французский язык не был тогда таким обязательным, как он сделался теперь, и испанские гранды, заезжавшие в гостиницу «Испания», так же мало стыдились говорить с французами через переводчика, как ныне постыдился бы французский вельможа, приехавший в петрикеевский трактир и не умеющий без переводчика заказать себе обед.
Переводчик явился в лице помощника дворецкого, Жерома. С первых же переведённых им слов пристава Чальдини понял, что ему надо поспешить на помощь к Серафиме Ивановне.
Он застал её чрезвычайно унылой и в самом смиренном расположении духа: без крика и без брани, но с горькими слезами, не сдерживаемыми даже присутствием слуги-переводчика, рассказала она доктору все свои новые несчастия.
– Конечно, – прибавила она, – я могу выиграть процесс. Я должна его выиграть, если здешние суды имеют малейшее понятие о справедливости; но на это нужны и деньги, и время; а у меня ни денег, ни времени нет. С меня требуют сейчас же двенадцать тысяч ливров, а у меня с небольшим три осталось. Посоветуйте, что мне делать, доктор: не даст ли Лавуазье под ваше поручительство?
– Скажите синьоре, Жером, что я в состоянии помочь ей, не прибегая для этого к займу у господина Лавуазье: мои деньги лежат в его конторе; я напишу несколько слов его приказчику Бианки, сделаю надпись на векселе, и пусть пристав хоть сейчас же едет за получением требуемых с синьоры Квашниной двенадцати тысяч.
Услыхав, что по простой надписи, сделанной доктором на векселе, вексель мгновенно обратится в пятьсот луидоров[68]68
Нарицательная цена луидора была всегда 20 франков или 20 ливров, в комерции, между частными покупателями и продавцами, он принимался за 24 ливра.
[Закрыть], пристав с благоговейным восторгом осмотрел этого чудотворца и мысленно решил, что он если не волшебник, то по крайней мере принц крови, так, ради шалости, нарядившийся в чёрный докторский костюм. Чальдини сел писать. При каждом росчерке его пера поклоны пристава, онемевшего от избытка уважения, делались всё чаще и чаще, всё ниже и ниже. Последний поклон, чуть ли не земной, сделан был одновременно с последним росчерком на векселе.
В том, что уплата по надписи принца Чальдини будет сделана, пристав, с опытностию своей в людях или, вернее сказать, с чутьём своим на денежных людей, сомневаться не мог. «Какая бы неволя, – думал он, – его королевскому высочеству беспокоиться давать свою подпись и делаться солидарным плательщиком по векселю, за который, без этой подписи, он не отвечал бы...»
По уходе пристава Серафима Ивановна, вся ожившая, обратилась к переводчику:
– Передайте доктору, Жером, что я никогда не забуду его услуги, и спросите его, чем бы я могла доказать ему мою благодарность.
– Скажите синьоре, – отвечал Чальдини, – что я никакой особенной услуги ей не оказал, что, зная её состояние, я ничем не рискую, взяв часть моих денег у банкира и помещая их на тех условиях к госпоже Квашниной. Лавуазье платит мне пять процентов в год. Вероятно, и синьора не откажет мне в тех же процентах.
«Как, однако ж, можно ошибаться в людях! подумала Серафима Ивановна. – Какой он отличный человек и какой богатый! А давно ли я считала его таким ничтожным, что не хотела даже посадить за один стол с собою! Экий, право, богач! Да и деликатный какой: по пяти процентов капиталы помещает!..»
– Дело не в процентах, – сказала она вслух, – я готова бы дать вдвое, втрое. Исаак содрал с меня двадцать четыре процента за четыре месяца. По-настоящему даже не за четыре месяца, а за восемнадцать дней; мой вексель, вы видели, от третьего декабря, а нынче двадцать первое; да, кроме того, на червонцах его я потеряла около тысячи ливров... Что ж вы не переводите, monsieur Жером? Скажите доктору, что дело не в процентах, а что я желала бы на деле доказать ему мою признательность за поспешность и деликатность, с которыми он меня выручил из беды.
– Отвечайте синьоре, что вчера она упрекала меня, что я взбунтовал против неё её крепостных, хотя это и неправда, однако я признаюсь, что принимаю большое участие в судьбе Анисьи и её дочери; может быть, им придётся когда-нибудь возвратиться в Россию...
«О, если б только они когда-нибудь приехали в Квашнино, – подумала Серафима Ивановна. – Задала бы я им!..»
– Если они возвратятся в Россию, – продолжал Чальдини, – то Анисья опять подпадёт под зависимость госпожи Квашниной... Пусть, если синьора действительно желает отблагодарить меня за мою услугу, пусть она даст подписку, что Анисья отошла от неё с её согласия и что впредь она отказывается от всякого на неё права. Что касается дочери Анисьи, то она куплена совершенно законным порядком, и для неё никакой подписки не нужно: купля подписана, по безграмотству бурмистра, местным духовенством и скреплена в канцелярии тульского градоначальника.
Серафима Ивановна мигом сообразила, во-первых, что Анисья, вероятно, никогда не приедет в Россию; во-вторых, что если даже она сдуру и поедет туда, то всё-таки же ей, Серафиме Ивановне, выгоднее в настоящих обстоятельствах отказаться от мести Анисье, чем показаться неблагодарной доктору, который может ей очень пригодиться и в затеваемом ею процессе, и в отъезде из Парижа.
«Не с тремя же тысячами ехать мне в Голландию, – подумала она, – а по пяти процентов я с удовольствием готова занять у него хоть ещё двенадцать тысяч и года в полтора расплачусь с ним без особенного стеснения».
Рассчитав это, Серафима Ивановна отвечала:
– Я на всё согласна, на всё, что предлагает добрейший и благороднейший доктор, хоть сейчас подпишу бумагу об Анисье, но опять-таки повторю: всё это пустяки. Что за подвиг с моей стороны отпустить на волю крепостную, которая отошла от меня сама по себе и на которую я, по здешним законам, не имею никакого права? Я желала бы доказать мою благодарность синьору доктору не пустой бумагой, а чем-нибудь серьёзным, чем-нибудь таким, что хоть немножко бы соответствовало его услуге...
«Вот пристала со своей благодарностью, – подумал Чальдини, – и ведь всё лукавит. Видно, ещё занять хочет...»
– Если я когда-нибудь буду в таком положении, в котором была сейчас синьора, – сказал он вслух Жерому, – то я обещаю попросить её, чтоб она меня выручила, но невероятно, чтобы я в мои лета, мне тридцать восемь лет, попался в руки ростовщиков, подобных Исааку...
– Значит, я должна отказаться от удовольствия когда-нибудь расквитаться с обязательнейшим доктором, – сказала Серафима Ивановна с глубоким вздохом.
– Но, – продолжал Чальдини, – гак как синьора, тяготясь, кажется, моей услугой, непременно хочет расплатиться со мной, то я попрошу у неё вот что: пусть она обещает мне вспоминать об этой услуге всякий раз, как ей вздумается наказать кого-нибудь из своих крепостных, и пусть она, в память этой услуги, простит виноватого.
– На это мне тем легче согласиться, – отвечала Серафима Ивановна, – что у меня крепостные наказываются очень редко... почти никогда... и я не могу не удивляться, что доктор считает меня какой-то злой и жестокой. Он был у меня в Квашнине и, кажется, мог заметить, как я обращаюсь со своей прислугой. Если я и взыщу с виноватого, то всегда справедливо, даже когда рассержусь: вот хоть со здешней кухаркой или хоть с сиделкой... Спросите у кого хотите, из крепостных ли или из дворовых, кроме, разумеется, Аниськи и Анютки, которые всегда рады клеветать на меня, и все подтвердят, что я справедлива; мне это даже в глаза говорили квашнинцы... Доктор очень обижает меня... но Бог с ним! Я и на эту его просьбу согласна и готова подписать какие он хочет бумаги.
– На это никакой бумаги не нужно, – отвечал Жером, – доктор довольствуется вашим словесным обещанием. А насчёт Анисьи он привезёт к вам формальный акт и нотариуса.
– Теперь, – сказала Серафима Ивановна, – мне уже не так совестно будет попросить у доктора ещё одной услуги. Может ли он мне рекомендовать хорошего адвоката? Пристав обещал мне прислать какого-то, но на пристава я не очень надеюсь.
– По моему мнению, – отвечал Чальдини, – синьоре и приличнее и выгоднее было бы не начинать этого грязного процесса: ростовщики и плуты, с которыми она имела дело, так хорошо умеют обходить законы, так искусно придают законную форму самым тёмным делам своим, что уличить их весьма трудно.
– Однако я не могу оставить такое мошенничество безнаказанным.
– Как угодно синьоре; я ей сказал своё мнение; последствия покажут, прав ли я. А адвоката я здесь не знаю ни одного.
– Наконец, я должна признаться вам, доктор, что у меня всего три тысячи ливров осталось... Всё-таки я хоть что-нибудь получу с Исаака и Гаспара. С тремя тысячами и до Москвы не доедешь, если даже ехать без остановки; а я бы хотела побывать ещё и в Голландии, и в Германии, и в Польше.
– А сколько, полагаете вы, вам нужно бы на это путешествие?
– Мне, право, совестно... Если вы опять хотите, доктор, особенно за такие ничтожные проценты... Хоть бы вы, по крайней мере, по восьми взяли, тогда бы я не так стеснялась попросить у вас тысяч пятнадцать. На два года.
– Восьми процентов я не возьму, а по пяти извольте, я могу одолжить вам эту сумму. Завтра, вместе с отпускной Анисьи, я доставлю вам кредитив. Проценты, если вы желаете, я припишу к капиталу, а капитал подгоню так, чтобы за вами было ровно тридцать тысяч ливров, на русские деньги шесть тысяч двести пятьдесят целковых. Заплатить можете их по вашему усмотрению: или всю сумму разом, или, если вам это удобнее, по частям, но не менее двух тысяч рублей всякий раз. Только, я попрошу вас, так как, может быть, мне придётся не скоро возвратиться в Россию, чтобы вы потрудились делать эти взносы князю Василию Васильевичу Голицыну или сыновьям его, а они будут пересылать их мне в аккредитивах. А не то у вас, может быть, есть в Москве какой-нибудь знакомый, имеющий сношения с заграничными банкирами?
– Можно бы... как-нибудь через рижского банкира Липманна, но, впрочем, если князь Василий Васильевич возвратится в Москву, то мне, конечно, удобнее иметь дело с ним и его сыновьями, чем с Липманном, который редко приезжает в Москву и с которым я едва знакома.
На следующее утро Чальдини привёз Квашниной и верительное письмо в пятнадцать тысяч двести семьдесят ливров, и совсем готовую расписку на шесть тысяч двести пятьдесят рублей на имя князя Василия Васильевича, и отпускную Анисьи. Покуда последние два документа подписывались Серафимой Ивановной и с большой торжественностию во имя короля вносились нотариусом в книгу, Жером объяснял русской помещице, что, по международным договорам, нотариальные акты пользуются покровительством законов во всех европейских государствах.
– Ещё раз, ещё сто раз благодарю вас, доктор, теперь я, по вашей милости, могу ехать, не начиная процесса, хоть завтра же, но позвольте мне попробовать начать процесс. Пристав привозил мне вчера адвоката, и, кажется, дельного.
– Как хотите, синьора, но мне кажется, вы опять ошибаетесь. Дельный адвокат не возьмётся за процесс без доказательств.
Пристав действительно привозил Квашниной адвоката, и не только дельного, но и добросовестного. Выслушав её рассказ, он наотрез объявил, что по суду она ровно ничего не получит, что только напрасно истратится на гербовую бумагу и на ведение тяжбы.
– С каждого выигранного мною дела я беру за труды от трёх до шести процентов, – сказал адвокат, – но так как я заранее знаю, что вашего дела не выиграю, то должен буду взять с вас не мнимый процент с мнимой суммы, а какую-нибудь определённую цену, хоть по двенадцати ливров в день; дешевле я свои труды ценить не могу. Тяжба ваша может продлиться недели две-три; зачем же вы хотите бросить десять луидоров, да ещё, кроме того, скомпрометировать и себя и меня?
– Нет, пожалуйста, господин адвокат, десять луидоров – куда ни шло, вот они. У меня предчувствие, что вы выиграете тяжбу... Ну, хоть начните её. Вы увидите, что и Исаак, и Гаспар так перепугаются, что непременно предложат мировую... Жаль, что Даниель удрал куда-то. Ведь они меня, если всё счесть, без малого на пятьдесят тысяч обокрали.
Но ни Исаак, ни Гаспар не испугались. Последнему, не имеющему оседлости в Париже, а кочевавшему большей частью по знакомым, легко бы было скрыться от допросов судебного следователя, но он даже и этого не счёл нужным. На заданные ему письменные вопросы он отвечал, письменно же, что он действительно знаком и с госпожой Квашниной, и с Дэниелем, и с Исааком, что госпожу Квашнину он всегда находил крайне эксцентрической дамой и с маниями; что она, точно, говорила ему о каком-то ожерелье, но что именно говорила, – он этого не помнит, потому что ей часто случалось говорить, а ему в это время её не слушать и думать о совсем другом, что по убедительной и даже, можно сказать, неотвязчивой её просьбе он заложил принадлежащий ей перстень в конторе господина Исаака, который дал под этот залог триста луидоров, хотя перстень не стоит и десятой доли этой суммы, что по её же просьбе он приводил к ней господина Исаака, одолжившего ей под вексель двенадцать тысяч ливров.
О господине Даниеле Гаспар показал, что он познакомился с ним у госпожи Квашниной. Что вообще он знаком с ним очень мало. «Но сколько я могу судить, – прибавлено было в отзыве Гаспара, – господин Даниель – очень милый и очень любезный молодой человек, хотя чересчур влюбчив и в любви не постоянен; это может засвидетельствовать и сама госпожа Квашнина, имевшая с ним сношения, о коих я, из скромности и великодушной деликатности, даже и намекать не смею».
Не менее игриво отозвался гасконец о прочих возводимых на него напраслинах.
«Я приписываю их не чему иному, как полоумному, недобросовестному и, если можно так выразиться, низкому настроению характера госпожи Квашниной. Никаких перстней, ни с фальшивыми, ни с настоящими бриллиантами, я ей не продавал, потому что я не ювелир, а старый заслуженный воин, раненный при взятии Фрибурга, и был ею приглашён в качестве профессора фехтования её племянника, впоследствии от неё убежавшего. В трактирах и в бильбоке я, правда, иногда играл с ней, но по маленькой и скорее для препровождения времени, чем из интереса. В заключение скажу, что я имею неотъемлемое право быть вдвойне изумлённым притязаниями госпожи Квашниной, так как, по сведении счетов, я ещё считаю за ней сто восемьдесят семь ливров за починку рапир и за пересылку их в Солинген и из Солингена, но, не терпя ябеды, я отказываюсь от этих ста восьмидесяти семи ливров и дарю их московийской боярыне на дорогу».
Исаак показал и доказал своими книгами, что действительно 22 ноября отставной фельдфебель Гаспар заложил в его конторе перстень за триста луидоров, что он, Исаак, смотрел на этот залог не как на драгоценную вещь, а как на семейный талисман госпожи Квашниной, зная, что у неё хорошее состояние и полагаясь на слово Гаспара, что она в течение месяца этот талисман выкупит (что ни случилось 20 декабря); что доверие его к госпоже Квашниной было очень велико, что он, несколько дней спустя, одолжил ей, независимо от трёхсот луидоров, двенадцать тысяч ливров без залога, что никакого ожерелья он ни от неё, ни от Гаспара не принимал, что деньги он выдавал ей всегда полновесными монетами, а не обрезанными червонцами, что проценты брал с неё законные и что считает ещё за ней пятнадцать луидоров не доплаченных ею господину Беренду Гутманну процентов.