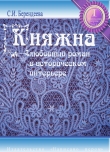Текст книги "Царский изгнанник (Князья Голицыны)"
Автор книги: Сергей Голицын
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц)
– Я совершенно согласен с тобой, сестрица, и Анна Павловна тоже согласна; вот мы с ней и подадим царю прошение насчёт сбитня, а если царь, паче чаяния, откажет нам, то – нечего делать – мы отпустим Матрёшку и останемся без сбитня, потому что царь есть власть, а «всяка душа властей предержащим да повинуется», и потому ещё, что «противляяйся власти, Божию повелению проявляется», а мы, – не правда ли, Павловна, из-за сбитня не намерены сопротивляться Божиему повелению.
– Полно переливать из пустого в порожнее, князь Михайло, – сказал князь Василий Васильевич сыну, – закоснелых плантаторов не разубедишь; много встретит царь препятствий в своём предприятии; много будет приискиваться и искажаться текстов, чтоб поддержать рабство в России... Послушаем лучше, что нам ещё расскажет Миша: скажи, Миша, – я этого не понимаю, – каким образом князь Репнин, всегда нас всех ненавидевший, вдруг сделался твоим покровителем.
– Он давно помирился с князем Михаилом Михайловичем. Это целая история[44]44
После победы, одержанной при Лесном князем М. М. Голицыным над шведским генералом Левенгауптом в 1708 году, на вопрос царя, какой бы Голицын желал награды, он отвечал: «Прости князя Аникиту Ивановича Репнина», незадолго перед тем разжалованного.
[Закрыть]; я вам её когда-нибудь расскажу, если прикажете; мне рассказал её Барятинский, который и привёз меня к Репнину, ручаясь, что я буду им принят как нельзя лучше. Они очень дружны, несмотря на большую разницу лет.
– Какой это Барятинский? Не князь ли Фёдор Юрьевич?
– Нет, дедушка, это его сын. Князь Иван Феодорович...
– С отцом я когда-то был дружен. Помнишь ли, князь Алексей, с каким удовольствием он помогал нам жечь разрядные книги? Прочие Рюриковичи очень артачились: как, мол, я сяду ниже простого дворянина и как я могу подчиняться ему?.. А князь Феодор Юрьевич сразу постиг и открыто говорил всем, что, пока не сожжены разрядные книги, не может быть ни порядка в управлении государством, ни дисциплины в войсках... Если сын пошёл в отца, то можно поздравить царя, что он знает толк в людях.
– Сын не только пошёл в отца, но превзошёл его: ему всего двадцать пять лет от роду, и он уже полковник, и полк носит его имя. Он, первый, с одним батальоном занял редут на горе под Фридрихсштадтом и вытеснил из него шведов; первый начал и преследование. Я встретился с ним в то время, как полк его на привале варил кашу, и он вместо того чтобы отдохнуть после жаркого дела и собраться с новыми силами для преследования шведов, повёз меня к Репнину в главную квартиру.
– Да, – сказал князь Василий Васильевич, – с такими людьми немудрено бить шведов. Карл, я думаю, радёхонек, что его нет под Фридрихсштадтом и что он может приписывать поражение своих генералов своему отсутствию. Ну, а на письмо моё нет ответа?
– Вероятно, ответ придёт позже, дедушка; Репнин не советовал мне дожидаться его, потому что государь не любит писать в походе, да ему и некогда, а он, кажется, намерен сам отвечать вам.
– И ты его после этого ужина уже не видал?
– Видел, дедушка, на другой день утром он позвал меня к себе в ту же избу, где мы ужинали. Он сидел за ландкартой с циркулем и карандашом в руках.
«Прощай, князь Михайло, – сказал он мне, – кланяйся от меня пинежцам и скажи деду, что мне не нужно никакого пересмотра суда, чтоб от всей души жалеть, что он потерял столько лет своей жизни без пользы для России; но он сам знает, сам пишет мне, что я не мог поступить иначе, как поступил. То ли мне ещё советовали? Ещё скажи деду, что распоряжение о свободном выезде его из Пинеги сделано и нынче же отправляется с фельдъегерем; что он может ехать, куда желает, но что, я непременно надеюсь, что по окончании этой кампании он приедет ко мне – посмотреть на принадлежащий нам Финский залив и на новую столицу России. Что-то скажет великий Голицын, увидев, что там, где десять лет тому назад были непроходимые болота, вырос теперь очень порядочный городок? Что скажет великий Голицын, увидев русский флот в Балтийском море?»
«Государь, – отвечал я, – великий Голицын, не видав ещё ни Петербурга, ни Кронштадта, ни Балтийского флота, знает, однако, кого надо называть великим».
– Ты так отвечал ему? – спросил князь Михаил Васильевич. – Ай да племянник! Эким куртизаном сделался за границей! Что ж, ответ этот, верно, не повредил тебе?
– Напротив, дядюшка. Государь пристально посмотрел мне в глаза и самодовольно улыбнулся.
«Прощай, – повторил он мне, – жаль мне, что ты выходишь в отставку; но когда поправишься, может быть, опять поступишь на службу. Не забудь сказать деду, что я не теряю времени, что ты застал меня за работой: ловлю поджигателя Штенбока, который, кажется, хочет нарушить нейтралитет Гольштейна и перенести войну туда».
От царя я зашёл к Репнину – поблагодарить за все его любезности, и он в довершение своих любезностей отправил меня до Данцига с фельдъегерем, повёзшим указ царя о вашем освобождении.
– Я говорил тебе, Марфа, готовиться к дороге, – сказал князь Василий Васильевич, – ты, я знаю, хоть сейчас готова; но мне не восемнадцать лет, погодим хоть до пятой недели поста, авось теплее будет. А привёз ты мне, Миша, то, что обещал? – обратился он к внуку.
– Термометр? Как же, дедушка, три привёз, и один – нового устройства, усовершенствованный. Мне подарил его на днях, в последний проезд мой через Данциг, профессор Фаренгейт[45]45
Изобретение термометра приписывают голландцу Корнелию Дреббелю (около 1630 г.). Англичанин Эдмунд Галлей усовершенствовал его в начале XVII столетия. Ртуть вместо спирта была употреблена в первый раз данцигским уроженцем Фаренгейтом только в 1720 году.
[Закрыть]. Пан Ведмецкий, вероятно, уже распорядился прибить его за окошко в вашем кабинете.
– Любопытно посмотреть, сколько теперь градусов, давеча утром, я думаю, градусов пятьдесят было.
Князь Михаил Алексеевич пошёл в кабинет деда и вскоре возвратился с известием, что на дворе сорок четыре градуса мороза[46]46
44° Фаренгейта равно – 334/5° Реомюра.
[Закрыть].
– Видишь ли, Марфа, в кабинете мне сидеть приличнее, чем в санях. Пойду в кабинет. Я даже здесь озяб немножко, несмотря на камин, да и спать пора мне: скоро одиннадцать часов. Прощайте. Спасибо, Миша, за приятные известия и за термометры. Теперь, Павловна, можешь сколько хочешь пристраивать своего шалуна: я советую тебе поклониться в пояс князю Михаилу Алексеевичу, видишь, в какую он вошёл силу.
– А куда, Анна Павловна, желали бы вы поместить вашего Петю? – спросил по уходе деда князь Михаил Алексеевич. – У меня, может быть, нашлось бы для него местечко: герцогиня Гольштейн-Готторпская просила у меня мальчика, который бы не знал никакого языка, кроме русского; в этом отношении ваш Петя может быть принят без экзамена, но не слишком ли он шаловлив?
– Петя-то? – сказал Спиридон Панкратьевич. – Это самый смирный, самый нравственный ребёнок в мире. Не след бы мне хвалить своего сына, но это вам всякий скажет. Вот хоть и её сиятельство, княгиня Марфа Максимовна, подтвердят. Они сейчас награждали его разными лакомствами. Иногда Пётр, разумеется, порезвится, да какой же ребёнок не резвится? Явите, ваше сиятельство, божескую милость, по гроб жизни будем благодарны. Эй, Пётр, где ты? Иди просить нашего благодетеля, чтоб его сиятельство отослали тебя к ирцагине Горчинской.
Пётр, забравшись между камином и диваном, уже давным-давно спал крепким сном, не грезя, вероятно, что в эту минуту решается его судьба. Спиридон Панкратьевич хотел было пойти разбудить его, да раздумал: «Ещё разревётся, скотина, – пробормотал он, – и тогда, прощай, ирцагиня».
– А зачем, смею спросить, – сказала Анна Павловна, – этой, как бишь её, нужен русский мальчик?
– Для практики в русском языке, – отвечал князь Михаил Алексеевич, – она желает, чтоб дети её свободно говорили по-русски. Петя читать и писать умеет?
– Ещё не совсем твёрдо, – отвечал Спиридон Панкратьевич, которому стыдно было признаться, что сын его не знает даже азбуки.
– Ну, там его выучат. У герцогини есть русский учитель, и, кажется, очень хороший, из духовного звания.
– Я бы могла рекомендовать тебе другого мальчика, – вполголоса сказала княгиня Марфа, дотронувшись до подсвечника, как будто она говорила о догоревшем огарке.
– У меня есть план, – отвечал ей муж, снимая стёклышко с подсвечника. – Итак, Анна Павловна, обдумайте хорошенько моё предложение и решайтесь, только я должен предупредить вас, что у герцогини баловать Петю не будут и что драться с уличными мальчиками, как, например, давеча, ему не позволят.
– Чего тут обдумывать хорошенько? – сказал Спиридон Панкратьевич. – Кто не рад счастию своего ребёнка? Я хоть сейчас отдам его с обеими руками. Строгость, ваше сиятельство, иногда не мешает. Я сам не потакаю Петру и сызмала толкую ему, чтоб он рос в честных правилах и сделался честным человеком, как отец его, осмелюсь доложить, ваше сиятельство.
Видя, что князь Михаил Алексеевич, не слушая его, встал и пошёл провожать до двери уходивших отца, мать и дядю и что молодая княгиня тоже встала, чтобы проститься с ними, Сумароков подошёл к своей жене и шёпотом сказал ей:
– Говорил я тебе, что всё обойдётся благополучно и что они ничего не знают о письме к князю Миките Ивановичу... Уж недаром не было лишней чарки нынче!..
Простившись с уходившими, князь Михаил Алексеевич возвратился на своё место.
– Я имел честь докладывать вашему сиятельству, – продолжал Спиридон Панкратьевич, – что строгости для нашего Пети я не боюсь, она может принести только пользу ребёнку. Я сам не охотник потакать шалостям и всегда, главное, внушал своему сыну, чтоб он рос честным человеком, в отца. Не след бы хвалить самого себя, ваше сиятельство, но осмелюсь доложить.
– Мне надо сказать вам два слова, Спиридон Панкратьевич, и кое-что передать, – сказал князь Михаил, озираясь, не возвращается ли его жена.
– Аль посылочка, ваше сиятельство, – вскрикнула Анна Павловна. – Говорила я тебе, Спиридоша, что есть посылка: князь Микита Иванович не таковский, чтоб ничего не прислать мне на праздники.
– Нет, не посылочка, – отвечал князь Михаил, – а ещё письмо, и письмо не от князя Репнина, а напротив, к нему. Не хотите ли, я вам прочту его?
Он вынул из кармана и положил на стол распечатанный жёлтый конверт, в котором Сумароков тут же узнал свой донос.
При этом Спиридон Панкратьевич сделался желтее конверта, бледнее скатерти, на которой лежал конверт.
– Ваше сиятельство! Ради Бога, не погубите! – сказал он плаксивым голосом, став на колени и ловя руки князя Михаила. – Ей-Богу, Сысоев...
– Не лгите по-пустому, – отвечал князь Михаил, – я читал донесения Сысоева и ни в одном из них не нашёл ничего, кроме беспредельного уважения к князю Василию Васильевичу и всему нашему семейству... Не стану разбирать, что могло побудить вас к поступку, столько же низкому, сколько и неосторожному, и что вы надеялись выиграть, если б вам удалось оклеветать моего деда и увеличить его несчастия. Погубить я вас, как вы говорите...
– Ваше сиятельство, явите божескую милость! Что Бог, то и вы, ей-Богу, лукавый попутал! Верьте Богу, ваше сиятельство, да позвольте ручку-то, ради Бога!..
– Молчите, встаньте и слушайте, пока кто-нибудь не пришёл сюда. До сих пор я скрыл эту гнусную тайну ото всех; даже жена моя ещё ничего не знает: она пошла кормить Елену (с позволения сказать, как вы пишете) и уже не придёт сюда до вашего отъезда; но моя мать может прийти всякую минуту, и если она застанет вас на коленях, то я должен буду рассказать ей всё. Садитесь. Анна Павловна, вероятно, читала и донос ваш и ответ на него... Если не читала, то вот копия с этого ответа. При Пете тоже можно говорить откровенно: он, как видите, только хлопает глазами, ничего не понимая, и, кажется, сейчас опять заснёт... Садитесь, повторяю вам.
Сумароков сел на кончик стула. Седые, взъерошенные усы его обрисовались неловкой, неестественной, кривой улыбкой и серые растерявшиеся глаза начали перебегать от Пети на жену, от жены – на дверь.
– Если б вы могли ещё вредить моему деду или кому-нибудь из нас, – продолжал князь Михаил, – то я, разумеется, счёл бы долгом принять против вас предосторожности и прочесть ваш донос всему нашему семейству, но теперь это было бы бесполезным мщением: перемена, происшедшая в нашем положении, произвела, как я вижу, перемену и в вашем взгляде на взаимные наши отношения: теперь, вы полагаете, что лестью вы выиграете вернее, чем интригами, и как скоро, как беззастенчиво сумели вы перейти от грубого тона, с которым вы приняли меня давеча, к раболепству, которое видно теперь во всяком вашем движении! Но не бойтесь: мстить я вам за давешний ваш приём не буду; а за донос – вот единственное моё мщение: я вам прочту его вслух. Мне любопытно посмотреть на вашу мину во время этого чтения.
Князь Михаил начал читать громко, внятно, останавливаясь на самых подлых местах доноса, чтобы взглянуть на мины слушателей. Лицо Анны Павловны при этих самых подлых местах казалось сконфуженным; но Спиридон Панкратьевич чем больше продолжалось чтение, тем смотрел бодрее; он знал, что князь Михаил Алексеевич не изменит своему слову и что всё мщение его ограничится этими пустяками. В двух местах, однако, а именно там, где сказано, что княгиня Мария Исаевна дурная женщина, и особенно там, где испрашивается указ подвергнуть князя Василия Васильевича допросу, автор доноса счёл полезным изобразить раскаяние: он начал отрывисто всхлипывать, как будто икает, и громко сморкаться, как будто от насморка, но князь Михаил попросил его сидеть потише, и икота и насморк прекратились.
По окончании чтения князь Михаил смял в комок лежащие перед ним бумаги и бросил их в только что истопившийся и покрывающийся пеплом камин. Пламя живо охватило свою жертву и погасло, истребив меньше чем в полминуты плоды трёхмесячных трудов Спиридона Панкратьевича.
– Теперь, – сказал князь Михаил, – можем продолжать наш давешний разговор о Пете: вы говорили, что желаете оба поместить его в Киль, к герцогине Гольштейнской.
– Как, ваше сиятельство, – сказала Анна Павловна, непритворно удивлённая таким великодушием, – неужели это была не шутка? Неужели после поступка Спиридош... моего мужа, вы согласитесь заботиться о помещении нашего сына?
– Я сказал, что не хочу мстить вашему мужу, тем меньше захочу я мстить вашему сыну, который, вероятно, не участвовал в написании доноса... Подойди ко мне, Петя, – сказал князь Михаил дремлющему на диване мальчику.
Петя, не совсем ещё проспавшийся от наливки, начал вытягиваться, раза три зевнул и, переваливаясь с бока на бок, подошёл к князю Михаилу.
– Хочешь ли, – спросил он у Пети, – ехать со мной в немецкую страну и поступить там в ученье?
– Хо-о-чу! – отвечал Петя.
– И тебе не жаль расстаться с отцом и матерью?
– Мамку жаль маненько, а тятеньку чаво жалеть! Он больно зороват. Всё дярётся; вот и давя ударил меня ногой по...
– Это он так, спросонья говорит, ваше сиятельство, – прервал Спиридон Панкратьевич, – я, конечно, иногда употребляю с ним благоразумную строгость, без этого нельзя, хочу, чтоб он рос честн...
– Я это уже слышал, но не в этом дело, – отвечал князь Михаил, – я замечаю, что он научит молодых герцогов не самому изящному русскому языку; ну, да это не беда: учитель будет поправлять их. В июле или в августе я опять еду за границу; в начале июля, следовательно, надо, чтоб Петя был в Петербурге, не то ваканция займётся.
– Непременно будет, ваше сиятельство, – сказала Анна Павловна. – Я сама доставлю его. Как благодарить нам.
– Никак... прощайте. Я очень устал с дороги и хочу спать.
Сумароковы встали и, прощаясь, продолжали кланяться и рассыпаться в благодарениях. В это время княгиня Марфа, бледная, испуганная, вбежала в залу.
Князь Михаил вместе с женой побежал наверх. Сумароковы уехали.
– Ну не дурак ли? – сказал Спиридон Панкратьевич своей жене, когда они отъехали шагов на пятьдесят от княжеского двора. – Имел в руках такое письмо и сжёг его, и улик против меня теперь никаких нет!.. Уж я не говорю старому князю, а покажи он это письмо хоть Сысоеву, то пропали бы мы навсегда, а он сжёг его. Право, дурак!.. Да ещё Петю к ирцагине немецкой везёт... ведь ирцагиня – это, почитай, та же королева, только мудрено выговорить. А ты, Петька, у меня забудь, как в гостях вздор говорить да допьяна напиваться; ты думаешь, я не видал, как ты к малиновке-то присуседился. Уж только так, на радости спускаю тебе, а вперёд держи ухо востро!
ГЛАВА VIII
КОНЕЦ ОПАЛЕ
Прибежав наверх, князь Михаил и княгиня Марфа нашли свою дочь в безнадёжном положении: багровые, тёмно-синие пятна выступили на её лице, шее и груди; всё тело её, кроме рук и ног, горело. Руки и ноги были ледяные; дыхание мало-помалу прекращалось; раскрытые глаза налились кровью; густая, красноватая пена показалась изо рта. Признаков жизни не оставалось никаких, кроме судорожных, всё реже и реже повторявшихся подёргиваний челюсти.
Легко представить себе, но трудно выразить отчаяние отца и матери. Отец, до крови прикусив нижнюю губу, нагнул высокий стан свой над колыбелью дочери; слёзы крупным и частом градом лились на умирающую девочку, которая часа три тому назад так весело играла и прыгала у него на коленях. Марфа без слёз смотрела на свою Еленку, изредка вытирая пену у её ротика и повторяя мужу, чтоб он не плакал на больную, а то, может, ещё больше простудить её.
Судьбы Божии неисповедимы. К утру по всей Пинеге разнёсся слух о смерти маленькой княжны. Все, и старые, и молодые, жалели княгинюшку, которая в пятимесячное пребывание своё в Пинеге сумела снискать любовь всех жителей.
– Слышала ль, Агафья Петровна, – говорила Фадькина мать старой дьячихе, куме своей, – слышала ль, какое горе на княжеском-то дворе?
– Как не слыхать, кумушка! – отвечала Агафья. – Чуть свет прибежал к нам твой Фадька, разбудил Захарку и Ваньку, и ну втроём реветь: уж больно им княгинюшку-то жаль; и то жаль, что она, слышь, скоро едет; и жаль, что дочку-то схоронить привелось. Да, видно, уж Божья воля такая!..
– Оно так. Божья воля. Да за что Бог-ат наказывает её? Уж больно она проста: у меня о Николе из семи детей пятеро в краснухе лежали, – всех вылечила: всякий день коль сама не придёт, так пяньку аль дворетчиху пришлёт с лекарством аль с питьём каким; всех детей в баню запереть велела и чтоб никого туда зря не пущать и чтоб ветерок со двора не подул на них, наказывала.
– А мой Ванька-то о Святках совсем было помирал, – говорила Агафья Петровна, – худоба така одолела его, и невдомёк отчего, словно испорченный!.. Так она его к себе во двор взяла, три недели какой-то травой поила, и с тех пор он как встрёпанный.
– Чай, не от травы, а должно быть, слово знает, – сказала третья женщина, только что подошедшая к толкующим.
– Вы о ком? О княгинюшке, что ли? – спросила четвёртая. – Да, слово знает, а небось своей Алёнушки от глазу не сохранила: говорят, в полчаса её как не бывало... Гвоздичкой бы обкурить её вечор, ничего бы и не было.
– Гвоздичкой от Божией власти не откуришься, – философически заметила Агафья Петровна...
– Где откуриться! – примолвило несколько голосов из всё более и более увеличивающейся группы.
– Вот мой Ванька, – продолжала Агафья, – чай, помните какой, о Святках, был, – а небось не судьба, так и без гвоздички не помер. Уж кому на роду написано в живых остаться, тому Бог и помощь, каку нужно, пошлёт. Тот же Ванька у меня, ещё грудным был, совсем было помер: младенческая приключилась; уж и гробишко мой дьячок сколотил... Ан не судьба: очнулся, слава Богу...
Долго толковали в толпе и о Божией воле, и о княгинюшке, и о гвоздичке. Мнения, как и на всех сборищах, от вселенских соборов до деревенских сходок – разделились: иные продолжали утверждать, что на всё – власть Господня; другие возражали пословицей: бережёного Бог бережёт; но все, даже не нуждавшиеся в милостях молодой княгини, единогласно жалели общую милосливицу; всякий помещал своё словечко о простоте её: тому она подарила корову или лошадь; другому помогла поправить избу; за третьего внесла подушные. Дети, более других пользовавшиеся её простотой, плакали навзрыд, услыхав, что их княгинюшка навсегда уедет из Пинеги.
Кто-то подал мнение, что не худо было бы бабам пойти повопить на княжеский двор, а то княгинюшка, пожалуй, подумает, что они не жалеют её. Мнение это было принято почти единогласно с тем, однако, возражением, что зачем же идти одним бабам, что можно идти и мужикам, из коих многие умеют голосить не хуже любой бабы. Агафья Петровна, смышлёнее и бывалее других, заметила, что молодой княгине теперь не до того, будут ли или не будут голосить по её дочери, но что помолиться за усопшую действительно не худо, потому что она хоша и младенец, но всяк человек рождается во грехе.
– Всё же, – прибавила она, – не спросясь, нам идти на княжеский двор непригоже, а лучше подослать бы кого-нибудь к дворецкому или хоть к Харитонычу спросить, когда будет панихида и можно ль нам к ней прийти.
Харитоныч, к которому обратились с этим вопросом, счёл нужным посоветоваться с дворецким. Дворецкий, не решаясь взять на себя впустить такую многочисленную толпу, обратился за приказанием к князю Михаилу Васильевичу.
Князь Михаил Васильевич, впавший снова в ипохондрию, тупо взглянул на дворецкого, ничего не отвечал и устремил мутные, сухие глаза на девочку, лежавшую на столе, в маленьком, наскоро сколоченном, дубовом гробике.
Дворецкий обратился тогда к княгине Марии Исаевне, тоже очень огорчённой потерей внучки и отчаянием сына и невестки.
– Спроси у князя Василия Васильевича, – отвечала она дворецкому, – или погоди, я, пожалуй, пойду спрошу сама.
Князь Василий Васильевич сидел между иеромонахом Савватием, ожидавшим прибытия причта, чтоб начать панихиду, и княгиней Марфой Максимовной, которую дедушка нежно держал за руку.
– Что, – спросил он дрожащим, но довольно громким голосом у подошедшей к нему невестки, – можно начинать панихиду? Приехал причет?
– Нет ещё, батюшка, – отвечала княгиня Мария Исаевна, – причет ещё не приехал. Я не за этим, а посадские просят позволения войти помолиться за покойницу.
– А много их собралось? – спросил князь Василий Васильевич.
– Да с детьми человек сто будет, с лишком.
– Пусть войдут, только не все вдруг, а человек по двадцать или по двадцать пять, на панихиды пусть тоже приходят по очереди, да вели предупредить баб, чтоб они не голосили; не могу слышать этих завываний.
Сумароков подскочил к князю Василию Васильевичу:
– Позвольте мне распорядиться насчёт порядка, ваше высокосиятельство, – сказал он, – а то народ необразованный. Как бы давки и шуму не произошло.
– Нет, не беспокойся... Дворецкий распорядится сам, прикажи ему, княгиня Мария Исаевна.
Княгиня Мария Исаевна показала на Марфочку:
– Не повредит ли ей, – шепнула она, – если наберётся сюда много народа?
– Разве она что-нибудь видит или слышит? – сказал князь Василий Васильевич. – Нет, пусть придут... А где твой сын? – обратился он к Марии Исаевне.
– Лежит наверху, батюшка. Он не придёт на первую панихиду.
– Вот за делом торопился ехать!.. Вели же звать посадских, княгиня Мария Исаевна.
Дворецкий передал собравшемуся народу приказание князя Василия Васильевича разделиться на пять групп и входить по очереди, сперва старикам, потом, – кто помоложе, и наконец – детям.
Входящие, перекрестившись и поклонившись в землю, прикладывались к ручке малютки. Всё это происходило тихо, с должным благоговением и в совершенном порядке, несмотря на невмешательство градоначальника...
– Посмотрите, дедушка, – вдруг сказала Марфа твёрдым, спокойным, но каким-то неровным, отрывистым голосом, – посмотрите, сколько набралось народа! Посмотрите, сколько стариков и старух!.. Какие все они старые! Однако они пережили мою Еленку! Они вон двигаются, кланяются, прикладываются к ней, а Еленка моя лежит без движения! Еленки моей нет больше на свете!..
Ни князь Василий Васильевич, ни иеромонах Савватий не заметил, что этот ропот на долговечность стариков мог косвенно, но больше всех относиться к ним двум. Марфочка и подавно не замечала этого: мысли её то были сосредоточены на гробике дочери, то беспорядочно перебегали от одного предмета к другому...
– Отец Савватий, – продолжала она, показывая головой на иеромонаха, – часто говаривал, что если мы чего с верой и усердием просим у Бога, то Бог исполняет нашу молитву... Другой раз он говорил, что Бог, любя нас, не всегда исполняет нашу просьбу, так же точно, как нежный отец. Как бы ни просил ребёнок дать ему змею в руки, не даст ему змеи. Отец Савватий говорит, что часто мы сами не знаем, чего просим у Бога... Уж я ли не молилась о сохранении моей Еленки!.. Неужели, отец Савватий, прося у Бога не отнимать у меня данной мне Им Самим дочери, неужели вы думаете, что я просила у Него змею?
Отец Савватий, не столько твёрдый в догматических тонкостях богословия, сколько в нравственных истинах Евангелия, сквозь слёзы смотрел на несчастную, обезумевшую от горя мать, по-видимому так хладнокровно и даже так рассудительно говорящую о своей потере; её вопрос, на который нельзя было иеромонаху отвечать иначе как давно избитыми общими местами, поставил его в затруднение.
– Марфа, – тихо сказал ей дедушка, – я знаю, что никакие утешения не могут облегчить твоё горе. Я знаю, – и отец Савватий тоже знает, – что бы ни говорили тебе, – твоё горе всё-таки останется величайшим горем в мире; оттого и не говорили мы тебе ничего... Ты упрекаешь стариков, что они переживают детей; спроси-ка у них, счастливее ли они тех, кого переживают. Мне восемьдесят лет, Марфа, отец Савватий ещё старше меня, и оба мы пережили твоего ангела...
– Дедушка! Рразве я о вас говорила?.. Я говорила вон о тех ненужных стариках, которые целуют Еленку...
– Знаю, что не об нас, Марфа, – отвечал князь Василий Васильевич, – мне самому только в эту минуту пришло в голову применить твои слова к нам. Отец Савватий тоже не мог принять их на свой счёт...
– Княгиня Марфа Максимовна, – сказал отец Савватий, – если б тебе было не восемнадцать лет, то ты бы не брала на себя решать, какие старики нужны на земле и какие не нужны; ты предоставила бы это провидению Божьему: оно одно безошибочно судит, кому пора отдохнуть и кому надо ещё поработать... Если б ты хоть немножко знала жизнь, княгиня Марфа Максимовна, ты не считала бы её лучшим даром Божиим и так горько не завидовала бы тем, кого Бог надолго оставляет в этой юдоли скорби и плача. Суди по самой себе: при теперешнем настроении твоего духа, не считала ли бы ты себя счастливой, если б ты умерла семнадцать лет тому назад?
– Разумеется, это было бы для меня большое счастие, даже теперь я была бы рраца...
– Ты говоришь, «разумеется», а между тем ты переживаешь свою первую, может быть, свою единственную скорбь... А спроси у деда твоего, спроси у меня, у любого из этих ненужных стариков, собравшихся из любви к тебе помолиться за твою дочку, спроси, сколько мы на нашем веку перенесли таких скорбей, как твоя теперешняя, от которой ты рада бы умереть хоть сейчас же. Однако мы живём, переживаем всё и всех; не успеем иногда порадоваться рождению младенца, как нам приходится, – как теперь, – плакать над его могилой. Мы живём и всё больше и больше втягиваемся в жизнь, сожалея, что не умерли прежде и боясь умереть теперь... Видала ль ты, княгиня Марфа Максимовна, как иногда на Пасху выпадет снег и как этот чистый, белый снег покроет глыбы старого, зимнего снега?
– Видала, – машинально отвечала Марфочка.
– Заметила ли ты, – продолжал отец Савватий, – что тогда, при утреннем морозе, зима, кажется, снова установилась, но вот взошло весеннее солнце, и новый чистый снег тут же пропал бесследно, а старые глыбы залежались где-нибудь в углу, смешались с грязью, покрылись ледяной корой и долго, долго не тают.
– Ты говоришь, что рада бы умереть сейчас же, Марфа, – сказал князь Василий Васильевич, – да, наше собственное горе делает нас безжалостными к горю других! Счастливы, конечно, младенцы, умирающие, как твоя Еленка, не имея никакого понятия о смерти; легко умирается и в твои годы, когда не имеешь ни больших грехов, ни большого страха суда Божьего; а каково было бы нам всем потерять тебя, Марфа? Каково мне было бы пережить ещё это последнее горе и не иметь впереди никакого утешения, кроме той же самой смерти, но с ответственностию – и какой ответственностию– за долголетнюю жизнь?..
– Дедушка, я не умру. Я совсем не желаю умереть, – отвечала Марфа, – я совсем не то хотела сказать, дедушка, мне очень жаль Еленку. – Нагнувшись на плечо деда, Марфа судорожно зарыдала.
Княгиня Мария Исаевна подошла к отцу Савватию и шепнула, что причет приехал. Иеромонах встал и начал облачаться.
– Как! Неужели уже отпевать! – сказала Марфа. – Можно бы погодить немножко, может быть, князь Михаил придёт на панихиду...
– Марфа, – продолжал князь Василий Васильевич, – когда твоя Еленка была жива, мне часто хотелось спросить тебя, но я боялся огорчить тебя этим вопросом, что если б тебе предоставили выбрать или чтобы она умерла сейчас же, или чтоб через двадцать лет она сделалась такой, как, например, Серафима Ивановна Квашнина. Что бы ты выбрала?
Марфа не отвечала ничего, может быть не услышав и, во всяком случае, не поняв вопроса деда; глаза её были устремлены на гробик Елены, к которой в это время Агафья Петровна подводила прикладывать своих детей.
– Или, – продолжал князь Василий Васильевич, – если б тебе предложили выбрать, чтоб твоя дочь умерла теперь или чтоб она через пятнадцать лет вышла за недоброго человека, который мучил бы её и сделал бы несчастливой на всю жизнь. Что бы ты избрала? Кому бы отдала ты свою дочь: Богу или недоброму человеку?
– Дедушка, не спрашивайте этого. Если бы Еленка со временем была несчастлива, я бы утешала её, и это для нас было бы почти счастие. Что бы ни было, дедушка, что ни суждено в будущем, а я не могла бы согласиться на смерть Еленки: мать не может согласиться на смерть дочери. У меня всегда была одна молитва к Богу: «Боже мой! Сохрани мою Еленку. Боже мой! Не отнимай её у меня. Боже мой! Сжалься над несчастной матерью; сделай, чтоб дочь моя была жива!
– Дочь твоя жива, ей-Богу жива! – закричала Агафья Петровна, проворно сняв с себя шубу и накинув её на гробик. – Матушка княгинюшка! Пальчик-ать у неё на ручонке пошевельнулся! С моим Ванькой то же самое было: это не смерть – это младенческа!
Что ты говоришь, сумасшедшая! – сказал Агафье князь Василий Васильевич. – Смотри, ты убила её...
Действительно, при первых словах Агафьи Марфочка вскочила, подбежала к гробику и замертво упала у ног оживающей дочери.
– Батюшка князь, – отвечала Агафья князю Василию Васильевичу, – как Бог свят – младенческа; не вели трогать Алёнушку. Бог милостив, к вечеру она под шубой отлежится. С моим Ванькой – вот что княгинюшка о Святках-то на твоём дворе лечила – то же самое было; он у меня тогда грудным был. Уж и гробик мой дьячок-ать сколотил.