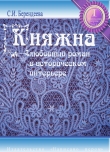Текст книги "Царский изгнанник (Князья Голицыны)"
Автор книги: Сергей Голицын
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 27 страниц)
Как только затворилась дверь и стук скоро отдаляющихся шагов утих, царевна подбежала к окну и, сняв с него лейку, с досадой поставила или, вернее сказать, бросила её на пол. Успокоенная насчёт возможности возвращения Щегловитова, она подошла к князю Василию Васильевичу и взяла его за руку.
– Ах, извини меня, царевна, – сказал он ей, вставая, – я, кажется, вздремнул: этот глювейн и эти ликёры так крепки, и я так отяжелел после обеда... а где мои сыновья?
Царевна не верила глазам своим: перед ней стоял не умирающий паралитик, как она этого ожидала, а крепкий, бодрый, посвежевший от отдыха мужчина с ясными глазами и добродушной улыбкой.
– Как где твои сыновья? Разве ты не видал, что они ушли? Разве ты не слыхал, что здесь был...
– Фёдор Леонтьевич? Как же, слышал; вы о чём-то говорили. Куда ж он девался?
– Он тоже ушёл... давно ушёл, – отвечала царевна. – Завтра он поедет к Петру Алексеевичу, – я приказала ему.
– И отлично. Я говорил, что завтра всё уладится. Пётр Алексеевич был нынче с тобой очень любезен и завтра, верно, не захочет сделать тебе неприятность... лишь бы наш удалой стрелец опять как-нибудь не напроказил...
Всё это было сказано так просто и таким спокойным голосом, что царевна мгновенно оправилась от взволновавшей её тревоги. Ей только казалось странным, как она, со своей опытностию, могла принять послеобеденную дремоту уставшего старика за ревнивый припадок влюблённого.
«Правда, – думала она, – погода пасмурная, скоро восемь часов, смеркается уже... и если б он был в опасности, то сыновья его заметили бы это и не ушли бы...»
Слуга внёс большой бронзовый канделябр с шестью восковыми свечами и, поставив его на стол, начал зажигать свечи. Царевна предложила своему министру опять заняться бумагами; но он, уставший от утренней работы и от обеда, как выразился он, попросил у царевны позволения удалиться и, почтительно поклонившись, тихими и плавными шагами пошёл к двери.
«Какая разница, – думала царевна, – между этой благородной походкой и шагистикой вприпрыжку того противного капрала! И где у меня были глаза?..»
Проходя около герани, князь Василий Васильевич остановился и понюхал её. Потом поднял с пола преграждавшую ему дорогу лейку, вылил на герань оставшиеся в ней капли и, поставив лейку на окно, прежним тихим и спокойным шагом вышел из комнаты.
– Возьми эту гадкую... эту пустую лейку, – закричала царевна уходившему слуге, – и скажи садовнику, чтоб её здесь никогда не было.
Слуга поспешно унёс лейку, удивляясь такому беспорядку и собираясь хорошенько пожурить дежурного садовника за его оплошность.
А царевна закрыла лицо руками и упала на кресло, на котором перед тем сидел князь Василий.
– Погибла! Навсегда погибла! – вскрикнула она и горько, горько заплакала.
ГЛАВА II
ПОМЕЩИЦА XVII СТОЛЕТИЯ
Двадцатилетний юноша готов застрелиться от неверности женщины, даже если он не совсем убеждён в её неверности. Он зрело обдумает план свой удивить неверную или насолить ей. Перед смертью он напишет письмо на четырёх страницах: на первых трёх сообщит неверной, что он один во всём мире умел любить как следует, а на четвёртой докажет, как дважды два четыре, что она всю свою жизнь должна оплакивать такого необыкновенного человека.
Тридцатилетний несчастный любовник тоже иногда стреляется; но чаще он предпочитает застрелить или хотя бы подстрелить своего соперника, а иногда и её, коварную. Себя же он застрелит не иначе как сгоряча и непременно у ног коварной. Письма перед смертью он ей не напишет, а если начнёт писать, то раздумает стреляться.
Не застрахован от душевных волнений и сорокалетний волокита; но он не поддаётся им, как хорошо обстрелянный воин не кланяется свищущим около него нулям. Любовные его невзгоды имеют развязки самые естественные: или у него начнёт седеть борода, или пропадёт сон, или испортится аппетит. Средства к излечению у него тоже незатейливые: жестокую свою красавицу он в глаза или письменно назовёт кокеткой (полагая, что без него она этого не знала); потом недельки на две удалится от неё; выкрасит или сбреет себе бороду; от бессонницы примет порошок с опиумом; для восстановления аппетита выпьет лишнюю рюмку настойки и, радикально вылеченный, дерзает на новые пули.
В пятьдесят лет любовь... любовь в пятьдесят лет... Но слова эти так смешно, так неуклюже ладятся между собой, так враждебно смотрят друг на друга, что, не умея примирить их, переходим, без дальнейших отступлений, к продолжению нашего рассказа.
Желая избегнуть вопросов своего семейства о бледности, о дурном расположении духа, князь Василий Васильевич Голицын, возвратясь домой, сказался очень усталым и прошёл прямо на свою половину. Много грустных, несносно тяжёлых мыслей перебродило у него в голове в эту бессонную ночь, однако на следующее утро, 25 июля, в День именин схимонахини Анфисы, он встал по обыкновению, оделся раньше обыкновенного и поехал в Вознесенский монастырь.
После обедни он поздравил именинницу, обеих цариц[9]9
Параскеву Фёдоровну, рождённую Салтыкову, супругу Иоанна Алексеевича, и Евдокию Фёдоровну, рождённую Лопухину, супругу Петра.
[Закрыть], царя Петра Алексеевича и царевну Софию Алексеевну. За трапезой в келье именинницы он был весел и разговорчив, как следует быть на пиру. И никому, кроме царевны, не было нужды догадываться, сколько горя, сколько грусти скрывалось под этой весёлой оболочкой; в смеющихся сквозь слёзы глазах этих она одна могла прочесть и сожаление о потерянном счастье, и безутешную скорбь разочарованной души, и отсутствие всякой надежды на будущее. Она видела, что оскорблённое самолюбие этого человека пренебрежёт, конечно, мщением оскорбившей его женщине, но что оно не может простить ей, – не может позабыть её оскорбление.
Обе царицы остались у схимонахини Анфисы на целый день. Царевне Софье Алексеевне тоже не было особенных причин спешить домой. А царь Пётр Алексеевич, ещё перед началом трапезы объявивший, что ему долго пировать некогда и что его ждёт в Преображенском очень спешное дело, встал немедленно по окончании трапезы и, прощаясь со своей тёткой и её гостями, пригласил князя Василия Васильевича ехать с собой.
– Не в службу, а в дружбу, – сказал царь, – свою карету отошли, и поедем в моей: мне о многом надо переговорить с тобой; кстати, ты поможешь мне расправиться со Щегловитовым.
– Щегловитов, – продолжал Пётр Алексеевич по пути к Преображенскому, – может быть, прекрасный, преблестящий офицер; но он слишком ограничен, чтоб быть хорошим начальником так дурно дисциплинированного войска. Как думаешь, князь Василий Васильевич, очень дорожит Щегловитовым государь Иоанн Алексеевич?
– Моё мнение, как и вчера говорил я тебе, государь, – отвечал князь Василий, – не спешить сменять Щегловитова. Были умные и бойкие стрелецкие начальники; но с ними управляться было ещё мудрёнее. Щегловитов нынче будет у тебя с повинной; может быть, он ещё и не так виноват, как кажется... Что это такое? – сказал князь Василий, видя, что карета вдруг остановилась и что несколько стрельцов показались в дверцах. – Это ты, Стрижов?
Стрижов был один из лучших офицеров стрелецкого войска и один из преданнейших царевне Софье Алексеевне. Увидев князя Василия Васильевича, которого он никак не ожидал видеть в карете царя, он подал знак сопровождавшим его стрельцам, чтобы они отъехали от кареты.
– Это я, – отвечал Стрижов, видимо смущённый неожиданной встречей, – мы здесь на страже; никого не пропускаем, не осмотрев, кто едет... Ступай! – крикнул он кучеру.
– Постой! – крикнул Пётр. – Что значат эти предосторожности и против кого они? – спросил он у Стрижова.
– Не могу знать: мне так приказано, государь.
– А где Щегловитов?
Щегловитов бодро подскакал к карете на донском саврасом жеребце и, держа руку под козырёк (хотя на нём была шапка без козырька), объяснил царю, что велел осматривать едущих в село Преображенское для того, чтобы предупредить новые стычки стрельцов с потешными.
– Видишь, князь Василий Васильевич, что он какой-то полоумный, – сказал Пётр, когда Щегловитов отъехал от кареты. – Ну где видано, чтобы в мирное время войска останавливали проезжих на дороге? Таким распоряжением не только не предупредишь драки, а затеешь двадцать новых... А молодец собой, нечего сказать! И как он ловко держит руку у шапки!.. Это он у поляков выучился.
Согласно предсказанию князя Василия Васильевича, в Преображенском всё уладилось, и царь Пётр Алексеевич успокоился. Щегловитов остался начальником Стрелецкого приказа, обещав Петру принять самые строгие меры для искоренения в стрельцах духа буйств и непослушания. Виновных в последних драках с потешными переписали поимённо и назначили иных в ссылку в Сибирь, других – к переводу в астраханскую стражу.
Прощаясь с царём, князь Василий Васильевич сказал ему, что желал бы, по расстроенному здоровью, съездить отдохнуть в деревню; что царь Иоанн и царевна сами советуют ему полечиться и он надеется, что и царь Пётр Алексеевич не откажет ему в нескольких неделях отдыха.
– Разумеется, тебе надо отдохнуть и серьёзно заняться твоим здоровьем: ты что-то бледен, что-то расстроен; уж не лихорадку ли схватил в Крыму? С ней шутить нельзя... Если успеешь, то побывай перед отъездом у меня; вот хоть завтра; мы делаем большие манёвры в Семёновском.
На другой день, отправив семейство в подмосковное своё село Медведково и простившись на официальных аудиенциях с царём Иоанном и царевной-соправительницей, князь Василий Васильевич поехал с внуком Мишей в село Семёновское, на манёвры царя Петра Алексеевича.
Сотня с небольшим царских потешных, разделённых на два неравных числом отряда, стреляла непрерывными залпами. Один из отрядов, человек в шестьдесят пять или в семьдесят, стройно и не торопясь, шёл при барабанном бое к окружённому холму, с которого, кроме ружейных выстрелов, раздавалась пальба из двух маленьких орудий. Князь Василий Васильевич по возможности объяснял внуку задачу военных манёвров. Многие из действовавших в сражении лиц были знакомы Мише. В начальнике защищающегося на холме гарнизона он узнал князя Аникиту Ивановича Репнина. Атакующим отрядом предводительствовал князь Фёдор Юрьевич Ромодановский, которого Пётр считал таким гениальным полководцем, что прозвал его кесарем и на всяком учении, как подчинённый, рапортовал ему о состоянии войска.
Мише манёвры очень понравились. Сначала он при каждом выстреле из пушки вздрагивал; но дедушка успокоил его, заметив, что никто не падает, а если кто иногда и спотыкнётся, то не от пушки, а от торопливости и от неосторожности. Неистовые крики атакующих тоже не пугали Мишу: он рассудил, что если так делают, то, значит, нужно так делать; а если б не нужно было, то дедушка сказал бы им, чтоб они не шалили; дедушка же не говорил ничего, хотя и казался удивлённым.
И кто бы не удивился, глядя на ребячьи шалости Петра? Кто, кроме этого ребёнка, мог угадать, что его игра в солдатики даст России таких солдатиков, которые одолеют всех своих соседей и отразят соединённые против неё силы всей Европы?..
Манёвры подходили к концу. Гарнизон бегом спускался с холма, отступая группами к близлежащему лесу. Атакующие карабкались поодиночке на холм, на котором Миша в одну минуту мог насчитать до двадцати человек. Эти двадцать человек дружно подхватили одну из пушек, перенесли её на другое место и начали палить по направлению к нему, Мише. Начальник ушедшего с холма гарнизона стал очень громко кричать, и из одной группы вдруг сделалось шесть или семь маленьких: к ним, откуда ни возьмись, подскакали верховые с длинными пиками и в блестящих касках; нескольких солдат из разрозненных маленьких групп они окружили и отняли у них ружья. Другие группы добежали до леса и скрылись за деревьями, из-за которых показались дымки и раздались выстрелы. Верховые поскакали за ними, но, доехав до опушки леса и услышав бой барабана, поспешно возвратились, и кесарь с торжествующим лицом подъехал к барабанщику.
Барабанщик этот был царь Пётр Алексеевич.
Известно, что, во избежание или для прекращения распрей между своими спесивыми сослуживцами, Пётр, записавшись в службу рядовым, получал чины за отличие. Таким образом, к концу 1688 года он был уже барабанщиком, – чин, который, надо полагать, был тогда в большем почёте, чем теперь.
Пётр принял князя Василия Васильевича так же радушно, как и в предыдущие дни. Он опять обласкал Мишу и, видя сияющее от восхищения лицо его, спросил, не хочет ли и он поступить на военную службу. Миша очень обрадовался предложению царя, полагая, что на него сейчас же наденут мундир и длинные сапоги, которые ему в особенности нравились. Но царь, похвалив его за усердие, сказал, что он ещё слишком молод и что прежде надо ему кое-чему поучиться.
– Ступай в свою Сорбонну, – прибавил он, – и учись, главное, математике; там ей хорошо учат; а с математикой всем военным наукам легко научишься и будешь таким солдатом, какие мне надо. Покуда я запишу тебя рядовым в Семёновский полк... С кем он едет? – спросил Пётр у князя Василия Васильевича.
– До Тулы я везу его сам, – отвечал князь Василий Васильевич, – а там я сдам его с рук на руки родственнице жены моей, Квашниной. От Тулы с ними поедет до самого Парижа доктор Чальдини, а до границы проводит их фельдъегерь.
Пообедав у царя, князь Василий Васильевич в тот же вечер уехал в Медведково с твёрдым намерением мало-помалу удалиться от двора. Оставаться дольше при кремлёвском дворе он не мог: его свидания с царевной, свидания, тягостные для него, были бы и для неё совершенно бесполезны, даже в политическом отношении: примирив паря Петра со Щегловитовым и, следовательно, с царей ной, князь Василий Васильевич удалялся от неё, не боясь никаких с её стороны упрёков. Конечно, он не считал мира довольно искренним со стороны царевны, чтобы надеяться на прочность его; но помогать интригам ненужной отправительницы против законного государя ему, князю Василию, всю жизнь работавшему, как он сказал сам, над объединением России, не было никакой причины. Междоусобия, на которые он с сокрушённым сердцем соглашался три дня тому назад, казались ему, при новых обстоятельствах, верхом безумия.
С другой стороны, пристать к партии Петра он не хо тел, боясь общественного мнения: могли бы подумать, что он перешёл в лагерь Петра не из политического убеждения, в которое никто не верит, а в надежде на выгоды, которых уже не предоставлял ему всё более и более пустеющий лагерь царевны.
В Медведкове князь Василий Васильевич пробыл всего два дня: Серафима Ивановна Квашнина, двоюродная сестра княгини Марии Исаевны, как только узнала, что ей поручают везти Мишу за границу, прислала из-под Тулы в Медведково двух нарочных в один день с изъявлением своей готовности и просьбой доставить ей Мишу как можно скорее. «А то, – писала она, – начались осенние дожди, и мы, пожалуй, не доедем». Чальдини, домовый врач Голицыных, торопился не менее Квашниной. Князю Василию Васильевичу тоже незачем было медлить.
На станциях задержки в лошадях быть не могло, хотя они и не готовились заранее: сидевший на козлах фельдъегерь вселял начальникам станов и ямщикам такое уважение к своей особе, а князь Василий Васильевич так строго наблюдал, чтобы назначенные им на водку полтины отдавались исправно, что, несмотря ни на осенние дожди, ни на тяжесть четвероместного, немецкой работы дормеза, дормез этот пролетел сто восемьдесят пять вёрст в пятнадцать часов и подъехал к барскому дому в Квашнине в дет. именин хозяйки, 29 июля, перед обедом, около часа пополудни.
Серафима Ивановна, рассчитывавшая только на приезд Миши и Чальдини, переполошила всех своих гостей, увидев князя Василия Васильевича. Она не знала, ку да деться от радости и как благодарить князя за делаемую ей и её Квашнину честь. Она вообще очень уважала семейство Голицыных: двоюродную сестру свою, княгиню Марию Исаевну, она любила с детства (они были почти ровесницы). Мужа её, князя Алексея, Серафима Ивановна обожала, как теперешние институтки обожают своих учителей. В князя Михаила Васильевича она была отчасти влюблена, тайно, но уже лет пять мечтая, что он на ней женится; а в князе Василии Васильевиче, в первом человеке в государстве, в лучшем советнике царей и царевны, как говорила она, видела бога, с которым она, простая деревенская девушка, и говорить-то порядочно не умеет.
– И он сам пожаловал ко мне в Квашнино, – говорила она, не стесняясь присутствия съехавшихся на именины соседей, – и это он сидит с нами за столом и кушает вино за моё здоровье!.. Да как мне благодарить его за такую милость!..
– Полно благодарить, – Серафима Ивановна, – сказал князь Василий Васильевич; не тебе меня благодарить, а мне тебя: вот тебе наш Миша; невестка поручает тебе его и надеется на тебя, как на лучшего своего друга; присмотри за ним на чужой стороне. Способности у него хорошие, и, если развить их, из него выйдет человек... С Чальдини ты знакома?
– Как же, батюшка князь, очень знакома. Ты, чай, помнишь меня, Осип Осипович? – спросила она у доктора.
– Очинь помнит, – отвечал Чальдини, – и теперь поедем вместе до Парижа.
Кроме итальянского и латинского языков, Чальдини не знал порядочно никакого; французский он знал ещё хуже русского, и, кроме князя Василия Васильевича, объяснявшегося с ним на латыни, все русские знакомые Чальдини говорили с ним по-русски. Перспектива ехать три тысячи вёрст с человеком, с которым трудно объясняться, не очень улыбалась Серафиме Ивановне; но в эту минуту она заботилась совсем о другом: она недоумевала, прилично ли будет посадить Чальдини за один стол с князем Василием Васильевичем и не лучше ли поесть ему пирожка стоя.
«Ведь мой больничный Вебер ест же стоя», – думала она. Князь Василий Васильевич сделал ей знак, который она поняла:
– Ну уж так и быть, садись Осип Осипович, только там, где-нибудь подальше, – сказала она, подавая итальянцу кусок курника, – чай, у себя в Италии ты таких пирогов и во сне не едал...
Князь Василий Васильевич прожил в Квашнине неделю с лишком. Чем больше узнавал он характер будущей спутницы своего внука, тем выбор этот казался ему удивительнее. Княгиня Мария Исаевна, а за ней многие другие говорили о Серафиме Ивановне, что она, правда, имеет свои странности; что она, например, очень вспыльчива, но что злой назвать её нельзя. В доказательство, что она незлая, указывали на устроенную ею на двадцать кроватей больницу, в которой очень искусный врач-немец, получавший полтораста рублей в год жалованья, лечил не только квашнинских, но и чужих крестьян; говорили, что в бывшее недавно в окрестностях поветрие перебывало в этой больнице до ста человек и что почти все они выздоровели. Скупой, по мнению иных соседей, её тоже назвать нельзя, и это мнение, кроме известного её хлебосольства, подтверждалось тем, что когда сгорела казённая деревня, то Квашнина на всякий погорелый двор отпустила по тридцать корней из своего леса и по четверти ржи из своего запасного магазина. Но рядом с подобными подвигами высшей христианской добродетели стояли в жизни Квашниной поступки грязнейшей скаредности и необыкновенной жестокости: многочисленная дворня её постоянно кормилась пустыми щами при умеренном количестве ржаного хлеба; в воскресенье отпускалось по ложке гречневой каши на человека; в большие праздники пеклись пироги без начинки – кислые, полубелые пшеничники. В лавках Серафима Ивановна без стыда торговалась и бранилась с купцами из-за всякого гривенника; за разбитые стаканы, тарелки, чашки она взыскивала с дворни двойную стоимость разбитой вещи и, кроме того, за неосторожность била мужчин по щекам, а женщин таскала за косы.
За оброчную двухрублёвую недоимку она отняла у крестьянина последнюю корову, которую продала за восемь рублей, и остальных шести рублей недоимщику не отдала, чтоб он их не пропил. За срубленную в её лесу берёзу она продала соседу, нуждавшемуся в ратнике, единственного сына старика, укравшего её берёзу, и ни мольбы старой матери, валявшейся у неё в ногах, ни клятвенные обещания молодого парня пополнить барский убыток и заслужить вину отца, – ничто не могло умолить незлую Серафиму Ивановну. С двумя не явившимися на барщину крестьянами она расправилась так, что прямо с места расправы их перевезли в больницу. Один из пациентов, несмотря на старания и искусство лекаря, зачах и умер через три недели; другой, не ожидая так долго, к следующему утру навеки избавился от странностей своей помещицы.
Не красна была жизнь крестьян квашнинских, но дворовые от души завидовали ей.
– Крестьянина, – говорили они друг другу на ухо, – наказывают, по крайней мере, только тогда, когда он провинится или, пожалуй, когда он попадётся на глаза. А наш брат дворовый всегда на глазах, и как ты ни старайся, а от боярышниного гнева не уйдёшь: встаёшь рано, ложишься поздно, работаешь много... вчера, например, кроил портной Ванька армяк; ну, известно, работа скучная, он и вздремни, а тут, как на грех, боярышня... и начала... восемь человек перебрали... спасибо, илиинский помещик подъехал...
Читателю, может быть, любопытно узнать, каким образом случалось, что за вину одного человека наказывалось восемь. Вот каким: виноватому назначалось, положим, сто ударов (для мужчин это было минимум); получив их, он вставал, целовал ручку у барышни и уходил; иногда его подносили к ручке и уносили. Этим, кажется, и могло бы кончиться дело. Но во время наказания Серафима Ивановна заметила, что исполнитель правосудия потакал провинившемуся, то есть что он бил его не изо всех сил, а что считавший удары обсчитался на два или на три удара. Вот ещё два виноватых. За ними, следовательно, ещё четыре, и таким образом перебиралась вся дворня поголовно, если приезд какого-нибудь соседа не прекращал экзекуции, то есть не откладывал её до следующего дня.
Законодатели всех стран и всех времён полагали, что правительства, распоряжаясь и наградами и наказаниями, имеют в них два могучих рычага для приведения в действие страстей человеческих, два всесильных средства для удержания людей в повиновении законам. Казалось бы, что действительно надежда на награды и страх наказаний или, иначе, любовь человека к наслаждениям и отвращение его от физической боли должны быть основанием всякого разумного кодекса. Но Серафима Ивановна с теорией законодателей соглашалась только наполовину: для удержания людей в должном порядке она находила надежду на награды совершенно лишней и страх наказания вполне достаточным. Зато и порядок в Квашнине! Ни малейшего ропота не дойдёт до Серафимы Ивановны; лишнего слова не услышит она; взгляда неприятного не увидит от управляемого ею народа!
В таком же духе, хотя и с некоторыми особенностями, распоряжалась Серафима Ивановна с дворовыми женского пола. Вообще всякое наказание начиналось у неё розгами, как всякое гомеопатическое лечение начинается, говорят, аконитом; но так как эта общеизвестная мера исправления казалась Серафиме Ивановне слишком однообразной, то она видоизменяла её и придумывала иногда такие оригинальные, такие юмористические наказания, что соседи, слушая о них рассказы, помирали со смеху.
Прачка, например, из озорства и с целью простудить помещицу, принесла из стирки плохо высушенные рубашки. За это озорницу высекли и в одной рубашке, облив её водой, заперли на ночь в ледник. Пускай, мол, попробует на себе, каково сидеть в мокрой рубашке.
Маленькая двенадцатилетняя кружевница, из озорства и с целью ввести помещицу в убыток, разорвала нитки на коклюшках и связала их так, что узлы на кружевах были заметны. За это, после аконита, Серафима Ивановна поставила озорницу на ночь на колени, положив перед ней подушку с коклюшками, задав ей урок и привязав ей голову ниточкой к стене. «Беда твоя, если нитка оборвётся», – сказала Серафима Ивановна. Девочка часа два крепилась, плетя кружево и держа голову как только могла прямее; но от дремоты ли или от боли в коленях голова покачнулась, нитка не выдержала, и... точно, вышла беда для кружевницы.
Горничная Анисья, хорошенькая, быстроглазая, лет двадцати пяти женщина, недавно взятая с дочерью своей из деревни ко двору, из озорства и с целью осрамить помещицу, подала ей в страстную субботу к обедне чёрный сарафан, весь облитый воском. Его закапали ночью во время хождения со свечами вокруг церкви, а так как Анисья говела и за ранней обедней причащалась, то она и не успела заняться сарафаном. За это озорницу, свеженькую, то есть ещё никогда не сеченную, для первого раза Серафима Ивановна высекла собственноручно; потом велела растопить воску в кастрюльке и, немножко остудив его, вымазала им длинные косы Анисьи. Когда воск на голове окреп, Серафима Ивановна велела Анютке, девятилетней дочери Анисьи, вычистить своей матери голову, предупредив их обеих, что если через полчаса останется в волосах хоть одна вощинка, то она отдерёт Анютку ещё больнее, чем отодрала Аниську. Несчастная мать умоляла Серафиму Ивановну лучше высечь ещё раз её.
– Я, ей-Богу, думала, – говорила она, – что к обедне ты изволишь надеть синий сарафан.
– Врёшь, негодница, – отвечала Серафима Ивановна. – Бусурманка я, что ли, чтоб в такие дни цветные сарафаны носить!..
– Ради Христа, – продолжала Анисья, – хоть для такого дня пощади Анютку, ведь она не виновата; прикажи мне лучше обрить голову...
– Молчать, мерзкая! Вздумала учить меня, кто прав, кто виноват!.. Я те покажу, как глаза таращить да зубы скалить!..
Нечего было делать: Анюта принялась за работу, и как ни торопила её мать, как ни уговаривала её рвать волосы, не разбирая, где воск и где его нет, как ни уверяла, что ей совсем не больно, как ни помогала сама дочери, а к сроку работа не была окончена, и Анисья, обезображенная лысинами и побагровевшая от боли, к довершению всего должна была смотреть, как её Анюта металась под неистовыми ударами Серафимы Ивановны. С тех пор (вот уже два года) девочка не может поправиться и перестала расти.
Другая горничная Серафимы Ивановны, Сусанна... Но отвернёмся наконец от этих гнусных, от этих отвратительных картин, нужных, к сожалению, для связи нашего рассказа, и возвратимся к князю Василию Васильевичу, которого квашнинская помещица продолжает чествовать и благодарить, как в первый день его приезда. С Мишей она обращается чрезвычайно мягко: дарит ему и жестяных казачков, и чайные приборы; лакомит его изюмом, яблоками, огурцами с мёдом.
Если дедушка за какую-нибудь шалость побранит его, то она же заступится. «Не беда, – говорит, – что ребёнок резвится, что он разорвал куртку или заехал верхом во фруктовый сад и помял молодые яблони. Ребёнок должен резвиться; оттого он и растёт; но, главное, надобно, чтоб он рос в правде Божией и боялся не шалить, а лгать».
– Ты у меня, Мишенька, хоть мою бетихеровскую[10]10
Саксонец барон Бетихер изобрёл фарфор в 1676 году.
[Закрыть] чашку разбей, только приди и признайся сам: я, мол, тётя, разбил твою любимую чашку, и я ничего не скажу, даже не побраню...
Об экзекуциях и оригинальных наказаниях с приезда князя Василия Васильевича не было и речи. Только раз, входя с Серафимой Ивановной в столовую, он увидел буфетчика, стоящего в углу в дурацком колпаке, наскоро сделанном из сахарной бумаги.
– Вот, батюшка князь, – сказала Серафима Ивановна, – этот балбес, из озорства и с целью поднять помещицу при твоей княжеской милости на смех, подал давеча невычищенный самовар. Строгих наказаний в Квашнине нет и в заводе, а совсем не взыскивать с этих озорников нельзя: на голову сядут.
Князь Василий Васильевич, может быть, и посмеялся бы над странным видом дюжего, тридцатилетнего, в сажень шириной озорника, наказанного, как осьмилетний мальчик, если б из рассказов Чальдини он не знал, что в Квашнине есть в заводе и другие, менее патриархальные, наказания.
Нескромных речей своей прислуги Серафима Ивановна не опасалась; к соседям князь Василий Васильевич не ездил, а в Квашнине виделся с ними не иначе как в присутствии хозяйки; следовательно, – думала она, – и соседи не проболтаются; итальянец не понимает ни бельмеса, и в этом отношении Серафима Ивановна была так же спокойна, как и в других.
Ей и в голову не приходило, что по-латыни можно говорить о чём-нибудь, кроме рецептов; не то она на время услала бы куда-нибудь больничного врача Вебера, который с первых дней знакомства своего с Чальдини очень сошёлся с ним, часто беседовал и кончил тем, что яркими и верными чертами описал ему характер и обычаи квашнинской помещицы. «Не худо бы, – прибавил он в заключение своего рассказа, – чтобы князь узнал, что здесь делается: не может быть, чтоб он не заступился за этих несчастных».
Узнав подробности о житье-бытье крепостных Серафимы Ивановны, князь Василий Васильевич с трудом мог скрыть перед ней глубокое чувство омерзения, внушаемое ему этой красивой, двадцатичетырёхлетней и уже дотла развращённой девушкой. Он тут же, сгоряча; написал княгине Марии Исаевне, что как ни дружна она с подругой своего детства, однако ж и думать нельзя поручить ей её сына.
Но как отправить письмо это? С нарочным? Серафима Ивановна непременно его перехватит. С фельдъегерем, как государственную депешу? Серафима Ивановна удивится, что, числясь в отпуску и не получая в Квашнине никаких бумаг, князь Василий Васильевич посылает в Москву государственные депеши. Кроме того, он боялся, что княгиня Мария Исаевна, по дружбе с кузиной, сообщит ей его письмо прежде, чем он успеет принять меры для ограждения Вебера и квашнинской дворни.
Чальдини советовал ему прямо объявить Серафиме Ивановне, что такой фурии он не поручит не только своего внука, но и дворовой собаки; а если князь стесняется сам передать ей это, то пусть прикажет ему, Чальдини, и он хотя и не знает ни по-русски, ни по-французски, однако ж с удовольствием исполнит его приказание:
– Деликатничать я с ней не буду; она этого не стоит. А что она меня поймёт, – за это я ручаюсь.
– Недели две тому назад, – отвечал князь Василий Васильевич, – я бы показал, как я с ней деликатничаю: я бы отдал её под опеку и запретил бы ей въезд в Квашнино. А теперь надо ждать и притворяться, что мы ничего не знаем о её проделках. Завтра едем в Медведково; я скажу, что обещал быть у князя Репнина двенадцатого числа на именинах и у молодого царя на манёврах; что Миша поедет с нами, чтобы ещё раз проститься с отцом и матерью и что через несколько дней ты привезёшь его назад, совсем снаряженного в дальнюю дорогу.
– Ну, это нашей хозяйке не очень понравится, – сказал Чальдини, – она и то всякий день твердит Веберу, что всё готово в дорогу и что она боится, как бы опять не начались осенние дожди.
За обедом, только что князь Василий Васильевич начал говорить о своём намерении на другой день уехать и прежде чем он успел прибавить, что берёт внука с собой, – он был прерван одним запоздалым гостем, стремительно влетевшим в столовую. Этот запоздалый гость из Серпухова привёз с собой множество самых свежих и самых верных новостей, которыми поделился по секрету со всеми обедавшими. Говорили, во-первых, что в день именин схимонахини Анфисы, на пути от Вознесенского монастыря в село Преображенское, несколько стрельцов напали на царя Петра с тем, чтобы взять его в полон, и что если бы не преображенцы, подоспевшие ему на выручку, то его отрешили бы от царства; что стычка была жаркая; что царь ранен и пять стрельцов убиты; что царь защищался, как лев, и своей рудой положил двух стрелецких офицеров на месте; что молодая беременная царица Евдокия Феодоровна, ехавшая с царём, перепугалась и слегла; что царица-мать тоже при смерти... Ещё говорили, что в праздник Преображения стрельцы подали царевне Софии Алексеевне челобитную о принятии царства и титула самодержицы; и на следующий день она собрала в Кремле все стрелецкие полки и ходила с ними на богомолье в Донской монастырь; оттуда вся процессия с иконами и патриархом отправилась в Преображенское с тем, чтобы захватить Петра; но что он ускакал в Троицкую лавру с преданными ему немцами; лавра укрепляется на случай осады; что число ратных людей на защиту Петра увеличивается не по дням, а по часам; что у него уже около ста тысяч войска и что даже большая часть стрелецких полков перешла на его сторону; что Щегловитов скрывается; что царь Иоанн велел отыскать его и отправить к Петру скованным; что царевна делает новые попытки к примирению, но что Пётр непреклонен и хочет идти войной на Кремль.