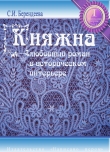Текст книги "Царский изгнанник (Князья Голицыны)"
Автор книги: Сергей Голицын
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 27 страниц)
«Что может означать, – думала она, – что князь Василий Васильевич пишет обо мне письма, которые банкиры читают между строчками? Нет, должно быть, Виланд соврал: все эти фразы в письме князя для того только, чтобы слог не казался слишком сухим, слишком коммерческим. Если б князь не доверял мне, то не отпустил бы со мной Миши. Это очевидно... уж не шутка ли это опять князя Алексея Васильевича? А туда же, когда-то влюблённым прикидывался! Да нет, его в Квашнине не было, а кредитив в Квашнине 9 августа написан... Всё-таки же что-то не чисто, не знаешь, что и думать... Напишу Машерке, она всё разузнает...»
От Ольмюца до Вены (двадцать семь миль) ехали почти без остановки; остановились только один раз – в плохой деревушке Штокерау, в десяти милях от Вены. Остановились в ней 31 августа в одиннадцать часов вечера, для того чтобы встретить новый, 1689 год. У Серафимы Ивановны было убеждение, что новый год надо непременно встретить за ужином и за бокалом вина для того, чтобы весь год жилось спокойно и весело.
После ужина отправились дальше, ехали всю ночь, и в девять часов утра, 1 (11) сентября[61]61
В XVII столетии разница между старым и новым стилями была в 10 дней.
[Закрыть], в то самое время как в Москве князь Василий Васильевич подъезжал к Красному крыльцу дворца царевны Софии, дормез его, по указанию его внука, остановился перед крыльцом лучшей венской гостиницы «Город Лондон».
В Вене Чальдини получил несколько писем, в числе коих два от доктора Фишера, лечившего князя Василия Васильевича в Медведкове. Первым из этих писем Фишер уведомлял своего товарища, что его пациент, пролежав семьдесят пять часов без чувств, только что пришёл в память, а вторым от 20 (30) августа, что с больным был кризис, после которого он, Фишер, может надеяться, но ручаться ещё не смеет, что с помощью знаменитых чальдиновских порошков он скоро поднимет больного на ноги.
Из Флоренции писали Чальдини, что дело, по которому требовалось его присутствие к концу сентября, отсрочено до ноября и что если он желает прокатиться по Германии и даже по Франции, то успеет накататься вволю.
О болезни князя Василия Васильевича Чальдини не сообщил ни Мише, ни Серафиме Ивановне; первому – чтобы не огорчить его, а второй – чтобы она, как-нибудь сгоряча, не проболталась Мише. Сам же он был почти уверен в благополучном исходе болезни князя Василия Васильевича, которого, – как уже сказано было, – в продолжение пятнадцати лет быть ежегодно повещало воспаление в боку.
На другой день приезда в Вену Серафима Ивановна отправилась вместе с племянником к банкиру, от которого получила сто суверенов (около шестисот рублей). Мише давно уже нечем было поощрять свою ученицу. Он подождал до вечера, надеясь, что тётка вспомнит о долге, и обещая себе, что если до семи часов она не вспомнит, то в семь часов он как-нибудь намекнёт ей. Но прошло и семь, и восемь, и десять часов. Сели ужинать, а Миша всё молчал и краснел, придумывая, какой бы ему сделать намёк поделикатнее. Наконец он придумал:
– А знаешь ли, тётя, – сказал он, – Анисья давеча не так хорошо свой урок знала, как прежде.
– Я тебе всегда говорила, – отвечала Серафима Ивановна, – охота тебе с дурой возиться! Дурой была, дурой и останется. Плюнь на эти пустяки, братец. Право, скучно слушать, как она, словно попугай какой, по сто раз сряду твердит одно и то же, ну, поучил немножко, и довольно. Займись теперь чем-нибудь другим.
– Нет, тётя, уж ты позволила... я совсем не то говорю... я не говорю, что она дура... у неё, напротив, память очень хорошая. Но... знаешь ли, кабы я купил конфет или хоть орехов, то она училась бы ещё лучше. Дедушка и папа всегда давали мне что-нибудь, когда я хорошо знал урок: или игрушку, или лакомство какое...
То ты, а то Аниська. Ты не должен забывать этого, Миша, а коль она забудет, так я ей, дуре, напомню...
– Нет, тётя, пожалуйста...
– Учить её я тебе не запрещаю; ну и учи её, сколько хочешь, а пичкать её конфетами всё-таки же незачем. Нет у меня бешеных денег для Аниськи!
Миша с унылым лицом сообщил Чальдини, в каком он находится ужасном положении. Чальдини опять предложил ему несколько гульденов; но, видя смущение ребёнка, серьёзно боявшегося разорить доброго и обязательного доктора, любуясь этим милым смущением и не желая притуплять это чувство преувеличенной деликатности, Чальдини не настаивал на своём предложении.
– Это, разумеется, очень хорошо, – сказал он Мише, – что вы с детства привыкаете бояться долгов, хотя я уже говорил вам, вы бы меня нимало не стеснили, взяв у меня что вам нужно; но чего ж вы так огорчаетесь? Я уверен, что дорогая тётка завтра же отдаст вам ваши золотые.
– Хоть бы десять гульденов дала, – ответил Миша, – мне покуда и того довольно.
На следующий день перед завтраком Чальдини попросил у Серафимы Ивановны позволения взять с собой Мишу в кондитерскую.
– Да ведь Миша собирается учить Анисью, – отвечала Серафима Ивановна.
– Да, – прибавил Миша, очень покраснев, – я лучше останусь дома…
– Не учить I’Anissia, – возразил Чальдини Серафиме Ивановне, – а у Миши нет деньги для цукерни. Вчера я предлагал ему занять у меня и говорил, что напишу дедушке, который с первой же почтой вышлет денег на его маленькие расходы, но он и слышать не хочет: боится стеснить меня.
– Что он говорит? – спросила тётка.
Миша, краснея всё больше и больше, перевёл тётке предложение доктора.
– Что тебе одолжаться им? – сказала Серафима Ивановна. – И без него обойдёмся, ты бы мне лучше сказал, ведь у меня есть твои деньги; я у тебя, кажется, семь золотых взяла?
– Нет, тётя, всего шесть, и из них один, Людовик XI, был твой.
– Ну это всё равно, вот твои золотые. Видишь ли, вместо шести больших я тебе пятнадцать суверенов даю: нечего из-за таких пустяков дедушку беспокоить. Вот тебе...
Серафима Ивановна отсчитала пятнадцать суверенов и дала их Мише.
– Можешь идти погулять с доктором, – прибавила она.
Подобные превращения Серафимы Ивановны всё больше и больше убеждали Мишу в том, какое магическое влияние его дедушка имел на неё, даже заочно. Он иногда и употребил бы это влияние во зло, как некогда употребил во зло ограничение над ним власти матери, но Серафима Ивановна не давала ему ни малейшего повода постращать её дедушкой: чего бы ни пожелал Миша, всё исполнялось беспрекословно – прочтёт ли он проездом через какой-нибудь город афишку о концерте или о представлении фокусника, тётка, видя его желание, предлагает ему сходить на это представление с Чальдини, а иногда и сама пойдёт с ним; начнёт ли Миша, по возвращении от фокусника, повторять его фокусы тётке, она с большим вниманием смотрит на них, очень ими удивляется и хвалит племянника за необычайную ловкость.
Чем больше наши путешественники подвигались на Запад, тем погода становилась теплее. Солнце, как будто желая вознаградить землю за ежедневно сокращающиеся свои посещения, сияло всё ярче и ярче. От Мюнхена до швейцарской границы Серафима Ивановна, по совету Чальдини, поехала на долгих, подрядив на обоюдно выгодных условиях обратного из Роршаха кучера с четвёркой лошадей. Кучер взял с неё меньше половины обыкновенных прогонов с обязательством, кроме того, платить всякий вечер за ночлег и ужин своих четырёх пассажиров. Миша заявил желание ехать на козлах, как фельдъегерь, и для большего сходства с фельдъегерем купил себе маленький рожок. Серафима Ивановна не только не отказала ему в этом, но даже в довершение сходства с фельдъегерем подарила ему жёлтую шапочку с козырьком и кантиком и маленький доломан, больше, впрочем, похожий на гусарскую, чем на фельдъегерскую куртку.
Сначала дудеть в свой рожок было для Миши большое удовольствие, но оно вскоре ему надоело; к тому же Чальдини заметил ему, что держать медь во рту вредно, да и трубить слишком часто совсем не нужно; что настоящие фельдъегеря, как, например, Григорьич, трубят только по ночам, при встрече с не скоро сторонящимися обозами. Теперь же они едут только днём, и обозы, безо всяких сигналов, разъезжаются при одном виде их огромного дормеза. Миша нашёл себе другую забаву. Он уже давно заметил, что около дормеза бегают оборванные мальчишки, иные, – самые маленькие, – на ногах, другие, побольше, на руках, вертясь и не отставая от колёс. Миша спросил у швейцарца-кучера, зачем они это делают.
– Так шалят, – отвечал кучер, – думают, им кинут милостыню из кареты; у нас в Швейцарии это строго запрещено: всякий мальчик должен с детства приучаться к работе.
– Я им кину монетку, можно? – спросил Миша у кучера, вынув флорин из своего кошелька и бросая его в толпу мальчиков.
Кучер хотел, но не успел остановить руку Миши; серебряная монета упала на землю; один мальчик проворно подхватил её, и между всеми завязалась драка.
– Что это вы делаете, милый молодой барин, таких крупных монет не подают таким бродягам. Вот посмотрите, какая польза от вашей милостыни: у одного уже всё лицо в крови...
На стоянке швейцарец, умевший говорить немножко по-итальянски, рассказал Чальдини, что случилось, и посоветовал отнять у Миши кошелёк. Чальдини, заметивший, что на Мишу доброе слово действует вернее, чем бестолковое самоуправство, доказал ему математически, что если он будет бросать всякому мальчику по флорину, то у него не хватит денег и на один день; а что подать одному мальчику и не подать другим, вертящимся так же ловко и гак же усердно, как и тот, – очень несправедливо. Миша понял это. Чальдини разменял несколько флоринов на посеребрённую, новую, очень красивую, но очень мелкого достоинства мелочь и взял с Миши обещание, что он на всякой миле будет бросать мальчишкам не больше десяти монеток.
Серафима Ивановна, попросив, по обыкновению, перевести себе разговор Чальдини с Мишей, с большой готовностью согласилась на их сделку и тут же принялась подшивать кармашек под доломан Миши для откладывания в него монеток от станции до станции.
– Я не стану отсоветовать тебя делать добрые дела, Мишенька, – сказала она, – видишь ли, я даже сама подшиваю себе кармашек. Я знаю, что и дедушка твой любит подавать милостыню; да и Священное писание велит; но ведь на всех тунеядцев не напасёшься денег: иной попрошайничает, а сам богаче нас с тобой; другой прикинется слепым или хромым, возьмёт твою милостыню да и бежит с ней в кабак; третий шляется от лени, думает: «Авось найду дурака, который подаст мне...» Так что ж им подавать? Что за охота в дураках быть?.. Оно, конечно, подавать милостыню похвально, и в Священном писании сказано: «Милуяй нища, взаим даёт Богови», но...
Если сделать краткое извлечение из длинной речи Серафимы Ивановны, то выйдет: милостыню подавать хорошо, сам Бог велел подавать милостыню, но всё же лучше не подавать её.
Подобные рассуждения встречались часто между умниками XVII столетия; не знаем наверное, реже ли они встречаются теперь. Филантропы-христиане нашего благочестивого столетия если б могли, то строили и учреждали школы, больницы и всевозможные богоугодные заведения; но нищим они подавать не намерены; не намерены они поощрять пьянство, праздность и разврат; они всегда готовы помочь истинно нуждающемуся человеку; но они не знают, точно ли голоден человек, протягивающий руку за куском хлеба; они боятся, как бы Бог строго не взыскал с них на Страшном Суде за то, что они бросили какой-нибудь гривенник недостойному; они не верят истинной бедности, потому что бедность бывает иногда притворная.
К сожалению, нельзя не согласиться, что между нищими, как и между богомольцами, нередко попадаются ханжи. Как у тех, так и у других цель одна и та же: выманить всё, что возможно от доверчивости добрых людей и от тщеславия гордых. Но ведь существование ханжей не мешает нам верить, что бывают и истинно благочестивые люди; нам часто попадались фальшивые ассигнации, заключили ль мы из этого, чтобы все ассигнации были фальшивые? Да и время ли правой руке, дающей подаяние так, чтоб о нём не знала левая, – время ли ей производить следствие, куда и на что истратится это подаяние? Не легче ли ей утешиться мыслью, что если из десяти брошенных ею гривенников девять пойдут в кабак, то десятый, может быть, послужит на покупку хлеба для голодающего семейства или хоть на несколько щепок для отогревания окоченевшего от стужи ребёнка?
Кувыркание мальчиков и бросание им посеребрённых трёхкрейцерных монеток долго потешали Мишу; на первой же миле после заключённого с Чальдини условия отложенных в кармашек монеток не хватило, а подъезжая к станции, где назначен был обед, Миша заметил, что разбросал уже больше половины наменянной Чальдини мелочи. Он посоветовался с Анисьей и, по секрету, попросил её сходить в лавочку и наменять там ещё новеньких монеток. Анисья колебалась, но Миша обещал её ни в каком случае не выдавать, и она принесла ему мелочи на полсуверена (5 флоринов).
«Что-то скажет Чальдини, узнав, что я не сдержал обещания! – думал Миша. – А как было сдержать его? Ведь сам он говорил, что несправедливо подать одному и отказать другому, когда этот другой так же ловко кувыркается, как и тот...»
Успокоенный этим рассуждением, Миша продолжал горстями бросать свои монетки и разменивать суверены один за другим.
Милях в пяти или шести от швейцарской границы, в маленьком городке Брегенце, остановились обедать; у Миши оставалось всего с небольшим четыре суверена; таким образом, меньше чем в три дня своего фельдъегерства он истратил сто с лишним флоринов.
«Что мне делать! – думал Миша. – Тётка узнает и так раскричится, что беда, да и Чальдини за меня теперь не заступится, скажет, я обманул его, не захочет понять, что мне нельзя было сделать иначе. С Анисьей разве посоветоваться... ещё ей, пожалуй, достанется...»
Так рассуждал Миша, уныло расхаживая взад и вперёд перед закрытыми окнами постоялого двора, в котором в это время Серафима Ивановна одевалась перед обедом. Совершенно неожиданный случай вывел Мишу из неприятного положения.
Дойдя до края постоялого двора и повернувшись назад, он увидел перед собой высокого, лет тринадцати, мальчика, усердно вертящегося колесом. Миша узнал в нём одного из шалунов, бежавших за дормезом до самого въезда его в Брегенц, и полез в свой кармашек за монеткой. Кармашек оказался пустым.
– Хочешь? – спросил у него мальчик с южноавстрийским выговором, то есть очень плохим немецким языком. – Хочешь, я выучу тебя кувыркаться колесом?
Миша, может быть в надежде рассеять своё горе, согласился на предложение мальчика.
Урок начался. Первый опыт оказался не совсем удачным. Миша опёрся руками о землю, мальчик за ноги перекувырнул его, но так неловко, что тот упал и, наверное, ушибся бы, если б мальчик, проворно под него поднырнув, не ослабил своим телом удара падения.
– Ты бы снял перчатки и башмаки, – сказал мальчик, – а то так неловко...
Миша согласился, и урок продолжался без перчаток и без башмаков.
Второй дебют был удачнее: Миша перекувырнулся не совсем прямо, как учитель, а немножко набок, но по крайней мере не упал.
– Куртка тоже мешает, – сказал мальчик, – что тебе в ней? Ведь тепло.
Миша снял и куртку и перекувырнулся ещё раз, и ещё удачнее.
– Однако ж знаешь ли? – продолжал мальчик. – Ведь уроки даром не даются: что ты мне заплатишь?
– А что ты возьмёшь с меня?
– Да вот, видишь ли: у нас на дворе скрипач живёт, так он берёт за урок по сорока крейцеров. Но то скрипка. Что в ней мудрёного? Подпёр ею подбородок и заскрипел смычком по струнам. Мои уроки немудрёнее... но изволь, для тебя я, так и быть, по флорину возьму.
Миша согласился.
«Всё равно, – подумал он, – один лишний флорин не поправит моего дела».
– Да не снять ли тебе и панталоны! – сказал мальчик. – Ещё легче будет тебе...
– Как можно снять панталоны! – отвечал Миша. – Стыдно!..
– Что за стыд? Ведь ты не девочка.
– Нет, всё равно, давай так учиться.
– Ну давай хоть так... Да что это ты всё по одному разу вертишься? Надо по нескольку раз сряду... Вот так, не останавливаясь и не отдыхая.
И, откатившись шагов на десять от Миши, мальчик, не останавливаясь ни на минуту, быстро перевернулся и прикатился на старое место.
Мише захотелось сделать то же самое, но на втором колесе нога у него подвернулась, и он ударился затылком о землю, к счастию довольно мягкую.
– Это ничего, – сказал учитель, – без этого не выучишься, спроси, сколько раз я падал... Ну давай ещё раз.
– Нет, довольно, – сказал Миша, почёсывая затылок, – я устал.
– Ну а за урок ты мне заплатишь?
Миша вынул из кармана свой шёлковый кошелёк: с одной стороны лежали золотые суверены, с другой несколько флоринов. Он вынул флорин и подал его мальчику.
– Эх! Сколько у тебя денег! – вскрикнул мальчишка и, проворно выхватив кошелёк, побежал во всю прыть и в одну минуту скрылся за углом постоялого двора. На пути он успел захватить и куртку, и башмаки, и перчатки, и даже фельдъегерскую шапку, свалившуюся с головы Миши во время уроков.
Чальдини, в это время возвращавшийся домой – обедать, не сразу узнал Мишу, стоявшего в каком-то оцепенении на том самом месте, где он расплачивался со своим учителем.
– Что с вами, рrincipello? – спросил удивлённый доктор. – Что это за костюм? Без курточки, без шапки, без башмаков даже... вы простудитесь...
Миша рассказал Чальдини, как уличный мальчик обокрал его, давая ему урок кувыркания. По мере того как он рассказывал, а Чальдини молча слушал его, Миша успокаивался мыслию, что теперь доктору уже не за что особенно на него сердиться, что всё равно мальчишка украл бы все пятнадцать суверенов и что, следовательно, о растрате первых десяти и о не сдержании своего обещания говорить уже не нужно.
– Вы ещё очень счастливо отделались, – холодно сказал Чальдини, выслушав рассказ Миши, – вы могли бы вдребезги разбить себе голову, мальчишки могли бы избить вас до полусмерти и раздеть донага. Что бы тогда сказала тётка ваша?
– Пожалуйста, успокойте её как-нибудь...
– То-то. А хорошо не держать своего слова? Вы думаете, я не знаю, что вы бросали не по десяти монеток, что в Линдау Анисья наменяла для вас мелочи? Вот и теперь вместо того чтобы признаться, вместо того чтобы мне всё рассказать, вы рады, что, по милости обокравшего вас мальчика, я не узнаю о несоблюдении вами условия. Правда ли это?
– Правда, – шёпотом отвечал Миша и кинулся на шею к Чальдини.
– Ну хорошо, – сказал Чальдини, неся Мишу домой, – тётку я успокою, но вот на каком условии: из Роршаха мы будем писать в Москву, и вы должны описать всю эту историю с мальчиками и с монетками вашему отцу или дедушке. Согласны вы на это?
– Согласен... Всю историю с мальчиком опишу подробно, а нельзя ли не писать о монетках? Мне очень стыдно!
– Нет, никак нельзя, – отвечал Чальдини, – обо всём напишите: пусть будет это для вас и наказанием, и уроком на будущее.
За обедом Чальдини был в таком весёлом расположении духа, он так смеялся, расспрашивая Мишу о подробностях уроков кувыркания, что Серафима Ивановна сочла бы неделикатным сердиться за историю, в которой почтеннейший доктор видит одну только комическую сторону.
«Кто их знает, – думала она по уходе Чальдини с Мишей, – может быть, вся эта история нарочно устроена итальянцем; может быть, даже она у него в инструкции написана; а то чего бы ему зубы скалить?..»
– А ты всё-таки страшная рохля, скажу я тебе, Аниська; нет, чтоб присмотреть за молодым князем, тебе бы только его изюм да пряники есть, а небось не заступилась, когда мальчишки грабили его.
– Да ведь я, боярышня, в это время тебя одевала.
– Могла бы и меня одеть, и за ним присмотреть, кажется, не много у тебя работы. Только и знаешь, что твердишь свои глупые диалоги. Ведь видишь, что молодому князю не до тебя, что он кувырканием занялся, ну и отстала бы, бросила бы эти вздо...
Последние лучи утопающего в Боденском озере солнца ярко отражались на цепи громадных, вечно снеговых гор, всё выше и выше выдвигающихся на горизонте. Олени и серны весело прыгали по утёсам, не доступным охотнику. Птицы единогласным громким хором прощались с гаснущим светилом, рассаживаясь по ветвям допотопных дубов. Орёл, попарив в нерешительности, взмахнул крыльями и полетел на ночлег. Дормез медленно подъезжал к Роршаху. Кучер, сидя рядом с Мишей, вслух любовался величественной панорамой, открывшейся перед их глазами.
– Может ли быть у кого-нибудь в мире отечество лучше моего? – с гордостию спросил он у Миши, показывая рукой на снеговые вершины, слившиеся с розовыми облаками. – Что, у вас в России есть горы?
– Нет, в России таких гор нет, – отвечал Миша, – а вот Карпаты в Моравии я видел, так те не так хороши, как эти.
– Где им! – сказал кучер.
Не радостно было на сердце у Миши при въезде в Швейцарию. Мысль, что он был одурачен и обокраден уличным мальчиком, ещё не очень огорчала его, но перспектива писать об этом отцу или деду так его тревожила, что он не раз собирался попросить Чальдини, чтобы он уж лучше всё рассказал тётке, лишь бы не требовал от него такого унижения.
Невдалеке от гостиницы, где назначен был ночлег, Миша увидал высокого мальчика в новой синей блузе и фуражке, в которой, несмотря на отпоротые галуны и кантики, он узнал свой фельдъегерский картуз.
– Видите этого мальчика? Вон, опёрся на забор? – сказал Миша кучеру.
– Вот этого-то? – отвечал кучер. – Как же, вижу: это Беэр, сын брегенцского каменщика. Ишь, как он принарядился! Видно, клад нашёл!.. Вот такому мальчику подать милостыню не грех: хоть и молод ещё, а ни крейцера не пролакомит, что ни добудет, всё домой несёт. Братьев и сестёр у него много, и все маленькие, голодные да не одеты и не обуты... Квартирка плохонькая: отец всё лето прохворал... Когда поравняемся с ним, то бросьте ему что-нибудь, да осторожнее, смотрите, чтоб кто не увидел, здесь это не велено... Что ж вы? Иль у вас все монетки вышли?
Когда дормез поравнялся с мальчиком, Миша вытаращенными глазами окончательно узнал не только свой картуз, но и лицо своего брегенцского учителя. Он хотел было крикнуть ему, но мальчик таинственно прижал руку ко рту, как будто прося Мишу о молчании, потом он громким поцелуем отнял руку ото рта, снял фуражку, низко поклонился Мише, сделал ему ещё раз ручкой и, нагнувшись до земли, колесом покатился к тирольской границе.
– Вот вы хвалите этого озорника, – сказал Миша кучеру, – а знаете ли вы, кто он такой? Это он давеча обокрал меня.
– Не может быть, – отвечал кучер, – вам так показалось. Я был у Беэра, и мне сказали, что Ганс здесь, в Роршахе.
– То-то, должно быть, по дороге в Роршах он и дал мне урок.
– Да нет же, уверяю вас, что вы ошибаетесь: все мальчишки, больше или меньше, похожи друг на друга... Я лет пять знаю семейство Беэров, и никогда ничего подобного...
По приезде в гостиницу Миша собирался, посоветовавшись с Чальдини, проверить своё подозрение, уже достаточно, казалось бы, проверенное прощальными поклонами Ганса Беэра, но главная забота его в это время была не Ганс Беэр. К тому же Чальдини, сейчас после ужина, достал свой дорожный портфель с письменными принадлежностями и, пригласив Мишу сесть за импровизированный письменный стол, положил перед ним большой лист бумаги.
– Ещё и семи часов нет, – сказал он ему, – написать успеете, а завтра почта отправляется рано, говорят, здесь не то что в Римской империи, пишите же.
Несчастный с такой грустию принялся за свою работу, что Чальдини не мог без сожаления смотреть на него, однако ж он дал ему дописать всё письмо до конца, попросил перевести его себе, напомнил иные, забытые Мишей подробности, и Миша начал переписывать своё исправленное и пополненное сочинение начисто.
– Ты это давешнюю свою историю описываешь дедушке? – спросила Серафима Ивановна Мишу из другой комнаты. – Это хорошо: дедушка посмеётся... Пойди-ка ко мне на минутку, Мишенька.
Миша пошёл к тётке.
– Поклонись от меня дедушке, Миша, да напиши ему: вот меня давеча, по оплошности доктора... нет, бишь, Анисьи обокрали, а тётя поправила, мол, всё дело: пять двойных новеньких луидоров и в новеньком, мол, кошельке подарила мне, нарочно, мол, из Вены везла, чтоб отдать мне их на границе Франции, но отдала теперь, потому что такому большому и такому рассудительному мальчику нельзя же быть без денег.
Миша возвратился дописывать своё письмо. Дописав его, он громко вздохнул и подал его Чальдини для вложения в конверт.
– А что вам сказала тётка? – спросил у него доктор.
– Тётя, – холодно, дуясь, отвечал Миша, – сказала мне такие вещи, от которых я был бы счастливейшим человеком в мире, если б не это письмо.
Миша показал доктору свой новый кошелёк.
– Обещаете ли вы мне, – сказал Чальдини, – отвечать всю правду на то, что я спрошу у вас?
– Извольте, обещаю.
– Вы теперь любите вашу тётку больше, чем меня?
– Гораздо больше, – отвечал Миша.
– Вы меня ненавидите?.. Говорите правду...
– Ненавижу!..
– Хорошо! Вот ваше письмо, напишите другое, хоть коротенькое.
Надорвав письмо Миши, Чальдини положил его перед ним.
– Я не хочу, чтоб вы меня ненавидели, – прибавил он, – я хочу, чтоб вы знали и понимали, что я вас очень люблю.
Миша изорвал своё надорванное письмо в клочки.
– Доктор, – сказал он, – никогда не забуду...
Подробно, слишком подробно, описали мы детство Миши. Но да не сетует на нас за это читатель: большая часть приведённых нами подробностей полезна для уразумения характера князя Михаила. Жизнь, казалось, с детства улыбалась ему: внук первого сановника государства, сын любимца царей, сам лично обласканный царём Петром, чего не мог ожидать он от будущего? На какую блистательную карьеру имел он право рассчитывать! Одарённый от природы самыми счастливыми качествами, имея чувствительное сердце, восприимчивую память и неутомимую жажду познаний, десятилетний Миша был, можно сказать, мальчиком необыкновенным... Чем-то суждено ему быть в будущем? Осуществит ли он свои мечты и надежды своего семейства? Зароются ли таланты в землю?.. Как часто встречаем мы миленьких и умненьких детей, из которых время, воспитание и обстоятельства вырабатывают людей самых дюжинных!
Но не будем забегать вперёд рассказа, чтобы не лишить его последнего интереса, а возвратимся к Мише, и возвратимся к нему с тем, чтобы более не отвлекаться.
Миша выехал из Роршаха в самом весёлом расположении духа. Тот же самый кучер взялся доставить своих пассажиров до границы Франции.
По Швейцарии путешествие совершилось без особенно замечательных происшествий: те же громкие восторги кучера от гор, те же ночлеги с теми же ужинами, те же, по вечерам, уроки Анисьи, которая, – с удивлением заметил Миша, – сделала большие успехи во французском языке с тех пор, как, по выражению Серафимы Ивановны, он занялся кувырканием. При въезде во Францию Анисья объяснялась довольно свободно, чтобы не только спросить какой-нибудь товар, но даже и поторговаться в лавочке.
В Дижоне Чальдини простился с Серафимой Ивановной – ему была дорога на Марсель. Грустно было Мише прощаться с добрым доктором, который обещал приехать в Париж только недель через шесть. Он взял с Миши слово подробно и аккуратно писать ему по два раза в неделю, а Миша в свою очередь хотел, чтобы Чальдини дал ему слово быть в Париже не недель через шесть, а ровно непременно через шесть недель.
– Вот нынче по-здешнему тридцатое сентября, – сказал он доктору, – я уже сделал себе на эти шесть недель календарик и буду всякий вечер вычёркивать на нём истекший день. Обещайте мне, пожалуйста, быть наверное к одиннадцатому ноября.
– На таком расстоянии мне трудно наверное определить день моего приезда, – отвечал Чальдини, улыбаясь, – переделайте ваш календарик, сделайте его на восемь недель, то есть по двадцать пятое ноября или даже по первое декабря, и я почти могу ручаться, что к первому декабря буду в Париже.
Миша долго тосковал, вычёркивая дни на календарике и считая часы до приезда своего в Париж, где надеялся найти письмо от Чальдини. Наконец вечером 4 октября, после сорокапятидневного путешествия, дормез въехал в столицу Франции и по приказанию, лично данному Серафимой Ивановной ямщику, остановился в самой скромной гостинице, на набережной Людовика XIII.