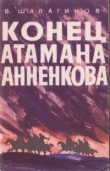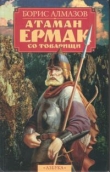Текст книги "Атаман"
Автор книги: Сергей Мильшин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц)
Григорий Желтоухий заскочил на трибуну, сбитую из свежих досок и, одернув гимнастерку, поднял руку. Казаки продолжали переговариваться. Перекрывая шум, Атаман заговорил:
– Казаки, сегодня у нас два вопроса.
Шум немного затих, но полностью не прекратился. Атаман сделал короткую паузу и продолжил:
– Из Екатеринодара прислали бумагу, – он поднял листок с черной гербовой печатью над собой, – предлагают Обществу купить кинжалы. Эти кинжалы специально для казаков аж в самой Бельгии делали. Вот тут прописано: «Производитель Таннер».
– Почём продают? – поинтересовался кто – то из толпы.
Атаман снова заглянул в листок.
– По 15 копеек.
Мужики тихо переговаривались. У самого края толпы высокий старик Африкан Митрич извлек из ножен старинный кинжал с потертой костяной ручкой.
– А зачем мне ваш заграничный кинжал, – густой голос, казалось, без труда заглушил шум на площади, – у меня и старый еще лет сто прослужит. Проверенный.
Толпа загомонила.
На помост, кряхтя и поругиваясь на собственные болячки, забрался начальник штаба дед Макоша. Насколько смог, выпрямился и хриплым голосом негромко обратился к станичникам:
– Казаки! – И обвел постепенно замолкающий круг строгим взглядом. Дождавшись тишины, продолжил. – я эти кинжалы знаю, такой сам в молодости носил, да потерял, когда наших станичников отбивать ходили во время соляного базара.
Казаки заусмехались – помнили. Кто сам участвовал, но большинство по рассказам старых казаков.
– Не знаю, где они у них лежали, но если товар непорченый, то кинжалы добрые. Да вы и сами поди знаете – тановские у многих есть. Это те же самые. По 15 копеек купать можно, если нужон, скажем, сына там собрать или еще куда. Если не надо, то и не берите. У нас Обчество свободное, никому ничего не должны, а царские льготы-послабления мы своей кровушкой отрабатываем. Так, казаки?
– Так, – подхватила площадь.
Атаман, призывая к порядку, поднял руку.
– Ну, тогда, я все сказал, – старик развернулся и, дошаркав до края платформы, опустил ногу на первую ступеньку.
– С первым вопросом, считай, разобрались, – Григорий Желтоухий довольно усмехнулся в усы, – вторым пунктом у нас сегодня «Разное». Кому есть чего сказать кругу?
Казаки притихли, заоглядывались. Никто не стремился выходить на трибуну. Что надо, и потом можно обсудить, без того, чтобы лезть на непривычное возвышение, появившееся на площади всего-то месяц назад. Григория придумка, чтоб, значит, повыше приподняться. А то ростиком-то Атамана Господь обидел, вот он и изголяется. Шебутной!
– Ну, так что, казаки, есть чо сказать, или так по-домашнему потом погутарим? – верно оценил сомнения товарищей Атаман.
– По-домашнему, – раздались несколько голосов. – Слазь ты с этого эшафоту, надоело бошку задирать.
***
Дед Тимка дождался, когда казаки составят список желающих приобрести «танновские» кинжалы. На удивление и к удовольствию Григория желающих нашлось немало. Подождал, пока обсудят еще и порядок распределения в нынешнем году покосов – в связи с появлением новых жителей в станице, пришлось за счет общественной земли нарезать дополнительные участки, – нагомонятся, и только тогда решил, наконец, подойти к Атаману. Пантелей, все это время спокойно переговаривающийся с товарищами, увидев уверенно выбравшегося из толпы отца, враз замолчал, с опаской поглядывая на него. Честно говоря, он так до конца и не верил, что батя готов выдать его на суд круга, потому как про себя был уверен, что ничего такого не сделал.
Дед уверенно вышел из группы казаков его возраста – старейшин и приблизился к Атаману. Григорий уважительно поднялся навстречу старику.
– Здорово, Григорий, – дед Тимка немного смущался.
– Здорово дядя Тимофей, – Атаман пристально глянул на уважаемого казака. – Что у тебя? Слухаю внимательно.
Дед остановился и неуверенно потер небритую щеку.
– Да вот, такое дело, Григорий… – Он обернулся к товарищам, словно ища у них поддержку. Некоторые кивнули ему, мол, чего, ты не теряйся, раз решил. – Сына надо поучить, Пантелея.
В глазах атамана мелькнуло удивление. Пантелея он знал хорошо и представить себе, что тот что-то такое натворил, с ходу не смог. Подавив искру изумления в глазах, он серьезно поинтересовался.
– Что натворил?
– Неуважение родителей.
Это было серьезное обвинение. Атаман подтянулся и осуждающее качнул головой.
– Дела… Ну, давай сюда Пантелея.
Казаки оглянулись. Из толпы неуверенно выбрался медведеобразный Пантелей. Пройдя несколько шагов, он остановился, переминаясь с ноги на ногу.
Атаман смерил младшего Калашникова изучающим взглядом, словно первый раз увидел, и повернулся к казакам-ветеранам.
– Что будем делать, казаки?
Пантелей, не поднимая глаз, безжалостно мял изрядно поношенный картуз, дед Тимка невольно напрягся.
Из группы ветеранов выступил вперед, прихрамывая на левую ногу, невысокий и сморщенный Роденков. Топорща геройские усы он рубанул рукой.
– Раз Тимофей считает, что надо наказать, значит надо, он, не подумавши, словами бросаться не будет.
– Всыпать ему, чтоб отца уважал, – поддержал его из толпы Макоша Осанов, а то совсем молодежь распоясалась. И другим чтоб не повадно было.
Атаман выдержал паузу:
– Других мнений нет?
Казаки молчали, потягивая цигарки.
– Ну…у, – он немного растерянно обернулся к Пантелею, – ты слышал, Пантелей. Круг решил – лягай на лавку.
Пантелей тяжело вздохнул – он до последнего надеялся, что порки удастся избежать. Не удалось. Пятидесятилетний казак громко шмыгнул носом и, на ходу развязывая поясок, уныло побрел к лобному месту. В толпе, укрытой тенью вишенника, стало непривычно тихо. Даже непоседливые мальчишки перестали выковыривать семечки из разломанного, наверное, на десяток частей огромного полузеленого подсолнуха и застыли с напряженно вытянутыми шеями. С первым ударом все зрители тихо охнули. Этот еле слышный вздох прокатился крепким горячим ветерком и качнул листву деревьев.
Пантелей вздрагивал всем телом. Перед каждым опускающимся бичом, он старался расслабить тело – так меньше кожа сходила – но получалось плохо. Он кусал губу, но молчал. Григорий Желтоухий, задумчиво скрестив руки на груди, внимательно следил за движениями десятского – крепко ли тот опускает кнут. Сделай слабину, ударь казака помягче, чем обычно, а потом следующий, кого уложат на эту лавку, скажет: «Что ж вы меня так сильно, а вот Пантелея-то слабей били». Десятский не подвел, отработал на совесть.
Все пять плетей дед Тимка, как самому показалось, пропустил через себя. Он сжимал кулаки, ерзал, вытягивался на цыпочки, чтобы разглядеть лицо сына (так ничего и не увидел) и только с последним ударом застыл, затаил дыхание, наблюдая, как поднимается тот с лавки.
– Готово, – сказал десятский, наконец, свертывая кнут и с интересом посматривая на младшего Калашникова: как-то он поднимется. Бывало в его практике всякое. Один и после десяти ударов сам вставал и уходил, а другой, кое-как выдержав три плети, потом ужом сползал с деревянной поверхности и оставался лежать без чувств. Такого, бывало, и уносили, подхватив под руки и ноги.
Пантелей скинул ноги с лавки, опустился на колени, утробно икнул, поднялся на ноги и медленно выпрямился. По спине стекали тоненькие ручейки крови. Разорванная кожа лохмотьями струилась вдоль ярких черно-красных выпуклых швов на спине. Он был бледен, но держался твердо. На секунду сморщившись, усилием воли он справился с выражением боли на лице.
Дед Тимка мелко перекрестился и что-то тихо зашептал про себя. Макоша покосился на него, хотел что-то сказать, но передумал и отвернулся, преувеличенно внимательно вглядываясь вперед.
Пантелей повернулся к Атаману и, как того требовал обычай, склонился до земли, от боли, показалось, еще более побледнев:
– Благодарю Григорий Семенович за учебу.
Следующий поклон в сторону стариков:
– Благодарю отцы за науку.
Третий поклон всему Обществу.
– И вас, казаки, благодарю за науку.
Казаки одобрительно закивали головами. Пантелей подхватил рубаху, сжал зубы и твердо зашагал в сторону улицы, ведущей к своему дому. Не успел он миновать молчаливо расступившихся казаков и дойти до конца площади, как отец на телеге в сопровождении стайки любопытных мальчишек, нагнал его.
***
Обратно двигались молча. Деду Тимке неудобно было говорить при малолетних зрителях. А Пантелею было не до разговоров. Он шагал тяжело, громко дышал, размахивая скомканной в кулаке рубахой. Дед долго ждал, когда они убегут, но казачата шустрили позади, поглядывая на истерзанную спину Пантелея и, похоже, не собирались отставать. Дед оглянулся и сердито ругнулся.
– А ну, кыш отсюда, жеребята. Нашли цирк.
Мальчишки, толкаясь, дружно дунули в подвернувшийся кстати проулок.
Дед Тимка, проводив взглядом мелькающие пятки казачат, повернулся к сыну. Несколько минут ехал рядом, приноравливаясь под широкий шаг Пантелея. Тот покосился на виновато опущенный затылок отца и хмыкнул.
– Слышь, это, Пантелей, – дед растерянно почесал за ухом, – ты того, к нам идем, мать спину мазью помажет, она по мазям мастер, сам знаешь.
Пантелей шагал молча.
– Пантелей, ты того, потерпи маленько, – деду приходилось подгонять ленящегося коня, подстраиваясь под размашистый шаг сына, – до дома дойдем, полечишься, отдохнешь чуток, а потом я тебя отвезу. Сенца на тележку побольше кину и доставлю в целости… а?
Пантелей медленно повернул голову и, еще не приняв решения, покосился на терпеливо ожидающего его слов отца. Вздохнул, подождал телегу и присел на нее боком. Дед Тимка тут же словно распрямился и, деловито дернув вожжи, заставил Мурома прибавить шаг.
***
Жара спадала медленно. Уже солнце багровым шаром прокатилось по вершинам прибрежных зарослей, лучами пробежало-пропрыгало по листве, просветив ее насквозь до последней прожилки и, даже на какой-то миг показалось, слегка оплавив. Уже стрижи разлетелись по норкам в крутом берегу Лабы, уже стих недолгий вечерний ветер, раскачавший кусты, поблекшие от солнечного жара, а дед Тимка все также поднимал руку с зажатым в нем кнутом и тыльной стороной ладони вытирал капли пота, скапливавшиеся на лбу и шее. Телега неспешно переваливалась по пыльной дороге. Было тихо. Старик подъезжал к дому с разлохмаченными чувствами.
Доставив сына домой и сдав на руки встревоженной и обиженной на него невестке, он вернулся только к первым сумеркам. На душе было тревожно. Дед старался не задумываться о причинах этого состояния – слишком много сегодня событий произошло, но какое из них стало причиной неспокойствия, было понятно и без внутреннего расследования.
Муром легко заскочил на небольшой пригорок перед изгородью, миновал распахнутые Пелагеей ворота и, ускоряя шаг, развернул телегу у конюшни. Призывно заржала в загороде беременная кобыла Милка, заслышав топот копыт друга и предводителя. Муром степенно откликнулся и покачал мордой, погрызывая надоевшие удила. Дед, снимавший в этот момент хомут, непривычно для себя мягко ругнулся:
– Ну, не шали, стой смирно.
Конь послушался и замер напряженно, только косил глазом на приоткрытую дверь конюшни, где хозяйка уже приготовила ему охапку свежескошенной травы и ведро воды. Дед Тимка подождал, пока Муром напьется и хлопнул его по крупу – конь медленно прошагал на ночевку – и закрыл загон. В соседнем стойле, изредка подавая голос, нетерпеливо переступала тяжелая кобыла.
Пелагея толкла в корыте корм для поросят. На вошедшего старика обернулась.
– Отвез что ли?
– Отвез, – он устало присел на лавку у входа.
– Как он?
– Кости молодые, а кожа нарастет.
Пелагея повернулась к корыту и между делом покачала головой:
– Эх, старый, и какая муха тебя укусила?
Дед вздернул голову на тонкой шее и нахмурился.
– Цыц ты. Не начинай уже Пелагея, без тебя тошно. – он снова опустил голову и сник. – Ничего, ему полезно.
На улице что-то звякнуло, в сарае зашелся криком молодой поросенок.
Дед Тимка не сразу поднялся. Подошел к противоположной беленой стене, повесил на железный костыль кнут и склонился к сумрачному окну. Пелагея подхватила корыто и потащила к выходу. Почему-то встревоженно заржал Муром. Она склонила голову, прислушиваясь.
– А ну, стой! – Дед неожиданно отпрянул от окна.
Бабка замерла, непонимающе уставившись на деда:
– Ты чего?
– Тихо. – Дед Тимка резко присел, – ставь корыто, у нас гости.
– Какие гости? – бабка пригнулась и заговорила шепотом.
– Черкесы!
Пелагея закрыла рот ладошкой и выронила корыто. Глухой стук прозвучал, как выстрел.
– Тише ты, – прошипел дед и вороном кинулся к двери, приговаривая, – не зря, значит, сено разворошено было. Эх, забыл проверить…
Забросил тугой крючок на петлю и прижался ухом к двери. Испуганно кудахтали куры, визжал на одной ноте поросенок, кони шарахались от кого-то в конюшне.
– А, может, и правильно, что забыл, шлепнули бы, да и всего делов… Ну, да что теперь думать… Похоже, им пока не до нас. – Он снова присел и на полусогнутых поковылял к сундуку в горнице. – Бабка, давай на чердак, я догоню.
Взобравшись по расшатанной лестнице на пыльный чердак, дед Тимка закрыл за собой потолочную дверцу и аккуратно развернул сверток, который захватил с собой. Из старенького рушника выглянул тусклый ствол берданы.
– Ты чего это, – шепотом вскинулась Пелагея, – воевать что ли собрался?
– А что, сидеть ждать, пока они к нам в избу заберутся, да придавят, как клопов?
Бабка только охнула и молча, словно загипнотизированная, уставилась на оружие.
– Вот и пригодилась, родная, – дед погладил вороненый ствол и высыпал из кармана на разложенный рушник горсть патронов.
***
Хамид собрался жениться. Вечером долго сидели с отцом, подсчитывали и соображали, как собрать калым. Невесту присмотрели в соседнем ауле у Лабы. Всем хороша была девушка: и собой пригожа, и рода достойного. Одно плохо – выкуп за нее просили несусветный. Если продать жеребенка, которым по весне семью осчастливила кобыла Мака, подобрать все семейные средства и даже взять в долг у родственников, набиралось чуть больше половины.
Хамид потянулся к чайнику. Приподнял его, проверив содержимое. Чайник оказался пуст. Он уже вскинул голову, собираясь крикнуть младшую сестренку Лейлу, но отец мягко положил ладонь на руку сыну.
– Не надо, сколько можно сидеть-думать. – Он отпустил руку сына и поднял глаза, – Хочешь-не хочешь, а придется идти в набег.
Хамид глубоко вздохнул. Он до последнего надеялся, что этого удастся избежать. Хамид хоть и родился в уважаемом роду, который завоевал свое нынешнее положение в сражениях с русскими, но сам воевать никогда не стремился. Чужда ему была и кровожадность, присущая многим его сверстникам. Большинство его друзей, услышав такие слова от отца, были бы горды доверием и постарались его непременно оправдать, то есть пробраться в казачью станицу, где кого-нибудь ограбить, или устроить засаду на дороге за Лабой с тем же результатом. Хамид не разделял их устремлений. Сколько раз он спорил с товарищами, которые не скрывали ненависти к проклятым гяурам. Он считал, что пора войн прошла, пора налаживать мирные добрососедские отношения с казаками. «Русский царь силен, – говорил он, – ругаться с ним – все равно, что мочиться против ветра. Сколько можно терять в бессмысленных стычках лучших сыновей гордого адыгского народа? Надо сохранить наших джигитов, чтобы каждый затем родил нескольких сыновей. А от тех сыновей появятся еще дети. И когда-нибудь нас станет много, так много, что мы сможем диктовать свою волю русскому царю и получать с России дань.
– Я не зову дружить с ними и обниматься, – горячился Хамид, – просто непосильно человеку сломать молодой крепкий дуб, а вот если подождать пока он заболеет и начнет гнить, вот тогда будет самое время. А такое время обязательно придет. Нет единства у русских, у них даже казаки становятся похожими на женщин. Наш род крепче, и закон наш для всех един.
Молодежь презрительно отмахивалась от таких речей, но вот старики слушали внимательно и одобрительно качали головами. «Не по годам умен, – говорили про него и добавляли, – быть ему большим человеком, когда борода загустеет и седину возьмет».
Отец не давил на сына. Он знал, что другого выхода нет, и Хамид все равно пойдет в набег. Очень уж хороша была девушка из соседнего аула и, похоже, они уже и без родителей обо всем сговорились. Можно было, конечно, украсть девушку, но потом сложностей с ее родом не оберешься. Хамид тоже понимал это.
В душе отец не поощрял примирительные посылы сына, хотя умом и понимал, что он прав. Тут еще эти родственники… Хотя в лицо никто и не обвинял сына в трусости, но за глаза, отец подозревал, говорили наверняка. И вот теперь есть такой подходящий повод, доказать всем, что Хамид, несмотря на мирные речи, настоящий сын своего народа – джигит и может не только к дружбе с русскими призывать, но и сразиться с ними, и не когда-нибудь в будущем, а сейчас, может быть, уже даже завтра. И что не трус!
Он снова положил ладонь на руку сына и заглянул ему в глаза:
– Ты готов?
Хамид вздохнул. Молчал, думал, покачивая чайные остатки в пиале. Наконец отставил пиалу и выпрямился:
– Завтра пойдем. Двоюродных братьев возьму.
– Правильно, сын! – Отец не стал скрывать удовлетворения.
***
К дому старика Калашникова черкесы присматривались уже давно – уж очень удобно стоит: в стороне от станицы, пока помощь соберут да прискачут – два раза можно уйти. Рядом начинались густые заросли ивняка и граба, уходящие к оврагу. А тот уже выводил прямо к броду через Лабу. К тому же в доме живут только дед да старуха. На них цыкнешь разок и делай, что хочешь. Поэтому когда выбирали, на кого сделать набег, все пятеро сразу согласились с предложением Закира – старшего двоюродного брата Хамида.
– У него и хозяйство большое, – объяснял Закир, – и лошади, и свиньи, и птица, и овец десятка два, есть чем поживиться. И риска никакого, ты бы и один справился, но с братьями все-таки спокойней. А выходить лучше завтра утром. По холодку дойдем. Днем подошлем кого-нибудь, пусть понаблюдает, а вечерком наведаемся в гости, – он хмыкнул довольный собой.
Заулыбались и остальные черкесы. Только молодой Ахмед, самый младший из братьев – недавно ему исполнилось 14 – нахмурился.
– Зачем про свиней говоришь? – Его голос от волнения сорвался. Он отвернулся в сторону, не желая смотреть брату в глаза. – Зачем нам, правоверным, мараться о грязное животное?
Закир, словно рукой, смахнул с лица улыбку. Вместо нее появилось уважительно-снисходительное выражение. Стараясь не задеть оголенные струны подросткового самолюбия, осторожно объяснил:
– Свинья – животное грязное, это правда. Аллах нам запрещал его употреблять в пищу. Так?
Ахмед нерешительно кивнул.
– Так мы и не будем его есть. Заберем и потом этим же гяурам продадим. А деньги на благое дело пойдут – брату на калым. Согласен?
Ахмед снова кивнул и покраснел.
– Ну, если так, тогда другое дело.
Хамид поерзал и, не вставая, на пятках развернулся на восток.
– А теперь, братья, помолимся перед благородным делом.
Черкесы молча последовали его примеру.
***
К обеду маленький отряд переправился через обмелевшую Лабу. Коней оставили на своем берегу. Прежде чем отправиться к казачьей усадьбе, выслали на разведку Ахмеда. Тот выкопал пещерку в небольшом стоге сена перед воротами, постаравшись так разложить сено, чтобы со стороны было не заметно, и уютно устроился в ней. Кинжал положил прямо перед собой – так спокойней. Если вдруг старик подойдет к стожку, он ни за что не оплошает.
Весь день у деда во дворе возился какой-то очень здоровый казак, наверное, сын. Потом появился дед. И правда, совсем тщедушный, на такого и кинжал не понадобится. Щелбаном убить можно. Главное, чтобы сын ушел сегодня. Если останется ночевать, сразу станет намного сложней – справиться с таким быком будет нелегко. Ахмед, зарывшись поглубже в пахучее свежее сено, приготовился ждать до темноты – так распорядились старшие братья.
***
Сумерки неспешно заливали двор. Солнце опускалось где-то за спиной, и его лучи, скрытые коньком крыши, уже не освещали ни сарай, у которого кто-то, не разобравшись с хитрым засовом, выламывал крепкую дверь, ни птичник, где кричала возмущенно на разные голоса домашняя птица, ни конюшню, откуда спиной вперед выходил невысокий черкес, изо всех сил вытягивая сопротивляющуюся кобылу. Его винтовка болталась на плече. Дед Тимка вставил первый патрон в берданку и медленно передернул затвор. С этого врага он и решил начать личную войну с горцами.
– Эх, давненько не воевал. Да и разбойники давненько на нашу сторону не хаживали. Ну, ничего, мы еще свое наверстаем… ох, спасибо, черкесы, уважили… – Старик бурчал под нос, заботясь лишь об одном – чтобы на улице было не слышно.
Он осторожно кинжалом подцепил деревянные плашки, прижимавшие стеклянное полотно на фронтоне чердака, и отставил ценное стекло в сторону. Черкес во дворе уже вывел Майку из сарая и тянул ее за уздечку к выходу со двора. Кобыла вскидывала морду и косилась глазом обратно, словно ожидая, что из глубины конюшни вот-вот подоспеет помощь – ее повелитель Муром. Конь бушевал в загоне, сейчас он хотел добраться до врагов и разорвать, затоптать их, как его предки – дикие кони поступали с волками, отбивавшими от стада молодых кобылиц и жеребят. Те, которые в эти минуты хозяйничали во дворе, в понимании Мурома тоже были волки, потому что действовали как хищники – нагло проникли на чужую территорию и, пользуясь тем, что вожак не мог до них дотянуться, отбивали самку. Дед Тимка слышал, как он страшно всхрапывал и бил копытами в стенки загона. Бил тщетно, в прошлом году дед вместе с сыном полностью заменили жерди загонов на крепкие дубовые. Мимо черкеса пробежали трое, один остановился и что-то негромко сказал «коневоду». Вместе громко засмеялись. Усмехаясь, тот побежал дальше и скрылся в овчарне, где, судя по бестолковому стуку мелких копыт и бекающим протяжным воплям, уже вовсю хозяйничали его товарищи.
– Даже взнуздать успели! – Дед возмущенно поерзал и, отыскав удобное положение, прижался щекой к теплому прикладу, – Ну, получай, вражина.
Выстрел хлестнул по ушам. Черкеса словно толкнули в спину. Он ткнулся головой в морду Майки и, выпустив повод, с хрипом опустился на колени. Кобыла, воспользовавшись неожиданной свободой, тут же выхватила у почему-то несопротивляющегося врага кусок щеки вместе с губами и кончиком носа. Тот, заливая теплую землю кровью, молчком завалился под копыта Майке. Она брезгливо вытолкнула длинным языком чужую плоть изо рта и отпрянула. Быстро развернувшись, кобыла заскочила обратно в конюшню. Муром сразу затих. Дед Тимка обернулся к Пелагее, которая сидела рядом зажмурившись и зажимая уши ладонями.
– Патрон!
Бабка, словно очнувшись, вздрогнула, нашарила на рушнике звякнувшие патроны и живо протянула один мужу.
Из овчарни выскочили все трое. Двое бросились к лежащему черкесу и склонились над ним, один скинул винтовку с плеча и, не сообразив, откуда стреляли, остановился в растерянности в цетре двора, переводя взгляд с суетящихся товарищей на производящий нежилое впечатление дом. Его-то дед Тимка и выбрал следующей жертвой. На мгновенье их взгляды встретились, но выражение черных бестолково распахнутых глаз не успело отреагировать на появление в пределах видимости стрелка – старика с берданкой у плеча. Снова громыхнул выстрел, на этот раз, показалось, не так громко, слух быстро адаптировался к резкому звуку. Черкес ссутулился и уже мертвый кулем завалился на бок – пуля попала чуть выше правой брови. Дед зарядил третий патрон. Выглянул в проем – никого. Враги, похоже, поняли, что против них действует серьезный противник, и попрятались. В этот момент еще раз громко хлопнуло, пуля с чмоком вошла в балку над головой деда. Старик пригнулся.
– Ага, очнулись, – он насмешливо кхекнул, – думают – я их испугаюсь, а то я не знаю, откуда они могут стрелять… Идем вниз, здесь нам больше делать нечего. Пора менять диспозицию.
Две сумрачные фигуры, кряхтя и поругиваясь, торопливо поползли к крышке чердака. Стараясь не скрипнуть, подняли ее. Опустив голову вниз, дед на минуту замер, прислушиваясь. Тихо стучали «англицкие» ходики, подаренные старику Обществом к семидесятилетию. За печкой выводила рулады цикада. Не услышав ничего подозрительного, спустились вниз. Старик на полусогнутых, держа перед собой бердану, не без труда добрался до ближайшего окошка. Бабка – за ним. Осторожно выглянул в уголке. Во дворе было обманчиво тихо. Дед вскарабкался на лавку у стены с ногами и, вытянув шею, выглянул в окошко сверху.
– Вижу, вижу, – тихо проговорил он, – вот он еще один. Слышь, бабка, за корытом сидит, на чердак пялится. Вот дуболом, его же сверху как на блюдечке видно, да и отсюда тоже. Вояка, блин. Патрон!
Зарядив бердану, старик поудобней устроился на лавке и тихо толкнул форточку. Та распахнулась без шума. Он прицелился, стараясь не выставлять ствол наружу. «Ба-бах» – коротко громыхнуло. Тело за корытом дернулось и затихло. Старик тут же вставил новый патрон. И почти не целясь, выстрелил еще раз. Стоявший на колене у забора черкес, выцеливавший вспышку оружия старика, и, к его несчастью задержавшийся с выстрелом, выронил винтовку и мягко клюнул в землю. Дед опередил свою смерть всего на мгновение.
– Четвертый готов, – дед Тимка неторопливо сполз с лавки и, усевшись, спокойно принял от бабки еще один заряд. – Ну вот, а ты говоришь старый, старый… а я вон их как.
В следующий момент стекло в окне вдребезги разлетелось, два выстрела, раздавшиеся почти одновременно, заставили старика свалиться на пол и зажать голову руками. Пелагея коротко взвыла и, дрожа всем телом, крепко прижала старика к доскам пола.
– Тихо ты, старая, раздавишь, – негромко ругнулся он и поднял голову, – стекло изничтожили ироды. Поползли к тому окну, – он столкнул с себя тихо подвывающую старуху, высвободил из-под нее верную берданку и быстро посеменил на коленях вдоль стены. Пелагея не отставала.
Едва они устроился у следующего окна – старик на полу, выглядывая одним глазом в уголке рамы, старуха – за его спиной, прижавшись к беленой стенке, как во дворе снова прогремели два выстрела и на пол сыпанулись последние останки чудом удержавшегося в раме стекла. Дед инстинктивно втянул голову, но наблюдение за двором не прекратил. Он успел углядеть оба выстрела. Стрелки, наученные горьким опытом товарищей, стреляли, почти не высовываясь из-за густого плетня, которым был обнесен двор. Достать их там было нелегко. Дед сел под окном и, задумавшись, взглянул на супругу. Пелагея, пригибаясь, протягивала ему очередной патрон.
– Ну что, Поля, как будем выманивать врагов? – не ожидая от нее ответа, он аккуратно вставил патрон в ствол и, что-то сообразив, быстрым движением передернул затвор. – Готовь куклу, старая, и мой картуз, – он хитро прищурился, – посмотрим, как у них соображалка кумекает.
– Ты что задумал, старый, – старуха встревожилась, – какую куклу?
– Обыкновенную. Сверни мой старый тулуп, перевяжи чем-нибудь, а сверху картуз. Вот и кукла.
– Так бы сразу и сказал, а то куклу ему какую-то подавай, как будто у нас тут куклы рядами сидят. – Она развернулась и уползла к сундуку, где хранились все старые вещи супругов, которые и носить уже стыдно, но выбрасывать еще жалко. Старик снова выглянул в окошко. Сумерки уже плотно затянули двор. Если бы это не был родной участок, на котором старику был знаком каждый столбик, каждая кочка, он вряд ли бы смог сейчас определить место, где засели враги. Но дома, как известно, и плетень помогает… Тем более, что над черкесами, к этому моменту затаившимися в разных сторонах двора, за изгородью поднималось еле заметное свечение, словно кто-то прикурил цигарку и спрятал ее в ладошке. Дед Тимка знал, что горцы не курят – у них с этим строго, заметят – могут и камнями забить, грех потому что. А значит, их выдавал не табачный огонек, а страх, ощутимо и заметно исходивший от сущностей врагов. Он уходил вверх неровным расползающимся отсветом. Деду Тимке приходилось и раньше сталкиваться с этим эффектом, не раз эта способность казаков, ощущать и видеть незримые для большинства людей поля, входившая в сложную систему подготовки, называемую Казачьим Спасом, спасала жизнь ему и его товарищам. Не каждому давалась эта сложная наука, особый талант требовался. Казаки продвигались в постижении Казачьего Спаса маленькими шашками по древней методике, надежной и столетьями проверенной – от простого к сложному. Улавливание полей человека и умение их распознавать находилось в этой системе обучения где-то в самом начале долгого, требующего, помимо природных способностей, немалого упорства и сил пути. И вот сегодня эта сложная наука, о которой старик начал понемногу забывать, опять пригодилась. Старик, вытянувшись над оконным проемом, направил ствол берданы в открытую форточку и дал знак Пелагее выставить куклу в разбитое окно. Чтобы они наверняка заметили ее силуэт, он сам незадолго до этого запалил в глубине комнаты небольшую свечку, прикрыв ее доской для разделки буряка.
Они еще не знали, что обречены. Враги надеялись, что непонятный русский шайтан, сидящий в доме и отстреливающий их товарищей одного за другим, рано или поздно подставится под выстрел. Ну не колдун же он в самом деле! Из шестерых, пришедших в набег к тому времени, в живых остались двое: Хамид и самый младший Ахмет. Они затаились за плетнем и потные от пережитого страха напряженно прижимались щеками к прикладам, нервно переводя стволы с одного окна на другое.
Старуха еще не успела полностью поднять куклу, как за плетнем гулко грохнуло. Первым нажал на курок менее опытный Ахмет. Вспышка на миг осветила в щели плетня напряженно прищуренный темный глаз, подбородок, крепко прижатый к прикладу, и тут же погасла. Но и этого мгновения хватило деду Тимке, чтобы, уже не скрываясь, выставить в форточку бердану и нажать на спуск. И сразу же заскочить за угол. Он не мог видеть, что твориться за забором, но знал, что попал. Он понял это по особому, обрывающемуся звуку пули, достигающей цели, и еще по тому, что в него больше никто не стрелял.
Дед выждал несколько минут, выпрямился и на порядком уставших ногах перебежал к разбитому окну. Старуха сидела под подоконником, и, прижав одной рукой к груди «куклу», протягивала другую с раскрытой ладонью, на которой лежали несколько патронов. Старик присел на лавку, перезарядил бердану и медленно выглянул на улицу.
Несколько минут казалось, что ничего не произошло. Поскрипывала распахнутая дверь сарая, повизгивал все еще возмущающийся боров в сарае, вдалеке раскачивались сумрачные силуэты деревьев у оврага. Он перевел дух и снова начал поднимать бердану – где-то затаился последний враг. Странно, но почему-то исчезло то еле заметное свечение страха, поднимающееся над забором до выстрела. Старик не успел это обдумать. Внезапно за плетнем в полный рост поднялся человек.