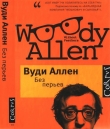Текст книги "Рядом с нами"
Автор книги: Семен Нариньяни
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 36 страниц)
В ЧУЖОМ КРЕСЛЕ
Пал Палыч начал обедать в нашей столовой месяца два назад и сразу обратил на себя внимание окружающих. Манеры у него были резкие, угловатые. Ел он довольно неопрятно, разговаривал за столом так громко, точно командовал на плацу.
– Ты мне олифы подай, – кричал он своему соседу по столу, – а клеевой краской всякий дурак стены покрасит!
Недели две трубный глас Пал Палыча держал нашу столовую в курсе всех его москательных похождений. Мы знали, что сказал по поводу олифы председатель райсовета, какую резолюцию наложили в главке и на сколько килограммов пытался обвесить Пал Палыча кладовщик склада.
Кончились разговоры об олифе – начались о гвоздях, потом о кровельном железе.
– Меня не обманешь! – кричал Пал Палыч, разгрызая крепкими белыми зубами кость от бараньей ножки. – Я свое все равно вымолочу!
Глядя на выступающую вперед челюсть Пал Палыча, я не сомневался, что такой действительно вымолотит не только гвозди, но и душу у самого черта.
И вдруг рыцарь гвоздей и олифы, ковыряясь как-то вилкой в винегрете, к общему удивлению завсегдатаев столовой, довольно неожиданно и в том же темпе кресчендо заговорил о музыке.
– Насчет струнного оркестра даже не агитируйте! – заявил он председателю завкома. – Не пройдет. Духовой, пожалуйста, организую. Духовой сам себя всегда окупит. Под него и потанцевать можно, а помрет кто – мы и похороним красиво.
Пока разговор ограничивался кровельным железом, все было как-то понятно. Но когда Пал Палыч в привычном для него стиле стал рассуждать о музыке, я не выдержал.
– Иван Николаевич, – обратился я к председателю завкома, – кто этот дядя, который с таким воодушевлением беседовал с вами по погребальным вопросам?
– Да вы, батенька, – сказал председатель, – видать, сильно оторвались от наших культурных учреждений. Пал Палыч – директор клуба "Первое мая".
Я от удивления только развел руками.
– А вы за кого же считали его? – спросил председатель.
– Завхоз, завскладом – кто угодно, но только не директор клуба.
– Зря вы так пренебрежительно говорите о Пал Палыче. Звезд с неба он не хватает, это верно. Но зато рукаст. Порядок у него в клубе сейчас отменный. Мусий Захарович два года крышу починить не мог, а этот за две недели все обстряпал. И починил и покрасил. Он второй киноаппарат добыл. В нашем клубе сейчас проекция на экране не хуже, чем в Первом художественном.
Дом с шестью колоннами на углу Перфильевского и Малохомутной уже много лет принадлежал клубу "Первое мая". Прежде я часто бывал в этом клубе. Мне приятно было провести здесь свободный вечер: посидеть в читалке, зайти на репетицию драматического кружка, поговорить с Мусием Захаровичем Кузменко. Старый директор был человеком доброго сердца и широкого радушия. Он любил людей и встречал каждого из нас, как хороший гостеприимный хозяин.
– Были в библиотеке? – спрашивал он вас. – Тогда бегите. Мы вчера тридцать новых книг приобрели.
Если в хоровом кружке появлялась способная певица, Мусий Захарович обязательно тащил вас за кулисы послушать, как звучит у нее голос.
– Талант, батенька мой! – жарко шептал он вам на ухо. – Ей только немного подучиться, и она у нас в «Русалке» дочь мельника петь будет.
Я помню день премьеры «Русалки» в клубе "Первое мая". Правда, опера была поставлена не так пышно, как в Большом театре. И дочь мельника, и князь, и сам мельник пели не под оркестр, а только под аккомпанемент рояля, тем не менее успех был огромный. Радовались за молодых певцов не только свои, но и гости, особенно артисты Большого театра, консультировавшие постановку "Русалки".
Мусий Захарович имел много друзей как в самом клубе, так и за его пределами. Если клубная библиотека устраивала читательскую конференцию, то наряду с нашими местными критиками в обсуждении обязательно участвовали и представители Союза писателей. Если в клубе устраивался доклад, то каждый из нас знал наверняка: вечер пройдет не без пользы, ибо Мусин Захарович пригласит докладчиком не случайного, а знающего, авторитетного человека.
Но если наш директор прекрасно ладил с кружковцами, писателями, артистами, то делового контакта с людьми, обслуживающими клуб, у него не получалось. Не знаю, почему – то ли от излишней доверчивости, а может, из-за плохого контроля – истопники, водопроводчики, уборщицы работали спустя рукава. Из-за этого в зрительном зале часто бывала довольно низкая температура, а на окнах фойе висела паутина. И вот эта самая паутина в конце концов и подвела Мусия Захаровича, заставив завком посадить на место директора Пал Палыча.
Честно говоря, мне трудно было представить наш клуб без его прежнего, приветливого директора. Правда, и у нового директора тоже были свои достоинства. Он не зря мучил нас, к примеру, два последних месяца разговорами о гвоздях и олифе. Домик с шестью колоннами выглядел сейчас значительно нарядней, чем прежде. Пал Палыч подремонтировал и покрасил его как внутри, так и снаружи. Он удвоил количество электрических лампочек, сменил истопника котельной – и в клубе стало светлее и теплее.
Ах, если бы Пал Палыч ограничил свою активность только ремонтными делами! К сожалению, неистовый завхоз пошел дальше. Он снес внутренние переборки в комнатах для кружковой работы и увеличил таким образом количество мест в зрительном зале. Второй киноаппарат, приведший в такое умиление председателя завкома, выселил, по существу, из зрительного зала всякую самодеятельность, превратив хороший клуб в бедненький кинотеатр.
Старые друзья Мусия Захаровича не желали мириться с таким переустройством. Комсомольцы вели с Пал Палычем самую непримиримую войну. Одного из воинов, который дебютировал год назад в роли мельника, я застал в кабинете директора. Бывший мельник пробовал выпросить зрительный зал для молодежного вечера.
– Не могу дать, – говорил Пал Палыч. – План. Четыре дня в неделю у меня в зале кино. Два, по договору с филармонией, уходят на коммерческие концерты, а один забирает завком под политические мероприятия.
– А вы пожертвуйте ради молодежи одним киновечером, – предложил я.
– Такой совет не проходит, – отрезал Пал Палыч. – Каждый вечер – это четыре сеанса, а каждый сеанс дает триста рублей дохода. А что даст молодежный вечер на клубный баланс? Ничего не даст.
– Пал Палыч… – пробовал спорить бывший мельник, по Пал Палыч был неумолим.
– Переведите свой хор на самоокупаемость, – говорил он. – Нужен зал – пожалуйста: тысяча двести рублей в кассу – и пойте сколько душе угодно.
– Мы еще только учимся петь, – чуть не плача, говорил бывший мельник, – а вы подбиваете нас на халтуру.
Но Пал Палыч вряд ли знал разницу между халтурой и чистой, подвижнической любовью молодежи пусть к еще несовершенному, самодеятельному, но все же искусству. Объяснять новому директору, в чем именно состояло истинное предназначение клуба, было делом лишним, ибо Пал Палыч не признавал этого предназначения и посему свел всю большую, многогранную деятельность клубного руководителя к одной узкой задаче – бойкой торговле кинобилетами.
Я смотрел на нового директора клуба и думал в это время о старом. Я не понимал работников нашего завкома, которые так легко предпочли жесткую руку Пал Палыча большому, любящему сердцу Мусия Захаровича.
Я не говорю или – или, так как хорошему клубу нужно и то и другое. Но если речь зашла о директоре, то таковым должен быть умный и чуткий наставник, а никак не деляга. Пусть Пал Палыч тоже остается в клубе, по не в чужом кресле, а на более скромной роли – заведующего хозяйством. Пусть он так же рьяно следит за работой истопников, уборщиц и своевременным ремонтом крыши и пусть никогда не вмешивается в те области воспитательной работы, о которых не имеет ни малейшего представления.
1949 г.
КУКУШКА
Мария Васильевна Пасхина была замужем за Вайсфельдом. Сын у нее записан на фамилию Попова. Одно время она получала алименты на этого сына с Черкезова. Потом иск был перенесен на Табакалова. И вот, наконец, мама познакомила сына с новым отцом – Гезаловым.
Мария Васильевна – еще довольно красивая, нестарая женщина. Когда-то она училась языкам, потом – в медицинском институте. Но все это осталось в далеком прошлом. Сейчас Мария Васильевна ведет "светский образ жизни". Утро она проводит в постели. День посвящает маникюру и портнихам, а вечером ходит с мужем в театр или принимает гостей.
Мы узнали о существовании Марии Васильевны из письма наших ереванских читателей. Один из них пришел на квартиру к Гезаловым и сказал:
– Мария Васильевна, пожалейте своего сына. Парню совестно перед товарищами.
– Почему?
– Как почему? Вы же его с пятым отцом знакомите.
– Ложь. Артем Тигранович Гезалов приходится пятым отцом лишь старшему сыну. Для среднего он третий, а для младшей, Ангелины, – всего-навсего второй отец. Ах, – сказала Мария Васильевна, хватаясь за виски, – если бы вы знали, сколько неприятностей я натерпелась с этими детьми! Сначала меня мучил старший. Он совсем не умел держать себя в обществе. При посторонних людях называл меня мамой.
– А вам это было неприятно?
– Господи, я вовсе не собираюсь записываться в старухи!
– А где сейчас ваш старший сын?
– Когда-то он жил в детском доме под Ростовом, потом переехал в Донбасс, а сейчас я даже не знаю, где он. Впрочем, если вас это очень интересует, я могу узнать.
И, повернувшись к двери, Мария Васильевна крикнула куда-то в коридор:
– Соня, ты не знаешь, где сейчас живет Виктор?
– В Киеве! – крикнули из коридора.
– Не успела я отдохнуть от старшего, – продолжала Мария Васильевна, – как меня стал мучить средний сын.
– И вы решили избавиться и от среднего?
Мария Васильевна смущенно улыбается.
– У меня не было другого выхода, – говорит она, оправдываясь. – Табакалов предложил мне уйти от Черкезова и выйти замуж за него. Это предложение меня устраивало, и я уехала из Баку.
– А Олега бросили?
– Какого Олега?
– Вашего среднего сына.
– А разве его зовут Олегом?
– Вы что, забыли, как зовут ваших детей?
– Нет, почему, я помню. Мы еще спорили по этому поводу с мужем. Он хотел назвать сына Геддеем, я настаивала на Эдуарде, а в детском доме, по всей видимости, распорядились по-своему и превратили мальчишку в Олега. Да мы можем уточнить это у Сони.
– Простите, а кто эта Соня, у которой вы консультируетесь?
– Домработница.
– Странно, домработница знает о детях больше, чем родная мать.
– Что же тут странного? – цинично ответила Мария Васильевна. – Я попросту не люблю детей.
Кого же любит эта холеная бессердечная женщина?! Да никого, кроме самой себя! Живет Мария Васильевна в свое удовольствие и ради этого совершает подлость за подлостью.
Со своим старшим сыном Мария Васильевна распрощалась, когда мальчику было девять лет, среднего она бросила в Баку, когда ему исполнилось семь, и вот теперь, как пишут нам в редакцию, Мария Васильевна собирается избавиться и от младшей, Ангелины.
Когда ребенку семь лет, ему трудно поверить в бессердечность своей матери. И дети не верили. Они рвались в свой дом, к своей семье. Дети разыскивали мать, приезжали к ней. Но мать не радовалась этим встречам и тут же отправляла сыновей в город, который был подальше.
Старший в конце концов понял, с каким чудовищем он дело, смирился и перестал рваться домой. А средний сын все тосковал и ездил на крышах вагонов за своей матерью. В этом году мальчик разыскал Марию Васильевну в Ереване, где она поселилась на жительство со своим новым супругом. Мальчик пришел к ней в дом, надеясь, что мать обрадуется ему. А мама даже не открыла сыну двери:
– Проходи, проходи. Бог подаст.
Соседи Марии Васильевны пробовали походатайствовать за сына перед матерью. Но мать не стала даже разговаривать с ними. Тогда соседи пошли к прокурору.
Жестокость матери возмутила и работников прокуратуры. Мария Васильевна в тот же день была вызвана для разговора. Вместе с ней явился к прокурору и ее супруг, доцент Гезалов.
– Дети – это личная жизнь Марии Васильевны, – сказал Гезалов. – Я сам никогда не вмешиваюсь в эту жизнь и советую вам делать то же.
Как ни странно, но эта тирада о невмешательстве обезоружила работников прокуратуры. И вот, вместо того чтобы оказаться на скамье подсудимых, Мария Васильевна, упаковав в чемоданы семь цветных халатов и восемь вечерних платьев, срочно выехала на отдых в Сочи.
– А как же дети? – спросите вы,
"А мы живем, как и жили, – пишет в редакцию средний сын Марии Васильевны. – Нас трое детей от одной матери, и ни один из нас не знает своей настоящей фамилии. Пять отцов, а который из них твой? Волк – дикий зверь, – продолжает Олег, – но разве волчица когда-нибудь бросит маленьких детенышей? Никогда! А наша мать, как кукушка, она подбрасывает своих птенцов в чужие гнезда".
На днях Мария Васильевна возвратится со своими чемоданами с курорта, но я не думаю, что кто-либо из ее знакомых, прочтя письмо Олега, захочет поздравить супругу доцента Гезалова с приездом. Таким людям руки не подают. Таких не приглашают в гости, с такими стыдятся жить в одном доме.
1949 г.
ГУГИНА МАМА
Евгений Евгеньевич Шестаков был не только хорошим пианистом, но и хорошим педагогом. Когда Евгения Евгеньевича назначили директором районной музыкальной школы, все родители пришли в восторг. Но достаточно было этому директору отчислить из школы трех неспособных к музыке учеников, как на него тут же посыпались самые страшные жалобы. Первым позвонил в редакцию один из работников Главсахара.
– Вы знаете Евгения Шестакова?
– Да, как музыканта.
– Музыка – это не то. Познакомьтесь с ним лично, и у вас будет хороший материал для фельетона "Унтер Пришибеев в роли директора школы".
– Почему Пришибеев?
– Как почему? Вы разве не слышали? Этот субъект отчислил из школы Гугу!
– Кого, кого?
– Господи, – недовольно заверещала телефонная трубка, – про Гугу говорит весь город!
Мне было неловко сознаться в своем невежестве, но я только теперь впервые услышал имя Гуги.
– Как впервые? – удивилась телефонная трубка. – Разве к вам еще не приходила эта дама?
– Какая дама?
– Ну та, Мария Венедиктовна!
– Нет!
– Не приходила, так придет, – обнадеживающе сказал человек из Главсахара и добавил: – Так вы уж тогда того… поддержите ее.
Не успела телефонная трубка лечь на рычажок, как ее тотчас же пришлось снова поднять. На сей раз в редакцию звонил известный детский писатель.
– К вам, – сказал он, – должна прийти Мария Венедиктовна. Это мать Гуги, и я от имени целой группы товарищей прошу вас ей помочь.
В этом месте детский писатель тяжело вздохнул и перечислил фамилии двух доцентов, двух полковников, трех – медицинских работников и одной балерины. Но Марлю Венедиктовну, по-видимому, не удовлетворило такое перечисление, поэтому вслед за двумя первыми раздалось еще восемь новых телефонных звонков. Два доцента, два полковника, три медицинских работника и одна балерина звонили в редакцию, чтобы выразить свой протест против отчисления Гуги из школы.
Гугино дело было совершенно ясным. Гута не обладал музыкальными способностями, и его следовало определить в другую школу. Но Гугина мама не признавала других школ. Она бегала по большим и малым учреждениям, добиваясь только одного – восстановления Гуги. Мало того, мама сама все последние дни проводила в ненужных хлопотах, она втянула в этот круговорот еще и пропасть разных других людей… И ведь сумела же она привлечь на свою сторону всю эту почтенную публику! Как? Каким образом?
Мария Венедиктовна была серенькой, сухонькой женщиной. Она не знала ни чар, ни ворожбы. Единственное, что она умела, – плакать. Эта женщина хорошо знала силу своих слез. Действуя этой силой, как вор отмычкой, она вползала к вам в сердце, наполняя его всякими жалостливыми чувствами.
Вот и теперь, придя в редакцию, Гугина мама сразу же потянулась за носовым платком. Мария Венедиктовна еще не сказала ни слова, а у всех нас, сидевших в комнате, уже защемило сердце.
"Нет, надо крепиться!" – решил я.
Но где там! Разве можно было оставаться холодным, когда рядом плакала женщина? А плакала она беззвучно и безропотно. И эти тихие слезы творили чудо. Из склочной, эгоистичной женщины они превращали Гугину маму в маленькую обиженную девочку, и вот вы готовы были уже броситься в бой против ее обидчика.
Я крепился, а жалостливые чувства между тем уже вели свою подрывную работу. Они рисовали передо мной жизнь этой маленькой, сухонькой женщины, в центре которой был он, ее мальчик. Маме очень хотелось, чтобы этот мальчик был музыкантом, а у мальчика не было ни музыкальных способностей, ни музыкального слуха. Но мама не сдавалась.
– Пианиста делает не слух, а усидчивость, – говорила она. – Вы посмотрите лучше на кисть. У моего мальчика пальцы Антона Рубинштейна.
Из-за этих гибких, длинных пальцев Гуге пришлось все свои детские годы провести в различных музыкальных кружках. Но маме и этого было мало: мама заставляла Гугу брать дополнительные уроки и успокоилась только тогда, когда устроили его в фортепьянный класс музыкальной школы. И несколько лет тихий и послушный сын, не любя музыки, учился в музыкальной школе. И вот, когда счастье казалось Гугиной маме таким близким и возможным, появился этот новый директор и напрямик сказал маме:
– Вы зря утешаете себя иллюзиями. Ваш сын никогда не будет хорошим музыкантом.
Десять минут назад такая прямота казалась мне правильной, а вот теперь жалостливые чувства заставили меня изменить свое мнение. Я тоже снял с рычажка телефонную трубку и, следуя дурному примеру всех прочих Гугиных ходатаев, стал просить Евгения Евгеньевича сменить гнев на милость и восстановить Гугу в школе.
– Хорошо, – совсем неожиданно сказал Евгений Евгеньевич, – но только при условии, если вы повторите свою просьбу.
– Когда? Сейчас? – обрадовался я такому легкому разрешению вопроса.
– Нет, завтра в двенадцать.
– Все в порядке, – поспешил я успокоить Гугину маму. – Завтра ваш мальчик будет восстановлен.
Завтра в двенадцать, когда я пришел в школу, там сидели все десять ходатаев. Оказывается, все десять, как и я, приглашены в школу.
И все пришли – два доцента, два полковника, три медицинских работника, балерина, сотрудник Главсахара и детский писатель, и каждый был полон решимости не поддаваться ни на какие увещевания нового директора.
"Пусть директор и не пытается переубеждать нас своими речами, – думал каждый, – все равно мы будем требовать восстановления Гуги".
А новый директор, оказывается, и не собирался произносить речей. Он просто спросил:
– Кто из вас знаком с Гугой?
Мы все неловко переглянулись. Оказывается, никто.
– Тогда давайте познакомимся с ним, – сказал директор и крикнул в соседнюю комнату: – Гуга!
В класс вошел широкоплечий пятнадцатилетний парень. Он поклонился, даже не посмотрев на тех, кто примчался из-за него в школу по сигналу СОС, поднятому его мамой, и сел за рояль.
– "На тройке", – флегматично сказал он и опустил гибкие, длинные пальцы на клавиатуру.
А пальцы у него действительно были замечательные. Я невольно даже закрыл глаза, ожидая, как из-под этих пальцев польются волшебные звуки музыки Чайковского и перенесут всех нас на зимнюю сельскую улицу в веселый день масленичных катаний на тройках. Но Гугины пальцы обманули мои ожидания. Они не воссоздали картины широкой русской масленицы и не донесли ни до кого из нас ни мыслей, ни настроений великого композитора. Гуга играл холодно, равнодушно. Он даже не играл, он отрабатывал за роялем какой-то давно надоевший урок.
Директор школы неспроста устроил этот концерт. Мы жалели мать, а директор школы очень убедительно доказал нам, что жалеть следовало не мать, а сына, которого эта мать заставляла заниматься нелюбимым делом.
– Моцарт… Рахманинов… – говорил Гуга и продолжал играть без души, без вдохновения.
– Хватит, – сказал наконец, не выдержав, один из доцентов.
Гуга встал, поклонился и вышел. И в классе сразу наступило какое-то тягостное, неприятное молчание. Десять ходатаев сидели вокруг рояля, как десять напроказивших и наказанных школьников.
Само собой разумеется, что "завтра в двенадцать" директор не восстановил Гугу в школе.
Директор встал и сказал ходатаям:
– Гуга – плохой музыкант, но очень неплохой юноша. И если вы действительно хотите помочь Гуге, то вам следует прежде всего серьезно поговорить с Гугиной мамой.
Достаточно было директору напомнить об этой женщине, как все ходатаи заспешили к выходу.
"Ну, нет, с меня хватит!" – подумал и я. Однако случаю угодно было распорядиться по-другому.
Не успела наша редакционная машина тронуться от подъезда школы, как у нее заглох мотор. А так как машина была старенькая, а шофер новенький, только с курсов, то, как мы ни старались, наш мотор не желал заводиться.
– Искра пропала, – виновато сказал шофер. – Придется звонить в гараж – просить тягач.
– А по-моему, машина пойдет без тягача, – перебил шофера чей-то молодой, звонкий голос.
Я оглянулся. Вокруг нас, оказывается, уже собралось десятка два школьников. И ближе других к машине стоял Гуга.
– Много ты знаешь! – буркнул ему в ответ шофер.
– А чего же здесь знать? – спокойно сказал Гуга. – Это элементарно. Дело у вас не в искре, а в свечах. А ну, дайте ключ, – сказал он, поднимая капот машины.
И шофер подчинился этому твердому, уверенному голосу. Гуга передал какому-то мальчику свои ноты, засучил рукава и стал отвинчивать свечи.
– Правильно, – сказал он, – кольца у вас разработанные, а масла налито много, вот свечи и захлебнулись.
Две свечи Гуга подчистил ножом, две заменил новыми. Тонкие, гибкие пальцы Гуги работали быстро, ловко.
Да, это был не тот флегма, который полчаса назад сидел за роялем.
– А ну, заводи! – сказал Гуга шоферу, и мотор, к общему ликованию школьников, завелся.
Само собой разумеется, что теперь мне уже захотелось познакомиться с Гугой поближе, а так как нам было по пути, то, сев в машину, мы затеяли с ним длинный разговор о двигателях внутреннего сгорания. Гуга, оказывается, два года состоял членом Детского автомобильного клуба.
– Только вы, пожалуйста, не говорите об этом маме. Мама против, – бросает мимоходом Гуга.
И мы снова продолжаем разговор о двигателях внутреннего сгорания.
Мальчик очень образно объясняет, почему заглох наш мотор. Его руки рисуют в воздухе всю схему зажигания, за блестят.
– Нет, – тихо шепчет он, – ваш шофер не любит автомобиля.
– А ты любишь?
– Господи, конечно!
– А музыку? Только давай говорить по-честному.
Гуга на минуту задумывается, а потом, видимо, решившись, говорит:
– Вчера мне снилась нота «фа». Пришла, села над ухом и стучит, как дятел: "Фа… фа… фа…" Нет, музыка не по мне. На той неделе я пошел в автомеханическое ремесленное училище, хотел подать заявление, а там москвичам не предоставляют общежития.
– Почему же в ремесленное?
– А с чего же начинать, как не с ремесленного? Хороший специалист – тот, который идет снизу вверх. Он любую гайку сумеет выточить и привернуть. А вот когда я поработаю в цехе, тогда можно и в техникум поступить, затем в институт – учиться на автоконструктора. У меня на этот счет целый план продуман
– А рояль, значит, побоку?
– Нет, буду играть, но тогда, когда захочется, а не из-под палки. А мама этого не понимает. Я иногда думаю плюнуть на все и начать жить по своему плану, а прихожу домой и расслабляюсь. Жалко мне ее.
Мне очень хочется помочь мальчику. Но помочь Гуге – это значит поссориться с его мамой. А, будь что будет!
И вот два дня подряд мы ходим вместе с будущим конструктором двигателей внутреннего сгорания по всяким учреждениям. Мы спорим, доказываем, и наконец на Гугином заявлении появляется долгожданная резолюция: "Принять с предоставлением общежития".
У Гуги в глазах сразу загораются веселые искры. А я смотрю на радостное, возбужденное лицо мальчика и думаю в это время о его маме.
Нет, родительские мечтания не должны быть эгоистичны. Думая о будущем ребенка, мама должна сообразоваться не только с тем, что хочется ей, но и с тем, что хочется ее ребенку и к чему он способен.
Я знаю, завтра же Гугина мама начнет бегать, плакать и жаловаться на меня, и, тем не менее, я нисколько не раскаиваюсь в том, что разлучил ее с сыном и помог ему перейти из музыкального училища в ремесленное.
1949 г.