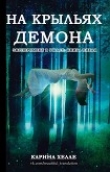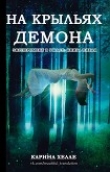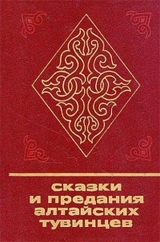
Текст книги "Сказки и предания алтайских тувинцев "
Автор книги: Сборник Сборник
Жанры:
Народные сказки
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 38 страниц)
Часто кроме разницы в объеме сказки тут нельзя даже обнаружить никаких существенных различий в содержании, художественной форме или идейной основе. По-видимому, у тувинцев не было необходимости по-разному обозначать различные виды сказок, хотя они и сознавали прекрасно разницу между сказкой о животных и богатырской сказкой, их объемом и построением. Очевидно, более существенным представлялось им все же их сходство, то, что было присуще различным видам сказок, и, может быть, следует искать это сходство в функции сказок. Исходя из общего термина «тоол», я считаю название «богатырская сказка» удачным для тех текстов, у которых много общего с героическим эпосом тюркских и монгольских народов. Они знаменуют переход к героическому эпосу, и их можно считать непосредственным предшественником героического эпоса (ср.: Новик Е. С. Обряд и фольклор, с. 224), сформировавшим основное сюжетное ядро эпоса тюркских и монгольских народов [37]. У алтайских тувинцев в силу всей их общественной ситуации еще не произошло формирование эпоса из богатырской сказки, оно только-только еще начиналось. Поэтому место их повествовательного фольклора и степень его развития определяются общим развитием традиционной культуры алтайских тувинцев, которая в целом носит более архаичный характер, чем культура многих тюркских и монгольских народов, у которых успели уже сложиться поздние «феодализованные» эпосы (термин С. Ю. Неклюдова) и такие большие эпические циклы, как «Манас», «Джангар» или как «Алпамыш», архаическую версию которого В. М. Жирмунский увидел в алтайской богатырской сказке «Алып-Манаш» [38].
М. П. Грязное обнаружил отражение центральных тем богатырских сказок и более поздних эпических песен тюрко-монгольских народов в изображениях на бронзовых бляшках V–III вв. до н. э., найденных при археологических раскопках в районе Ордоса и в Южной Сибири, – сцены охоты героя, единоборство, оживление героя при помощи женщины. Главным образом на материале бронзовых бляшек из района Ордоса Грязное приходит к выводу, что в ранней эпике роль богатырского коня была, возможно, гораздо важнее, чем в эпосах более позднего времени, а одно изображение выглядит прямо как иллюстрация к сцене борьбы из «Хевис Сююдюра» (№ 7), где богатырские кони активно вмешиваются в действие и способствуют тому, что события увенчиваются счастливым концом.
На основе исследований М. П. Грязнова можно предположить, что определенные сюжеты повествовательного фольклора Центральной Азии очень древнего происхождения. И в этом свете интересно, что сравнительное рассмотрение части предлагаемого собрания показало, что некоторые, самые распространенные у алтайских тувинцев сказки, как, например, «Бёген Сагаан Тоолай» (или «Бёген Ак Тоолай»), «Бай Назар» и «Шаралдай Мерген» (№ 5, 14, 11), встречаются прежде всего у тюркских народов и концентрируются на Алтае, вокруг него и западнее от него, т. е. скорее в западной части Внутренней Азии, причем монгольские варианты записаны от калмыков, бурят и монголов Ордосского района. «Паавылдай Баатыр» (№ 8), также весьма популярный, кажется, напротив, весьма распространен у тюркских и монгольских народов и локализуется на Алтае, в Южной Сибири и Северной Монголии. Поэтому и кажется иногда, что некоторые сюжеты имеют общие тюрко-монгольские корни, а другие принадлежат прежде всего тюркской среде. Примечательно и то, что множество этнографических параллелей с бурятами, живущими сейчас в большом отдалении от алтайских тувинцев, указывает на их более тесные отношения в прошлом и что археологические находки из Северо-Западной Монголии (Улангом) имеют соответствия в районе Ордоса.
Восточная граница ареала распространения некоторых характерных для алтайских тувинцев сюжетов явно соответствует условной линии, отделяющей различные типы каменных баб древнетюркского периода в Центральной Азии и Южной Сибири [39]. Эти беглые указания на возможность постановки интересных проблем, требующих более глубокого исследования сказок алтайских тувинцев, позволяют надеяться на то, что результат таких исследований, на задержку которых сетует Л. П. Потапов, помог бы осветить историческое прошлое алтайских тувинцев, а также внести ясность в некоторые проблемы фольклористики и этнографии. И представляется весьма удачным, что в основу такого изучения исследователь сможет положить предлагаемый настоящей книгой относительно полный материал, который удалось собрать на довольно замкнутом участке в четко ограниченное время.
Фольклор алтайских тувинцев сохранил древние представления и архаические черты их культуры в целом и сказок в частности. Разумеется, живущие на Алтае и в Западной Монголии народы и племена обменивались сказками. Алтайским тувинцам, несомненно, были известны сказки из восходящих к индийским прообразам книжных циклов о «Волшебном мертвеце» и хане Арджи Борджи – об этом свидетельствуют отдельные сюжеты. Но эти циклы не являются строгими переводами: взамен некоторых сюжетов они включают сюжеты центральноазиатского фольклорного фонда. Нельзя исключать возможности, что ряд распространенных у многих тюрко-монгольских и тибетских народов сказочных сюжетов, встречающихся также в письменных источниках, бытовал в Центральной Азии до их письменной фиксации. В связи с этим, а также учитывая архаичность культурных традиций алтайских тувинцев, не следует переоценивать влияние монгольских, буддийских сказок и письменных источников.
В памятниках народного творчества на протяжении столетий и даже тысячелетий концентрировался художественный опыт алтайских тувинцев и их далеких предков, кем бы они ни были. Благодаря своей тесной связи с жизнью людей они никогда не ощущались «устаревшими». Поэтому такие произведения, передаваемые из уст в уста, и до сегодняшнего дня сохранили свое место в духовной жизни алтайских тувинцев. И ныне эти сказки могут поведать нам о той общности, в которой они зародились, о ее особенностях в далекие времена, о ее жизни и культуре, основанной на древних традициях, а также о ее надеждах и мечтах, о стремлении к счастью и справедливости. Они являются ценным живым свидетельством прошлого этого маленького народа.
К сказкам можно отнести то, что однажды во время праздника сказал мой старый тувинский отец Шыныкбай о песнях: «Это все песни, которые когда-то создали бедные тувинцы. Это не мы их сочинили» – высказывание, в котором отразилось глубокое осознание своей связи с культурными традициями и ощущение истории своего народа. И когда тувинские сказители Алтая исполняют нам свои «черные слова из далекого прошлого» [40], нам не только приятно это, но и полезно прислушаться к ним, когда они повествуют о том, что и как было «давным-давно, в самое давнее из давних времен».
О характере перевода самое главное уже сказано выше. Русский перевод был выполнен на основе немецкого. Но чтобы избежать опасностей, которые всегда таит в себе вторичный перевод, переводчица, канд. филол. наук, доцент Б. Е. Чистова (Ленинград) работала в постоянном контакте со мной, и таким образом удалось сохранить максимальную близость к оригиналу, повествовательный стиль и художественные изобразительные средства тувинских сказителей Алтая. Слова, для которых в языке перевода не нашлось эквивалента, оставлены в форме оригинала и объяснены в словаре.
Чтобы более точно передать гармонию гласных тувинского языка в транскрипции, мы решили отказаться от практики употребления букв он у для передачи гласных как переднего, так и заднего ряда. У нас ё соответствует немецкому ö (тувинскому o); ю – немецкому ũ (тувинскому Y); э внутри слова соответствует немецкому ă; нг – немецкому ng (η в фонетич. транскрипции; тувинскому н); йо – русскому ё. От этого принципа мы отступаем только в начале слова. Долгие гласные переданы двойными гласными (аа, оо, ии, ыы, ээ, ёё, юю). Краткий звук э передается буквой е, как и в тувинском шрифте. Такая транскрипция использована лишь в словах и именах диалекта алтайских тувинцев. Тувинские слова, географические названия и собственные имена из Тувинской АССР, как и монгольские, передаются в написании, принятом уже в русском языке.
Эта книга не вышла бы без разносторонней дружеской поддержки коллег разных стран и национальностей. Я от всего сердца благодарю Чинагийн Галсана, которому я обязана знакомством с алтайскими тувинцами, успехом моих экспедиций и ценной информацией; моих монгольских коллег, способствовавших тому, что мои экспедиции могли состояться, и прежде всего профессоров Д. Цэвэгмида и Н. Соднома, М. Ш. Гаадаамба, Ц. Сухбаатара и Д. Ользийбаяра; моего мужа М. Таубе, принимавшего на себя во время моих экспедиций присмотр за детьми и домом и всегда относившегося к моей работе с участием и пониманием.
Я благодарна моим советским коллегам и друзьям, в особенности членам-корреспондентам АН СССР Б. Л. Рифтину и К. В. Чистову, вдохновившим меня на это издание, и дирекциям ленинградских отделений Института этнографии и Института востоковедения АН СССР, предоставившим мне возможность работать в городе на берегах Невы и оказывавшим мне всяческую поддержку; Л. П. Потапову, потратившему на меня много времени, поощрявшему мою работу и давшему мне много ценных советов; В. П. Дьяконовой, С. Ю. Неклюдову, помогавшим мне словом и делом; моим коллегам из Тувы и С. И. Вайнштейну, снабжавшим меня литературой из Кызыла; В. Л. Парисскому, который, несмотря на технические трудности во время ремонта в помещении фонда в ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, предоставил мне возможность ознакомиться с тувинскими публикациями, и еще многим коллегам из Ленинграда и Москвы.
От всего сердца я благодарю Б. Е. Чистову за ее тщательность и стремление вжиться при переводе в мир тувинской сказки, за наше доброе и взаимообогащающее сотрудничество.
И наконец, мысли мои с благодарностью обращаются к Алтаю, ко всем людям, которых я там встретила, – и тем, от которых я почерпнула фольклорный материал, и тем, кто просто тепло принял меня. Их всех я всегда буду помнить, любить и уважать, так как кроме песен и сказок они одарили меня еще очень и очень многим.
Работы Э. Таубе об алтайских тувинцах (в хронологическом порядке)
Kinderwiegen im Cengel-sum (West-Mongolei). – Mitteilungen des Institute fflr Orientforschung. [B.], 1967, 13, c. 199–206.
Drei tuwinische Varianten zur Sage von der Herkunft der Murmeltiere. – Studia Asiae. Festschrift fur Johannes Schubert. Pt. 1 (= Supplement to «Buddhist Yearly 1968»). Halle/Saale: Buddhist Centre, (1969), c. 263–275 [= Taube, 1968].
Mutter und Kind im Brauchtum der Tuwiner der Westmongolei. – Jahrbuch des Museums fiir Volkerkunde zu Leipzig. 1970, 27, c. 75–89.
Die Widerspiegelung religioser Vorstellungen im Alltagsbrauchtum der Tuwiner der Westmongolei. – Traditions religieuses et para-religieuses des peuples altaiques. Strasbourg, 1972, c. 119–138.
Batdzin-Her. Eine tuwinische Voiksuberlieferung aus der Westmongolei zur Entstehung zweier Musikinstrumente. – Wissenschafti. Zeitschrift der Martin-Luther-Universitat. Haile, 1973, 22 (Gesellschafts– und Sprachwissenschaftl. Reihe), c. 59–66.
Zum Problem der Ersatzworter im Tuwinischen des Cengel-sum. – Sprache, Geschichte und Kulttir der altaischen Voiker. B., 1974 (Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients. 5), c. 589–607.
Das Kastrierfest h i den Tuwinern des Cengel-sum. – Asien in Vergangenheit und Gegenwart. B., 1974 (Studien fiber Asien, Afrika und Lateinamerika. 16), c. 443–457.
Изучение фольклора у тувинцев МНР. – СЭ. 1975, № 5, с. 106–111.
Das leopardenscheckige Pferd. Marchen der Tuwiner. In der MVR gesammelt und nacherzahlt von E. Т. B., 1977 [= Taube, 1977].
Zur Jagd bei den Tuwinern des Cengel-sum in der Westmongolei. – Jahrbuch des Museums fiir Volkerkunde zu Leipzig. 1977, 31, c. 37–50.
Tuwinische Volksmarchen (ubersetzt una hg. von E. Т.). В., 1978 (Volksmarchen. Eine internationals Reihe) [= Taube, 1978].
War das Urbild des Gestiefelten Katers ein Fuchs? – Proceedings of the Cs6ma de Koros Memorial Symposium held at M3trafiired, Hungary. Budapest, 1978, c. 473–485.
Das Marchen von Bogen Sagln Tolaj und seine Beziehung zu einer Uberiieferung von der Herkunft der Cengel-Tuwiner. – Asienwissenschaftl. Beitrage. Johannes Schubert in memoriam. B., 1978, c. 139–168.
Uber das Sammeln von Volksdichtung unter den Tuwinern des Cengel-sum im Bajan– Olgij-Aimak der MVR. – Abhandlungen und Berichte des Staatl. Museums fur Volkerkunde Dresden. 1979, 37, c. 201–222.
Tuwinische Lieder. Volksdichtung aus der Westmongolei. Aufgezeichnet, iibertragen und hg. von E. T. Leipzig – Weimar, 1980 [= Taube, 1980].
Современное состояние традиционных форм быта и культуры цэнгэл ьских тувинцев. – Etnografia Polska. Wroclaw – Warszawa – Krakow– Gdansk, 1980, 24, c. 95—100.
Gemeinsamkeiten zentralasiatischer Nomadenlieder. – AOH. 1980, 34, c. 287–296.
Notizen zum Schamanismus bei den Tuwinern des Cengel-sum. – Jahrbuch des Museums fiir Volkerkunde zu Leipzig. 1981, 33, c. 43–69.
Anfange der Sesshaftwerdung bei den Tuwinern im Westen der MVR. – Die Nomaden in Geschichte und Gegenwart. B., 1981 (Veroffentlichungen des Museums fiir Volkerkunde Leipzig. 33), c. 97—108.
Die Tuwiner im Altai (MVR). – Kleine Beitrage des Museums fiir Volkerkunde Dresden. 1981, 4, c. 34–40.
Goldmadchen und Feueriunge. Zur Namensgebung bei den Tuwinern. – Kleine Beitrage des Museums fflr Volkerkunde Dresden. 1982, 5, c. 30–36.
Aspects and Results of Investigating Tuvinian Folklore. – The Arab World and Asia in Development and Change. B., 1983 (Studies of Asia, Africa and Latin America. 37), c. 267–277.
Einige Aspekte der Untersuchung tuwinischer Volksmarchen. – Beitrage zur Zentralasien– forscnung. Humboldt-Universitat Berlin. Berichte. 1983, 20/83, c. 90–99.
Relations between South Siberian and Central Asian Hero Tales and Shamanisdc Rituals. – Олон улсын монголч эрдэмтний IV их хурал (1982), III боть. Улаанбаа– тар, 1984, с. 165–171.
Zur Vergangenheit der Tuwiner des Cengel-sum nach ihrer miindlichen Uberlieferung. – KulturhTstorische Probieme Sud– und Zentralasiens, hrsg. von B.Brentjes und H.-J. Peuke. Halle, 1984, c. 143–156.
Die tuwinischen Personennamen unter historisch-ethnographischem Aspekt. – Beitrage zur Ononastik П. B., 1985 (Linguist. Studien, Reihe A, Arbeitsberichte. 129/11), c. 375–383.
Zur traditionellen Kleidung der Tuwiner des Cengel-sum. – Jahrbuch des Museums fur Volkerkunde zu Leipzig. Bd. 37, c. 99—127, табл. XV–XXVIII.
Von den Ratseln der Tuwiner im Altai. – Mitteilungen aus dem Museum fiir Volkerkunde.
Lpz., 1988, 52, c. 56–60.
Ergil-ool. Chan Togiisvek (Aufgezeichnet und aus dem Tuwinischen Qbersetzt von E. Taube). – Heldensagen aus alter Welt. B., 1988, c. 120–128, 224–257 (то же: Stuttgart, 1988) (= Heldensagen).
Zur Bedeutung von Sammlung und Publlkation tuwinischer Volksmarchen (Wolfgang– Steinitz-Gedachtnissymposium. B., 1984). (Im Druck).
Эпический фольклор тувинцев на Алтае в сравнительно-историческом аспекте. Материалы 29-й конференции ПИАК в Ташкенте. 1986 (в печати).
Der tol-Begriff und aie epische Dichtung der Tuwiner im Altai (Vortrage des 6. Epensymposiums des Sonderforschungsbereichs 12. Bonn, 1988, hrsg. von W. Heissig, Wiesbaden). (Im Druck).
Zur ursprfingiich magischen Funktion von Volksdichtung (Materialien der 31. PIAC.
Weimar, 1988). (Im Druck).
Der Igel in der Mythologie altaischer Vdlker Altaica Osloensia. Proceedings from the 32nd Meeting of the PIAC. Oslo, June 12–16, 1989. Ed. by Bemt Brendemoen. Oslo, 1991, c. 339–354;.
alajanij – alanij – a. Die Einleitungsformel eines altaituwinischen Erzahlers als etnnographische Quelle (Festschrift fur Andris Rdna-Tas. Budapest). (Im Druck). Sardaqban in den Uberlieferungen der Tuwiner im Altai (Materialien der 33. PIAC.
Budapest 1990). (Im Druck).
Die altaituwinische Version des Er-Tostiik-Stoffes im Verhaltnis zu den Versionen anderer Tiirkvolker (Materialien der 2. Deutschen Turkologenkonferenz. Rauischholzhausen. 1990). (Im Druck).
Следы сюжетов из «Джангара» среди тувинцев на Алтае. – Материалы международной научной конференции: «Джангар» и проблемы эпического творчества. Элиста (в печати).

Богатырские сказки
1. Хвала Алтаю
В стародавнее время,
Во времена, когда еще только возникал Алтай, —
Не то ли было это время,
Когда росла трава белая, как мягкая вата?
На северных склонах гор
Деревья росли, черные, как вода источников, —
Вот какие, говорят, были тогда времена!
На самые высокие вершины
Лег тогда первый лед.
В высоких скалах
Стали появляться ущелья.
Не в те ль времена было все это?
Могучий Алтай!
Когда одно за другим
Возникли дичь и птицы – эй!
И все живое – эй!
Возрадовались десять тысяч живых тварей
Своему Алтаю.
– Стал краше теперь золотой мир! —
Так радовались десять тысяч живых тварей.
Не в те ли времена было все это?
Пять видов животных стали домашним скотом [41].
И сами люди родились впервые.
Это было время,
Когда целиком раскрылся золотой мир.
А теперь перейдем-ка к тому, что касается человека.
2. Эргил-оол
Ааалаяний! Жил однажды маленький мальчик с серой лошадью-двухлеткой, с которой клочьями свисала прошлогодняя шерсть, маленький мальчик с кудлатыми волосами и зубками, как гниды.
Ааалаяний! День ото дня становился мальчик все больше похож на мужа: он рос, как трава, прибавлял в весе, как звери Алтая.
Ааалаяний! День ото дня он становился все более зрелым и разумным. Сделал себе лук из камыша, сделал себе стрелы из ковыля и пристрастился стрелять по ремням [42].
Ааалаяний! А потом он принялся стрелять вверх по взлетающим птицам и вниз по слетающим птицам.
Ааа! День ото дня мальчик все больше становился мужем, день ото дня мир становился все более прекрасным; ааа – каждый день он разбрызгивал жертвы своему великому Алтаю, привязывал жертвенные ленты к его деревьям и возносил ему молитвы. Как знать – вырос он из земли или упал с неба.
И еще была у него сине-серая лошадь-двухлетка, с которой клочьями свисала шерсть, оставшаяся с прошлого года.
Ааалаяний! На третий день прибывающего месяца он ушел молиться алтайскому небу, воскурив ему жертвы. А на четвертый день старого месяца он возвратился домой.
Ааалаяний! Сидел в один прекрасный день мальчик и размышлял: «Разве раньше не говорили: одна-единственная щепка еще не костер, один-единственный человек еще не аил». Поразмышлял так мальчик про себя, а потом поднялся на свой великий Алтай и решил отправиться куда-нибудь.
Ааа! В один прекрасный день взял он своего серого двухлетка с клочьями прошлогодней шерсти и поехал без седла, устремив взгляд прямо на север; и, оказавшись довольно высоко, увидел он какое-то завихрение, столбом поднимавшееся к небу. Если подумать, что это пыль, то скорее это похоже на дым; а если подумать, что это дым, то скорее это все же похоже на пыль.
Увидев это завихрение, мальчик задумался: «Ну как же я выгляжу: конь, на котором я еду, без седла, в руке моей никакого оружия».
Ааалаяний! Поскакал мальчик дальше и приехал к жалкому джадыру из сена. Переночевал там и снова поскакал, не меняя направления. Так он и ехал, а когда поднялся на Серый Холм Договора, до которого добрался еще накануне, и оглянулся – столб дыма, тот, что он уже раньше видел, приблизился.
«Ааалаяний! Если мне туда не поехать, то кто-нибудь, кто видел меня, решит, конечно, что я испугался», – размышлял он. Но вознамерившись ехать туда, мальчик подумал: «Проклятие, когда ты таков, что сил еще не хватает, как же это тяжело!» Так сидел он, раздираемый противоречивыми мыслями, но, хоть и тяжело было, он все-таки решил наконец: «Нет, черт побери, пристало ли человеку бояться смерти? Чем бы все ни кончилось, поеду!» Сел он на своего сине-серого двухлетка с клочьями прошлогодней шерсти и быстро поскакал к тому месту, где вздымался столб не то дыма, не то пыли. Когда мальчик скакал туда, его сине-серый двухлеток с клочьями прошлогодней шерсти вдруг остановился – а как ему было не остановиться?
Мальчик удивился, спешился, только взглянул на сине-серого двухлетка с клочьями прошлогодней шерсти, как сине-серый двухлеток заговорил.
Ааа! Губы двухлетка, похожие на крышки казана, вытянулись, и он начал говорить:
– Ааа! Ты, мальчик с зубами, как гниды, и кудлатой головой,
о чем ты думаешь, куда направляется? – так спросила его лошадь.
– Ааа! Я еду туда, хочется мне посмотреть на это завихрение, похожее на пыль, если подумаешь, что это дым, и похоже на дым, если подумаешь, что это пыль.
– Ах, как ты можешь отправиться туда, ты, малыш из малышей, ты, мальчишечка, мясо которого еще не стало мясом, кровь которого еще не стала кровью, – так сказал сине-серый двухлетка с клочьями прошлогодней шерсти.
Ааалаяний! Когда сине-серый двухлеток с клочьями прошлогодней шерсти сказал так, мальчик задумался и не знал уже, что ему делать.
– Ах, мой мальчик, – сказал сине-серый двухлеток с клочьями прошлогодней шерсти, – где же твое седло и сбруя, без них ты не сможешь скакать на мне. Где же твое оружие, без него ты не сможешь ведь схватить врага! Каково имя твоего отца, каково имя твоей матери? И какова кличка лошади, на которой ты едешь? И как зовут тебя самого? Какова цель, к которой ты стремишься? Где дорога, по которой ты отправишься? Если тебя спросят об этом, что же ты тогда ответишь?
Так сказал его конь, сине-серый двухлеток с клочьями прошлогодней шерсти.
«Ааалаяний! Тут и правда есть о чем подумать», – сообразил мальчик. Стал он размышлять, получил благословение от всех четырех копыт своего сине-серого двухлетка с клочьями прошлогодней шерсти, расстелил полу своего халата и стал ему кланяться этот мальчик. Ааа – тут взглянул его сине-серый двухлеток с клочьями прошлогодней шерсти вверх и чихнул; потом взглянул вниз и чихнул; и из одной его ноздри выпало полное снаряжение коня – седло и сбруя, а из другой ноздри выпали стрелы и лук – полное снаряжение, необходимое для того, чтобы отправиться на место боя, сбросил мальчику его сине-серый двухлеток.
Ааалаяний! Мальчик вскочил, надел на своего сине-серого двухлетка с клочьями прошлогодней шерсти седло, натянул туго двадцать пять подпруг, надел ему на голову недоуздок и узду – и все как раз подошло сине-серому двухлетку.
Ааа! Лук в черных пятнах, колчан со стрелами прикрепил он себе на бедро, и вооружение так подошло мальчику – ай-яй-яй-яй!
Ааалаяний! На голове мальчика еще был тот пушок, с которым родила его мать. Его кудлатая голова была все еще такой же, как и всегда. Ааа – сине-серый двухлеток с клочьями прошлогодней шерсти стал покусывать там и сям и съел весь пух с головы мальчика. А теперь сине-серому двухлетку с клочьями прошлогодней шерсти настала пора нарекать имена, и он обратился к своему мальчику:
– Теперь пришло нам время дать друг другу имена. И ты дай мне имя Сине-серый двухлеток с клочьями прошлогодней шерсти, одаренный при рождении двадцатью пятью умениями предсказывать будущее. А себя ты можешь назвать Эргил-оол, родившийся с зажатыми в кулаке кончиками сердец двадцати пяти настоящих мужчин из двадцати пяти разных краев, родившийся с зажатыми в кулаке кончиками сердец десяти настоящих мужчин из десяти разных краев, тот, отец которого – Небо, а мать – Земля. – Вот какое имя дал ему его Сине-серый двухлеток.
Ааалаяний! И сказал тогда мальчик:
– Получилось, кажется, очень метко! – и вскочил на своего сине-серого двухлетка с клочьями прошлогодней шерсти, одаренного при рождении двадцатью пятью умениями предсказывать будущее, опоясался, надел лук и стрелы, и с этого дня родился он как славный герой.
Ааалаяний! Теперь пожелал он узнать, что же все-таки случилось, и отправился туда, где вздымалось что-то похожее на пыль, если подумать, не дым ли это, и похожее на дым, если подумать, не пыль ли это.
Ааа! Взобрался мальчик на холм, спешился, повел свою лошадь и, еще раз оглядев все вокруг, осторожно нагнулся над вдруг оказавшимся перед ним отвесным обрывом: он убедился в том, что это поднимался дым. И, приглядевшись повнимательней, он увидел, что приближается большой пожар.
Ааа! Увидел он пожар, и огонь стал пробиваться к нему, а перед языками пламени мчался большой змей в черных пятнах, кончик его хвоста уже кое-где обгорел. И подумал мальчик: ах вот ведь тоже бедняга этот змей, как ему приходится удирать! Спасу– ка я ему жизнь! И он вытянул из лука в черных пятнах украшенное черными пятнами волшебное средство, вызывающее дождь, обратился с заклинаниями к небу Алтая, вызвал снежную бурю, загасил пожар и засыпал змея черной легкой землей, наш мальчик.
«Ааа! Хоть это и был всего-навсего пожар, но ведь все-таки победил я врага, уничтожил зловредное существо», – думал мальчик, и постепенно мысли его успокоились. Он сел на серого двухлетка с клочьями прошлогодней шерсти и опять поехал к своему джадыру из сена.
Ааалаяний! Проведя в нем вторую ночь, он утром опять вышел к покрытым снегом вершинам своего Алтая, воскурил Алтаю жертву и принес ему свои молитвы.
Ааа! Когда он снова огляделся, то увидел опять дым неподалеку от вчерашнего места и понял, что опять приближается пожар.
И снова поехал мальчик навстречу пожару. И, вглядевшись, увидел, что опять спасается от огня его вчерашний змей и кончик его хвоста уже кое-где обуглен.
«Ах, хоть это и червь земли, он ведь бежит, спасая свою жизнь, бедняга», – подумал мальчик, поднял змея тамарисковой рукоятью своей плетки и закинул его за семьдест горных гряд.
Ааа! Он опять отправился к своему джадыру из сена. И, скача на коне, Эргил-оол заметил, что тот самый змей в черных пятнах дожидается на дороге его возвращения. Подумал он: «Ну и ну, разве не забросил я его за семьдесят горных гряд? Что ему здесь надо?» – и сказал:
– Эй, я тебя убью, вот увидишь! – и схватил плетку с тамарисковой рукоятью, трижды обмотав вокруг запястья ее петлю, и уже хотел было ударить змея, но тот вдруг заговорил:
– Ааа! Мой Эргил-оол, не убивай меня! Я дожидаюсь тебя на твоем пути, потому что я из тех, кому ты помог. Я не собираюсь вредить тебе, – сказал змей.
– Ааа! Я очень спешу! Ну говори же скорей, что тебе надо сказать, выскажи то, что тебе надо высказать! – сказал он.
И когда Эргил-оол сказал это, змей ответил:
– Эй, Эргил-оол, мне хотелось бы, чтобы мы с тобой обменялись золотой клятвой и стали друзьями. Я – герой, отправившийся на войну с морем Узут. Там был один герой, которого звали Хаан на черном коне с белой звездой на лбу. Он был такой, что не хотел оставить ничего на всем большом Алтае. Ааа, сражаясь все время с этим ханом, я остался на свете совсем один и, когда не было уже никакой надежды, решил бежать, и тогда он послал за мной пламя и стал меня преследовать. Ты, Эргил-оол, спас мне жизнь. Как же мне расстаться с тобой? Пойдем вместе в мою юрту, в мою страну!
«Вот проклятие, как бы мне отделаться наконец от этого змея!» И наш Эргил-оол поднял его на рукоять своей плетки и снова закинул за семьдесят горных гряд.
Поехал он дальше, но тут остановился его Сине-серый двухлеток с клочьями прошлогодней шерсти, во времена прежнего хана назвавший себя сам Эрдинэ Гёк – Драгоценный Сине-серый. Наш Эргил-оол спешился, простер полу своего халата, снова получил благословение от всех четырех копыт коня и сказал:
– Мой Сине-серый с клочьями прошлогодней шерсти, что тебе известно? Видно ли тебе, что я умру, или видно, что вырасту?
Задавая коню эти вопросы, наш Эргил-оол держал простертой полу своего халата и молился стоя.
– Ах, этот твой змей не возвратится змеем, – сказал конь. – Ааа! Придет черноволосый юноша с широкой черной бородой и с лицом красным, как малина, и станет говорить с тобой. Будешь ли ты, дружелюбно выслушав его речь, отвечать ему по-хорошему? – вот что сказал конь.
Ааалаяний! Сел наш Эргил-оол снова на своего коня по кличке Эрдинэ Гёк и поехал. Навстречу ему показался всадник, который, увидев Эргил-оола, спрыгнул со своей лошади и, ведя ее под уздцы, подошел к нему. Поравнявшись с Эргил-оолом, он остановился.
Ааа! Наш Эргил-оол спросил сердито:
– Как тебя зовут? Где твоя земля? Мой путь не терпит задержки, до моей земли еще далеко. Если хочешь сказать что-нибудь, говори скорей!
– Я пустился в путь и жду Эргил-оола, чтобы встретиться с ним и сделать его своим старшим братом. Я тот, кто пришел, желая увидеть твое юное лицо, – сказал он. – Ааа, я господин всего живущего в море. Ну а где ваша земля, какова кличка вашего скакуна? Каково ваше собственное имя? Меня зовут Один из девяти героев-ленников Гесер Богды, – сказал он.
– Что касается моего скакуна, то его зовут Сине-серый двухлеток с клочьями прошлогодней шерсти, одаренный при рождении двадцатью пятью умениями предсказывать будущее. Что же до моего собственного имени, то зовут меня Эргил-оол, мать которого – Земля, отец которого – Небо, – сказал Эргил-оол.
– Ааа! Теперь я отправлюсь с вами, пойдем в мою юрту! – настойчиво просил тот.
И когда тот стал уж очень наседать, Эргил-оол сказал:
– Я приеду завтра! – И, узнав у него название местности, он сделал зарубку на солнце, забил колышек на луне, точно назначив день и месяц, и дал обещание тому человеку.
Оба они стали добрыми друзьями, наши герои, призвав на свои головы защиту Балджыр Бургана, на свои косы – защиту Гесер Богды, а на свои темечки – защиту Очир Бургана и дав друг другу золотую клятву.
Ааалаяний! Теперь наш Эргил-оол опять поехал к своему джадыру из сена, а наш юноша с обрамляющей его лицо черной бородой и лицом красным, как малина, повернул прямо на север и ускакал. Встав утром, наш Эргил-оол тотчас собрался и поехал прямо на север, вслед за своим добрым знакомцем.
И, скача по дороге, он вспомнил слова, сказанные ему накануне его добрым другом.
– Когда ты взберешься на большую и высокую гору Сюмбер, то увидишь тогда перед собой большое море, – сказал он. – Если ты, высоко подняв полы своего халата и закрыв глаза, прыгнешь на середину этого моря, то там окажется дом, сложенный из трех домов, вставленных друг в друга, к нему привязаны собаки Озер и Гозар. Как будто не видали они никогда человека, набросятся на тебя собаки Озер и Гозар. А ты, подумав о том, что эти собаки еще никогда не видали человека, – хлоп! – и опустишь полы своего халата, и обе собаки остановятся. Когда ты пройдешь в третью дверь, увидишь, что там на черном троне лежит и спит змей, черный, как коршун. Если ты скажешь: «Добрый друг, все ли у тебя мирно и благополучно?»– я, конечно, проснусь. Над этим змеем на троне в черных пятнах будет спать, свернувшись кольцами, змей в черных пятнах. Если ты поздороваешься с ним так: «Отец, все ли у вас мирно и благополучно?»– то поднимется и подойдет к тебе старик. А над ним на троне в бледных пятнах будет спать змея в светлых пятнах. Если ты обратишься к ней с приветствием: «Ну, матушка, все ли у вас мирно и благополучно?» – то встанет старая женщина и пойдет тебе навстречу.