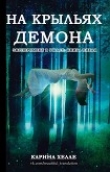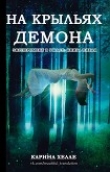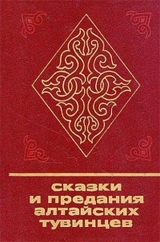
Текст книги "Сказки и предания алтайских тувинцев "
Автор книги: Сборник Сборник
Жанры:
Народные сказки
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 38 страниц)
Но, несмотря на подобное вмешательство не зависящих от нас сил и другие объективные трудности, в основном работа протекала гладко, и я с благодарностью могу признать, что не только все, хоть как-то участвовавшие в этой работе, но и руководящие кадры администрации кооператива и сомона оказывали мне всяческую поддержку: предоставляли в мое распоряжение джип или лошадей или освобождали сказителей на время записи от работы.
Наша работа в 1966 г. стала общественным событием в центре Цэнгэла и его кооператива. Уже утром, когда мы только еще ожидали открытия «красного уголка», к нам подходил то один, то другой житель сомона, чтобы завязать разговор или просто, как это было прежде всего с детьми, поглядеть на нас. Каждый, у кого было дело в сомоне, заходил в течение дня – кто надолго, кто на короткое время – в наше помещение или просто прижимался лицом к окошку. Недалеко от нас как раз строился новый, большой клуб, и работавшие на строительстве мужчины, женщины и молодежь приходили к нам в перерыв и были нашими постоянными гостями. Некоторые дети стояли иногда часами и слушали. Их всех интересовали не только сказки, которые тут можно было услышать в столь неурочное время – летом и среди дня, но и наш магнитофон, который чудесным образом удерживал и передавал человеческий голос, и наверняка уж и совсем непохожая на них женщина – ведь я была первой европейкой, приехавшей в Цэнгэл.
Сначала многим все равно было непонятно, для чего кто-то из далекого «Германа» проделал к ним долгий путь, чтобы записать то, что рассказывают друг другу тувинцы и чего нет даже в книгах. Сначала это чуть не стало даже нашей главной трудностью. Стереотип билвес мен («я ничего не знаю») прежде всего объяснялся тем, что люди, к которым я обращалась, были твердо убеждены в моем интересе лишь к сказкам из книжек, т. е. к монгольским сказкам (все тувинцы в Цэнгэле говорят и по-монгольски: молодые, уже посещавшие школу, – довольно хорошо, некоторые старики, никогда не покидавшие родной алтайской области, – чуть-чуть). То, что передавалось только изустно, они вовсе не считали столь важным, чтобы это могло заинтересовать меня. Может быть, известную роль сыграло здесь то обстоятельство, что по причине их малочисленности и рассредоточенности тувинцы в МНР не считаются национальным меньшинством, как казахи, поэтому тувинские дети не имели возможности учиться на своем родном языке. Им приходилось выбирать казахскую или монгольскую школу, причем в основном предпочтение отдавалось последней.
Нам удалось постепенно развеять это сомнение в ценности для других их собственного народного творчества, и в этом отношении в следующие приезды нам уже было намного легче. Первоначальная сдержанность со временем отступила и сменилась куда большей готовностью рассказать нам то, что еще сохранилось. Позже были даже такие случаи, когда кое-кто сам приходил к нам и предлагал что-нибудь рассказать. Так было, например, со столяром Джоксумом. В 1982 г. в юрте брата Ч. Галсана, где я жила во время этого приезда со своим сыном Яшей, появились два старика и спросили, где «ящичек»– имелся в виду кассетный магнитофон, они хотели спеть мне кое-что. Увы, в этот день у меня поднялась температура, и сын самостоятельно отправился в отдаленный аил к одному сказителю, прихватив с собой, конечно, магнитофон. Оба старика были очень разочарованы тем, что я записала их тексты только от руки и что им не удалось после записи услышать свои голоса из «ящичка», – они проделали на своих лошадях долгий путь через горы, и им необходимо было возвратиться в тот же день.
На второй год, в 1967 г., учитель П. Дживаа дал мне переписать тетрадку с пословицами и загадками, из которых я заимствовала около 150 неизвестных мне единиц.
Летом 1969 г. нам сказали, что многие старшеклассники завели тетрадки-песенники, и мы нашли в таких тетрадях еще не записанные нами тексты. Один из учителей дал домашнее задание каждому ученику записать по тувинской сказке (конечно, на монгольском языке); результатами этого опыта были, правда, лишь краткие варианты уже имевшихся сюжетов. Все эти свидетельства собственной инициативы тувинского населения не только принесли пользу моему собранию, но и доставляли мне огромную радость.
В два моих последних приезда, в 1982 и 1985 гг., к тому благоприятному обстоятельству, что я уже побывала раньше в большинстве аилов и юрт, добавился и еще один момент, быстро рассеявший последние следы сдержанности: я привезла с собой фотографии, сделанные в прошлые приезды, и некоторые свои иллюстрированные публикации. Все сгрудились вокруг них, и прежде всего женщины, которые вообще– то в беседах вели себя сначала довольно сдержанно. «Смотри-ка, желтый Дюпор!»; «А тут старшая сестра Балсын!»; «А это кто же?»; «Гупан, добрый наш!»; «Пха!»– так и жужжало все вокруг. Иногда мне даже удавалось помочь в идентификации той или иной личности, особенно на фотографиях детей, которые тем временем давно уже стали взрослыми. Тогда раздавались слова признания: «Пха, она знает наших лучше, чем мы сами!» И сразу же завязывался разговор. Сейчас это было особенно важно, так как я приезжала на относительно короткое время и сокращение вводного церемониала оставляло мне больше времени на опросы и записи. И те, кто «что-то знает», быстрее и охотнее делились своими знаниями.
Уже в первый год нашей работы в живом интересе к ней местного населения открылась еще одна особо важная сторона: постоянное присутствие при наших записях в «красном уголке» семи-восьми лиц заменяло исполнителям публику, большинству из них необходимую. Кроме того, оно смягчало непривычную для исполнителя очень скучную по сравнению с вечерним сидением в юрте атмосферу маленькой комнатки клуба. Комната была светлая, уставленная мебелью, немыслимой в юрте. Исполнитель сидел на стуле, что было ему крайне непривычно, и поэтому, конечно, неудобно, перед аппаратом, которого он никогда раньше не видел, в технике которого ему чудилось что-то неладное и таинственное. И, несмотря на постоянное движение – приход и уход публики, было, несомненно, много положительного в том, что таким образом сказитель был все время окружен знакомыми. Во все последующие годы ситуация во время записывания или полностью, или частично – если это происходило днем, то хотя бы в пространственном отношении – соответствовала привычному для сказителей ритуалу исполнения фольклора. Кто хоть раз наблюдал настроение при свободном рассказывании в юрте, тот поймет, что записывание сказок в нетипичных обстоятельствах вроде тех, в которых это происходило в первое лето в Цэнгэле, лишь скудное, вынужденное решение и в некоторых случаях может даже отрицательно повлиять на результат, так как вся обстановка и настроение рассказчика очень важны для самого процесса рассказывания и определяют, насколько удастся рассказ. Правда, в 1966 г. мы и в таких условиях записывали Байынбурээда, одного из известнейших рассказчиков Цэнгэла, и эти записи – из лучших в моем собрании.
Обычно же сказки рассказывают в юрте по вечерам, особенно в длинные зимние вечера. В очаге горит огонь, в котле кипятится молоко вечерней дойки или варится мясо. Сидя вокруг очага, едят и пьют. Одна-единственная свеча освещает лица, и помещение кажется еще меньше, чем оно есть на самом деле. И только когда все насытятся, отставят в сторону блюдо для мяса, а пиалы с арагы по крайней мере один раз обойдут круг, рассказчик произнесет свое многозначительное: Джэээ – омды… – «Ну, вот…» Все смолкает. Может быть, какая-то женщина скажет еще что-нибудь ребенку, понизив голос. Все напряженно прислушиваются. Рассказчик сидит на почетном месте в типичной для мужчин позе – скрестив под собой ноги или выставив правую ногу и положив на колено правую ладонь. Старшие дети сидят на кроватях или лежат на животах, оперев подбородки о ладони. Младшие сидят на коленях матери или бабушки, прижимаясь к ним. Старшие мужчины тоже сидят на почетном месте, прислонясь спинами к деревянным сундукам или передним спинкам кроватей. Снаружи слышны еще шаги, кто-то входит, здоровается почти беззвучно, садится. Быстро передают друг другу, что будет рассказываться.
Сказки рассказывают, а старики часто и напевают их, особенно богатырские и волшебные. Рассказчик чуть раскачивает из стороны в сторону верхнюю часть тела или сильно подрагивает плечами, производя движения, напоминающие танцевальный стиль, характерный в Западной Монголии. Одни сильно зажмуривают глаза, и создается впечатление, что они полностью погрузились в мир своих героев. Другие наблюдают за реакцией своих слушателей и сопровождают свое исполнение поясняющими жестами или время от времени вставляют объяснение от себя. Кто-то очень собран и серьезен, только в комичных местах прозвучит иногда легкий смех. Некоторые рассказывают очень живо и сами от души веселятся, изображая забавные сцены – когда, например, герой в конце скачек хочет остановить свою лошадь, но делает это неправильно, и поэтому она продолжает тащить его за собой. От их темперамента зависит и то, как они попивают арагы. Например, Байынбурээд, когда он в 1967 г. рассказывал в юрте, почти ничего не пил. Д. Дагва, напротив, под конец был почти пьян. И позже, при письменной фиксации его текстов с магнитофонной ленты, обнаружилось, что он в конце сказки перепутал имена. Рассказчик он довольно живой. Он стал исполнять нам сказку «Хевис Сююдюр» однажды после обеда, когда кроме нас присутствовали только женщины и дети из двух наших юрт. Не прошло и десяти минут после начала рассказа, как он прервал его, сказав: «Дети, я ведь не бесчувственный какой, мне нужны слушатели!» Тогда кто-то поскакал в соседний аил и вернулся с несколькими мужчинами. Этот эпизод показывает, на кого ориентирует рассказчик свое повествование – явно не на часть сообщества и отнюдь не на детей, а на всех членов общества в целом и даже прежде всего на взрослых. Этот пример показывает и то, что отчетливо прослеживается всегда: исполнение фольклора не просто что-то вроде развлечения для уже присутствующих, а более серьезное событие, которое притягивает к себе людей из ближнего окружения и даже издалека.
Во время исполнения слушатели не соблюдают полной тишины. Они достают себе из тарелок лепешки, сушеный творог и сахар, хозяйка время от времени наполняет пиалы, из рук в руки передается фляжечка с нюхательным табаком. Слушатели живо реагируют на описываемые события. Раздаются восклицания, выражающие сожаление и сочувствие, когда герой начинает отставать, радость и удовлетворение, когда он все-таки оказывается победителем, смех и легкие насмешки, когда он ведет себя глупо и неловко, и слова отвращения и презрения в адрес злонамеренного хана или коварных братьев. Слушатели сопереживают, они радуются и страдают вместе со своими героями. И всегда испытывают облегчение, когда счастливым образом преодолены все препятствия. В известной мере они переносят события сказки на свою собственную жизненную сферу. И это является доказательством того, насколько они, хоть и бессознательно, идентифицируют себя с образами сказок. Когда герой побеждает мангыса, обязательно говорится: «Ну и задал же он ему!» Когда братья Бёген Сагаан Тоолая (№ 5) готовят гибель своему младшему брату, мать Галсана взволнованно воскликнула: «Как только представлю себе, что мой Гагаа мог бы так дурно обойтись с моим Джурук-уваа! О мой богатый Алтай!» Иногда кто-нибудь вмешивается, считая, что какой-то эпизод рассказан неверно, какая-то картина не так изображена, неправильно названо имя. В одном случае этим и кончается, в другом – вспыхивает спор со ссылками на других рассказчиков: «Тогда, в моем детстве, такой-то рассказывал именно так».
Во время моих поездок число лиц, о которых мне говорили, что они могут что– то рассказать, и лиц, от которых я уже кое-что записала, возросло до 52, не считая тех, от кого я записала песни, загадки, пословицы и шаманские заклинания. С восемью из них нам так и не удалось встретиться. Сомон Цэнгэл с севера на юг тянется примерно на 240 км. Наибольшее расстояние в направлении с востока на запад – около 120 км. Не все аилы достижимы на моторном транспорте. Мы ездили на джипе и на грузовиках, даже на грузовиках, полных дров, но чаще всего на лошадях. И когда с первого раза мы не заставали в далеком аиле исполнителя, уехавшего на несколько дней, нам не всегда удавалось поехать туда еще раз.
В ноябре 1985 г. сильные снегопады положили конец дальнейшим поездкам в горы. Кое-какие встречи не дали положительного результата, в 37 случаях нам что– нибудь рассказали. (К ним следует добавить еще Джучаша, четырех с половиной лет от роду, старшего сына учителя Баатыра, который рассказал нам две крохотные сказки, когда мы в 1967 г. были в гостях в юрте его родителей. Чувствовалось, что у него что-то на уме, и наконец его мать сказала, что и он хочет рассказать что-нибудь «своей старшей сестре Рийке», т. е. Эрике. Я дала ему микрофон, и он начал рассказывать прерывающимся от волнения голосом. Никогда мне не забыть, как потом, широко открыв огромные сияющие глаза, он слушал собственный голос и все спрашивал, пригодится ли мне то, что он рассказал.)
37 моих исполнителей (среди них 9 женщин), из которых кое-кто уже в пенсионном возрасте, можно классифицировать следующим образом: 15 пастухов (один из них, бывший шаман, занимался еще и кузнечным делом), 3 столяра, 6 доярок, 2 мастера молокозавода, 1 сплавщик, 1 полевая сторожиха, 1 охотник (бывший лама), 1 учитель, 1 студент, 3 ученика, 1 старик (когда-то был один из самых богатых людей Цэнгэла), 2 «домашние хозяйки». Следует также заметить, что деятельность тувинских женщин и сегодня еще скорее можно сравнить с работой альпийских пастушек, чем с тем, что мы понимаем обычно под понятием «домашняя хозяйка», а все названные мужчины хотя бы частично или время от времени занимаются работами, типичными для скотоводов-кочевников, и охотой.
Дифференциация исполнителей по возрасту тоже очень показательна: до 20 лет (кроме маленького Джучаша)– 3; 30–40 лет – 3; 40–50 лет – 6; 50–60 лет – 8; 60–70 лет – 7; свыше 70—7. В Тувинской АССР положение очень сходное: возраст 96 информантов фольклорной экспедиции лета 1967 г. был от 40 до 86 лет [17]. В районе Монгун-Тайги, расположенном на юго-западе Тувинской АССР, отделенном от остальной территории Тувы труднопроходимыми горными хребтами, напротив, есть хорошие знатоки фольклора и в младшем поколении и даже дети дошкольного возраста пробуют свои силы в речитативно-напевном исполнении его [18].
Состав моих исполнителей показывает, сколь важны были регулярные поездки, для того чтобы успеть сохранить то, что еще можно было зафиксировать и что теперь уже потеряно, так как многих из обнаруженных нами сказителей сегодня уже чет в живых. Всякая задержка, отодвигавшая следующую поездку за эти тринадцать лет – с 1969 по 1982 г., означала невозвратимую потерю.
Только семь из моих рассказчиков первых трех лет какое-то время жили вне сомона Цэнгэл и перемещались по Монголии. Двое – родом из области, которая находится по ту сторону монгольской границы, на территории КНР. Один из них, Байынбурээд, переселился сюда еще в 1927 г. из местности Сундарыг вследствие военных столкновений между казахами и китайцами. Б. Усгээн, напротив, оставил КНР позже, спасаясь от «культурной революции».
Никто из них не является профессиональным сказителем, т. е. зарабатывающим на жизнь исполнением фольклора. По словам местных жителей, таких среди тувинцев Цэнгэла никогда и не было. И все же они, конечно, отличаются друг от друга различным поведением при исполнении сказок и художественным качеством исполнения. Иные из их числа рассказывают нам то, что когда-то слыхали и сохранили в памяти, они стараются передать как можно добросовестнее содержание, так, будто беседуют с вами о каком-то событии. Вне семейного круга они вообще не рассказывают, да и нам рассказали что-то только потому, что мы их об этом попросили.
Есть и другие, которые рассказывают более часто и уже славятся как знатоки сказок, и исполнение их отличается от упомянутого выше тем, что они употребляют при исполнении стилистические средства, например общие места или аллитерационный стих. По способу выражения и его зрелости они немногим отличаются от известных сказителей. Так, в сказках столяра Джоксума (№ 9 и вар. к № 5, 8 и 10), который, по собственному признанию, всегда в дни новогоднего праздника рассказывает сказки жителям своего аила, очень хороши образные выражения, но в фабуле его сказок есть пробелы и слабые места, – возможно, дело в возрасте рассказчика. Варианты таких исполнителей обычно короче, чем варианты широко известных сказителей (тоолучу), которые и сами себя в отличие от предыдущих осознают сказителями, хотя и они из присущей им от природы скромности, как, например, Байын– бурээд или Б. Семби, не сразу обнаруживают свои таланты. Что же касается способа изложения и передачи текста, они считаются знатоками. Их тексты, главным образом волшебные и богатырские сказки, относительно длинны, как правило, они их напевают, и время исполнения определяется тем, приходится ли оно на длинные зимние или более короткие летние вечера. В большинстве случаев традиция перенята тоже от известного рассказчика, нередко от отца, от которого сказка была воспринята давно, еще в детстве. Но и другие исполнители часто могли указать, от кого именно они усвоили рассказанную нам сказку.
Большой опыт и натренированность в рассказывании сказок, а также индивидуальный талант проявляются в уверенном владении сюжетом и традиционными художественными средствами. Рассказчик не привязан строго к какому-то определенному тексту [19]. Но он придерживается твердых правил и законов. Интересно сообщение А. К. Калзана о его наблюдениях в самом близком к сомону Цэнгэл районе Тувинской АССР – Монгун-Тайге, где молодые рассказчики, особенно дети знатоков сказок, по возможности избегают исполнять что-либо в присутствии родителей, но не потому, что это им запрещено, а из-за требования рассказывать правильно и, без искажений [20]. Мне приходилось и у пожилых людей наблюдать последствия того же требования ничего не искажать при рассказывании сказок. Например, дважды запись не могла состояться, так как в первый раз сказитель не мог точно вспомнить имени героя, а во второй – исполнительница забыла кличку его коня (ср.: Taube Е. Zur urspriinglich magischen Funktion). Опустить имя было явно нельзя, в то время как сокращение сюжета – скажем, по причинам отсутствия времени – оказывалось вполне возможным.
Сюжет и постоянный запас формул и стихов являются в известной мере тем материалом, из которого рассказчик, используя свои знания о строении и характере сказки вообще (как, например, троичность, гиперболы, нарастание действия или качеств) при всяком новом исполнении именно этой своей сказки, а не какой-либо другой, вновь создает ее в соответствии с данными условиями и обстоятельствами. Я, правда, убеждена, что хороший рассказчик, если он расстроен, вообще не расскажет ничего; и все-таки следует сказать, что физическое и психическое состояние и внешние обстоятельства, как, например, отведенное исполнителю время или ограничение его, спокойствие или помехи во время рассказа, состав публики и степень ее внимания, являются решающими факторами того, каким будет художественный результат.
Из разговоров после исполнения сказок следовало, что какой-то слушатель уже слыхал эту сказку один или несколько раз от того же исполнителя, который в прошлый раз выпустил тот или иной мотив или целый эпизод, а иногда и сам исполнитель высказывался в таком роде, и эта вариативность каждой сказки – даже в репертуаре одного сказителя – и есть в конце концов одна из причин того, что отдельные, особенно любимые сказки имеют множество вариантов.
Первое время я стремилась записать как можно больше различных сказок, чтобы получить представление о циркуляции сказочных сюжетов в среде тувинцев, и поэтому сначала я отказалась от записывания вариантов уже имевшихся у нас сказок. Позже мы записывали и варианты самых распространенных сказок, например пять вариантов «Бёген Сагаан Тоолая» (№ 5, 6), по четыре – «Паавылдай Баатыра с конем леопардовой масти» (№ 8—10) и «Хитрого лисенка» (№ 47–49), по два – «Мальчика с тысячью буланых лошадей» (№ 22, 23) и «Юноши с собакой, кошкой и рыбой» (№ 24, 25). В 1982 и 1985 гг. к уже имеющимся в собрании сказкам добавились еще и новые варианты.
В настоящий сборник включены и некоторые из вариантов излюбленных сюжетов, чтобы дать представление о характере вариантности и сохранить хоть какое-то соответствие реальному составу устной традиции.
После того как материал был просмотрен и приведен в порядок, мне показалось, что было бы особенно интересно сделать несколько записей одной сказки от одного и того же сказителя через определенные промежутки времени. Это позволило бы понять многое в бытовании сказки вообще. Но, к сожалению, мне не дано было реализовать это намерение; как я уже писала выше, после тринадцатилетнего перерыва я уже не застала в живых лучших моих сказителей.
В наших алтайско-тувинских сказках текст в большинстве случаев основан на магнитофонной записи. Но, конечно, случалось и так, что мы слышали чье-нибудь исполнение там, где не было возможности использовать магнитофон, работавший от электрической сети, или там, где мы, не рассчитывая на «улов», не имели его при себе. Так случилось, например, в 1966 г. в центре аймака Улэгэй, куда мы поехали только для того, чтобы купить книги. В юрте родственников Галсана нам встретилась женщина по имени А. Бааяа, которая на наш вопрос о сказках неожиданно ответила: «Грудь моя полна ими» – и сразу же начала рассказывать. В таких случаях мы просили рассказывать помедленнее, чтобы Галсан успел записывать вслед за исполнителем. Но это мешало свободному течению речи рассказчика, мы давали ему спокойно рассказать, записывая лишь опорные места, а после исполнения сказки Галсан записывал все и лишь в отдельных случаях – на следующий день, опираясь па заметки, сделанные во время рассказа и фиксировавшие имена, специальные понятия, удачные или оригинальные сюжетные повороты и выражения, образные сравнения, формулы и т. п., как на остов, красную нить развития действия. У сказок, записанных таким образом, названо в комментариях имя сказителя. С большим промежутком записаны были только № 19 и балладоподобная легенда «Балджын Хээр» № 77).
При расшифровке магнитофонных записей 1966 г. обнаружилось, что колебания в напряжении электрического тока, произведенного специально для нас, отразились на качестве звука, но только запись «Балджын Хээра» оказалась непригодной. Ч. Галсан записал этот текст, связав воспоминания об исполнении Байынбурээда с воспоминаниями своего детства, когда он не раз слышал эту историю. У меня было
много случаев убедиться, насколько близки Галсану традиции его народа. Но иногда в нем просыпался студент-германист, которому хотелось немножко приукрасить текст, когда рассказ казался ему слишком простым, И нелегко было убедить его в том, что тот хорош именно такой, каков он есть. От природы он наделен большими способностями рассказчика, которые, несомненно, были разбужены и активизированы его участием в собирательской работе, новой встречей с устными традициями его народа в столь концентрированной форме. (Примечательно, что Ч, Галсан в это же время начал писать рассказы, по большей части на немецком языке, и за это время вышло по сборнику его рассказов – на немецком и монгольском языках [21]; по языку и стилю эти рассказы несут на себе явный отпечаток фольклора алтайских тувинцев.)
В текстах сказителя всегда переплетены друг с другом традиционное и индивидуальное. Индивидуальный, творческий элемент весьма силен в этой редакции «Балджын Хээра».
К полевой работе примыкало переписывание текстов с магнитофонной пленки, что Ч. Галсан взял в основном на себя, а в 1985 г. к нему присоединился и его племянник Гагаагийн Золбаяр (студент-монголист).
Сказочный репертуар алтайских тувинцев содержит все главные виды сказок, встречающихся в фольклоре самых разных народов: сказки о животных, волшебные, богатырские, бытовые, этиологические сказки, сказки о глупом чудище, сказки– анекдоты и сказки-легенды, кумулятивные сказки и небылицы. У различных народов количественное соотношение сказок разного вида не всегда одинаково. А в нашем конкретном случае можно наблюдать и четкую разницу в относительной частотности распространения отдельных видов сказок у тувинцев Тувинской АССР, как можно судить по опубликованному материалу, и у тувинцев Алтая.
И рассматривать эти группы сказок мы будем не в хронологической последовательности – от более древних по происхождению к более поздним, как это принято, а в соответствии с их значением в повествовательной традиции, как это выявилось на основе собранного материала и впечатлений, полученных б ходе полевых исследований, – начиная с малых форм, а затем переходя к неразрывно связанным друг с другом волшебным и богатырским сказкам.
Относительно слабо представлены сказки о животных, – может быть, и потому, что с ними еще не связано никаких дидактических целей (см. ниже). В них действуют животные, наделенные человеческими свойствами, отношения которых друг с другом построены по модели человеческого общества. Появляются в таких сказках и люди, но как фигуры второстепенные. Если в сказках о животных часто в аллегорической форме отражена социальная ситуация, то в тех немногих сказках о животных, которые удалось записать от алтайских тувинцев, социальному аспекту отведена, пожалуй, крайне незначительная роль. Хотя и в них присутствует тема борьбы слабых с сильными, но более существенной представляется мне мифологическая подоплека. Выбор животных довольно узок и соответствует природной и экономической среде. На стороне слабых, которые, однако, проявляют отвагу и находят выход из любого положения, маленький бычок-ячок, козленок, ягненок, птичка, тарбаган и особенно часто лисенок; сильных представляют волк, медведь, человек и старуха– джелбеге – мифологическое чудовище, особенно часто фигурирующее в волшебных и богатырских сказках.
Два животных выступают как бы центральными фигурами – лисенок и тарбаган. Лисенок, почти всегда наделенный в сказке этой уменьшительной формой имени (по-тувински дилгижек, дилгижек-оол), хитер и лукав и использует эти свои качества против превосходящих его силой зверей, человека или джелбеге (ср. ниже). Но иногда он оказывается и полезным человеку, и не только в сказках о животных, но и в варианте сказки «Кот в сапогах» (КНМ 214, АТ 545В), где он воздает юноше за спасение своей жизни тем, что помогает ему жениться на красивой и богатой невесте (ср. русскую сказку «Козьма Скоробогатый»). Хитрости лисенка по отношению к волку, медведю и джелбеге, по нашему ощущению, обман и коварство, и все– таки лисенок не несет за это наказания, и на его стороне остаются симпатии рассказчика и слушателей. Сказки этого типа распространены и популярны во всей Средней Азии и до Ладака и Тибета, где, правда, у оседлых тибетских групп роль лисенка часто отводится зайцу. Это отличие в функции лисицы, например, в немецкой (да и в русской) сказке и во всем немецком языковом ареале, где слово «лисица» до сих пор имеет негативное значение как синоним злокозненной хитрости, объясняется разной экономической основой. Для оседлых крестьян лиса – вредитель, наносящий урон домашней птице и крольчатнику. А для кочевых скотоводов лиса – в отличие от волка и медведя – не представляет собой никакой опасности. Для охотников она не только дичь и по крайней мере полезный объект охоты, но – при их тесной связи с природой – еще как бы и достойный противник, хитрость которого они ценят, так как она бросает им вызов; во всяком случае, лиса – это ценный дар природы, и к ней относятся уважительно. Поэтому отношение к лисе у охотничьих народов и не может быть таким, как у оседлых крестьян.