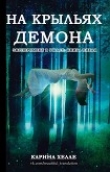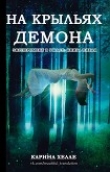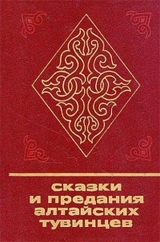
Текст книги "Сказки и предания алтайских тувинцев "
Автор книги: Сборник Сборник
Жанры:
Народные сказки
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 38 страниц)
К художественным средствам тувинских сказок Алтая следует отнести обильно употребляемые стереотипные epitheta ornantia, например: нож с желтой рукояткой, желто-крапчатый или черно-крапчатый лук, высота в семьдесят саженей, огонь без дыма, плечи, данные родителями, рожденный мужем (+ имя) и многие другие. Рассказчик пересыпает свой текст афоризмами и пословицами, которыми богат тувинский язык, и широко пользуется изысканными, образными сравнениями. Наиболее велика концентрация этих художественных средств в богатырских сказках.
Наконец, к художественным средствам сказителя следует отнести и то, как он преподносит свой сюжет. Я уже упоминала, что алтайские тувинцы исполняют сказки так, как обычно исполняют только героический эпос, – поют их. Подобное известно и у алтайцев, у которых даже есть специальное название для таких поющихся сказок – кай чёрчёк. Такое исполнение обычно сравнивается с речитативом. Но лишь условно можно отнести это к исполнителям наших сказок. Они используют определенные мелодии, состоящие из двух фраз, в соответствии с ними делится на части и текст, а мелодии поочередно повторяются. В мелодии можно отметить вариации темы, причина которых – в вариациях числа слогов и, стало быть, в различной длине сегментов текста. Возможно, например, повторение отдельных звуковых рядов, прежде чем будет пропет завершающий звуковой ряд. Сегменты текста, ложащиеся на две фразы мелодии там, где имеется синтаксический параллелизм, соответствуют двум стихотворным строчкам. Если речь идет о прозе, они являются частями предложения. Так как членение сложноподчиненного предложения происходит не вполне произвольно, а по синтаксическим группам, то получаются отрезки текста различной длины. Если числа их слогов недостаточно для полной фразы, текст может быть дополнен семантически не значащими слогами (у Байынбурээда это часто лай – лай – лай – лай) или вопросительным эмес бе! („не так ли это было?“) и т. п., причем не исключено известное эмоциональное содержание иных вставок. Подобным же образом ради сохранения поэтической формы могут придумываться слова похожего звучания, но не имеющие семантического значения, и с их помощью может осуществляться аллитерация.
По моим наблюдениям, совпадающим, с наблюдениями Л. К. Калзана в районе Монгун-Тайги, в процессе исполнения могут в зависимости от содержания сменять друг друга две-три разные мелодии, что непосредственно связано с тем, о чем в данный момент повествует сказка. Так, например, мелодия меняется, когда рассказывается о том, что герой отправляется на опасные подвиги. И хотя мелодии отдельных сказителей отличаются друг от друга, они звучат в одной тональности и имеют сходные признаки. Вот, например, основная мелодия Байынбурээда, состоящая из двух музыкальных фраз.
Первая фраза:

Вторая фраза:

Звуки, заключенные в скобки, в зависимости от текста могут выпасть. Вместо четверти могут быть две восьмые.
Вот некоторые допустимые вариации.
К первой музыкальной фразе:

или:

или:

Ко второй музыкальной фразе:

или:

или:

К этому примыкают вариации третьего и четвертого (или пятого и шестого), 1 актов, которые могут соответствовать вариациям двух последних тактов первой музыкальной фразы.
Мелодия расчленяет и прозаический текст [25]. Исполнители поют по-разному. Иногда они, как Байынбурээд, начинают отдельные фразы мелодии громким голосом, но уже на втором слоге снижают интенсивность и к концу, особенно если еще и добавлены незначащие слоги, могут перейти на бормотание. Притом первый слог первой фразы мелодии несет на себе основное ударение. Хотя вторая фраза и начинается с отчетливо ударного слога, но по сравнению с первой ударение это более слабое. Такая техника позволяет исполнять на одном дыхании довольно длинные пассажи одной музыкальной фразы – в 13, 17 или в 21 слог. Очень редко случается, чтобы исполнитель сделал второй вдох до конца музыкальной фразы. Ударение первого слога и первого тона мелодии повторяется всякий раз в начале новой фразы. Это создает слегка варьируемый, но в принципе постоянный ритм, и исполнение длинных сюжетных пассажей напоминает поэтому бесконечную песню.
Некоторые сказители, как, например, М. Хойтювек или Д. Дагва, начинали исполнение в целом относительно однообразно и размеренно, но потом могли намного повысить интенсивность пения и его выразительность. Они могли, например, ради отчетливого выделения прямой речи из остального текста повысить голос и скорее говорить, чем петь, и тем самым внести в исполнение больше движения и напряжения и добиться драматического эффекта. М. Хойтювек начинал свое исполнение и новые куски текста восклицанием ааалаяниий, напоминающим начальный запев киргизского шаманского камлания, призывающего духов-помощников [26].
Язык сказок обнаруживает некоторые архаичные элементы, в том числе слова, уже исчезнувшие из современного языка [27] или обозначающие предметы, сегодня уже вышедшие из употребления, и часто даже старые люди не могут оказать помощи в индентификации понятий. Создается такое впечатление, что отдельные слова представляют более древнюю языковую ступень. Так, например, сохранился старотюркский начальный б [тувинскому мёге соответствует алтайско-тувинское бёге(н),] и благодаря этому оказалось, что тексты алтайских тувинцев чрезвычайно ценны и для языковедческих исследований.
Весьма образному способу выражения противостоит относительно скупая языковая форма. Часто в предложении отсутствует подлежащее или дополнение в винительном падеже и иногда в столь длинных пассажах, что в переводе приходилось их компенсировать. А с другой стороны, характерно постоянное возвращение к предыдущему предложению вроде: „После того как (герой) сделал то-то и то-то, он ускакал. А когда он ускакал и ехал, ехал, конь его остановился. После того как он остановился, он сказал…“ Эти постоянные повторения в переводе не всегда сохранены, чтобы не утомлять читателя, и передаются часто соответствующими по смыслу союзами: „тогда“, „потом“, „тем временем“ и др. Стереотипное деп дур [ „сказал (он)“] в конце прямой речи, лишь очень редко сменяющееся в текстах сурап дур [ „спросил (он)“], по той же причине переводилось расширенным рядом синонимов.
Описания чувств и состояния души действующих лиц, как те, что встречаются в опубликованных сказках Тувинской АССР и, может быть, являются результатом обработки („спросил он грубо“…», «сердито сказал Алдын Дангына…», «он стонал и плакал»), в повествовательном фольклоре тувинцев Алтая совершенно не приняты.
Наконец, некоторые сказители при упоминании имени героя или клички его коня употребляют не просто основную форму имени, а добавляют к ней притяжательное местоимение второго лица: «твой Паавылдай», «твой конь леопардовой масти». Такое необычное для нас употребление этой формы передается местоимением «наш». А может быть, эта форма объясняется тем, что сказитель обращается со своим рассказом в первую очередь не к слушателям, а к духу-хозяину сказки – тоол– дунг ээзи, кому «принадлежит» не только сама сказка (тоол), а также выступающие в ней персонажи, в том числе и кони (подробнее об этом см.: Taube Е. Zur urspriinglich magischen Funktion).
Это главные случаи «вмешательства», которые мы сочли неизбежными. В целом перевод выполнялся очень близко к оригиналу, чтобы сохранить звучание и стиль сказки или сказителя, насколько это возможно. Мы старались сохранить и приблизить к оригиналу передачу образных выражений и пословиц даже тогда, когда в русском языке были для них подходящие эквиваленты, чтобы не нарушать первоначальной природной и культурной среды, в которой создавались те или иные образы, сравнения и пр. В некоторых случаях мы отказались по этой причине от русской идиоматики и русского словоупотребления.
Выпущены также возникающие при исполнении сказки слоги, не несущие семантической нагрузки; вследствие этого пропадает стихотворное членение и текст выглядит как сплошная проза, чем он, по сути дела, и является. Ритм, возникающий при «пении» сказки, все равно невозможно сохранить целиком вследствие совершенно иной системы строения индоевропейских языков, но мы старались передать общий характер напевности и ритмику сказочного повествования, хотя и понимали, что большая разница между живым исполнением, воспринимаемым на слух, и письменной фиксацией текста для чтения все равно неизбежно таит в себе какие– то потери сказочной субстанции. Уменьшить эти потери, насколько это возможно, и было нашим главным стремлением в работе над переводом.
В текстах выделялись как стихи в основном только вводные и конечные формулы, а описательные формулы, которые благодаря их параллельному строению и так воспринимаются как стихи, специально не выделялись.
При сравнении сказок этих двух тувинских групп (в Тувинской АССР и на Алтае) заметны различия – и небольшие и значительные. Мы уже говорили о некоторых из них, касаясь персонажей, формул, частотности определенных сказок. Но есть, кроме того, еще и различия в языке и характере изложения. Сказки, опубликованные в Тувинской АССР, даже когда не указано, что они подверглись обработке, производят впечатление более олитературенных, чем сказки с Алтая, в том виде, как они были нам рассказаны. Тут необходимо учесть замечание тувинского фольклориста А. К. Калзана: «С популяризацией произведений народного творчества дело обстоит у нас довольно благополучно. Но есть в этой области и немало недостатков. Мы еще не выработали четких требований к текстологической работе фольклористов и критериев обработки произведений, бытующих в устной традиции, для популярных изданий. Нередко в этом причина ошибок субъективного характера при подготовке текстов к печати» [28]. Может быть, содержания эти ошибки касаются меньше, хотя не исключено, что в отдельных случаях одна сказка дополнялась и приукрашивалась элементами из ее вариантов. Языка и стиля сглаживание коснулось, по-видимому, сильнее. Например, бросается в глаза, что определенные словесные повторы (не формулы!) встречаются здесь реже, чем в текстах с Алтая; что в противоположность крайней скромности словаря многих собранных нами сказок здесь мы встречаемся с большой словарной вариативностью, которая, может быть, еще более усилена в переводе на русский язык и в любом случае свидетельствует о влиянии литературного образования [29].
Может быть, обработка выразилась и в том, что в сказках (прежде всего о животных и в бытовых) в интересах идеологии и педагогики сильнее, чем в устном варианте, подчеркиваются определенные моменты социальной критики или гуманистические высказывания или такие высказывания вводятся в сказку там, где их вовсе и не было, что можно, например, предположить при сравнении сказки «Чижик» [30] с ее алтайско-тувинским вариантом «Серая птичка с шишкой на груди» (№ 54). Если в последней все, кто отказал в помощи птичке, наказаны ветром небесным, то к варианту из Тувы добавлена мораль, совершенно чуждая текстам с Алтая.
Но отчасти различия могут быть и в самом материале, и тоща они объективны по своей природе. Это касается, например, различия доли сказок о животных и бытовых сказок в репертуарах Тувы и Алтая. Но и здесь необходимо упомянуть еще о возможности некоторых субъективных факторов.
Во-первых, это условия работы. Для издания сказок Тувинской АССР можно было выбрать сказки и их варианты из куда более богатого фонда, который сложился в результате многолетней, регулярной, интенсивной и систематической деятельности многих людей. Коллективы фольклорных экспедиций обычно состояли из четырех-пяти человек. Материал же с Алтая – результат короткой, шестимесячной полевой работы в более чем скромных условиях. И все-таки, пожалуй, можно считать, что нашим собранием охвачен основной репертуар типов и мотивов; это показали полевые исследования двух последних экспедиционных сезонов, результатом которых было много вариантов уже записанных сказок, но относительно мало новых ее типов; о том же говорит и рассмотрение сказок в контексте центральноазиатской сказочной традиции. И поэтому можно считать, что предлагаемый сборник сказок вполне представляет основной фонд сказок алтайских тувинцев.
Во-вторых, во всем, что касается сказок из Тувы, я могла опираться только на уже опубликованный материал, так как пока у меня не было возможности работать в Тувинской АССР, познакомиться с записями рукописного фонда Тувинского науч– но-исследовательского института языка, литературы и истории (ТНИИЯЛИ) или услышать тамошних сказителей. Поэтому я не могу с уверенностью судить о том, соответствует ли соотношение отдельных групп опубликованных сказок из Тувы их фактическому месту в устной традиции, или же издатели стремились соблюсти соотношение, привычное для сказочных изданий других народов. Правда, я познакомилась с авторефератом И. А. Вчерашней «Тувинские народные сказки», в котором рассматриваются четыре группы тувинских сказок Южной Сибири: волшебные, богатырские, бытовые и о животных, причем автор указывает на большое значение волшебных и особенно богатырских сказок, но при этом подчеркивает, что «довольно большое место» занимают и сказки о животных. А то, что она пишет о сказках бытовых, не дает никаких оснований утверждать, будто они слабо представлены в общем сказочном репертуаре по сравнению со сказками волшебными и богатырскими, как это отчетливо видно на фольклоре алтайских тувинцев. Поэтому можно предположить, что у тувинцев Южной Сибири и алтайских тувинцев объективно существуют немалые различия в формировании бытовых сказок и есть определенная разница в корпусе сказок о животных неэтиологического характера. Даже если принять во внимание экономические и бытовые особенности части тувинцев из Тувинской АССР, обусловленные их жизнью в районе тайги, то все равно можно сказать, что основа сказок обеих тувинских групп, как и их непосредственных соседей – тюркских и монгольских народов Центральной Азии, очень похожа: кочевое животноводство и охота и вытекающий отсюда специфический образ жизни. Стало быть, причины неодинакового развития отдельных категорий сказок в Туве и на Алтае в другом.
Для политической истории Центральной Азии характерны военные столкновения, народные движения и монгольское и китайское иго. Область Тувы никогда не оставалась в стороне, а всегда оказывалась вовлеченной в события. В XIII в. этот район попал в феодальную зависимость от Монголии, но отношения тувинцев с монголоязычными племенами начались, конечно, гораздо раньше. Через монголов, которые принесли в Туву и ламаизм, тувинцы познакомились со сборниками индийских и персидских сказок; они были не просто пассивно переняты, но и переделаны применительно к конкретной материальной и социальной ситуации, в них все больше и больше вносился тувинский колорит, и в результате они дошли до нас как новые, специфически тувинские сказки. Связь с китайскими сказками встречается относительно редко, несмотря на то что район Тувы с середины XVIII в. находился под властью маньчжурской династии в Китае. В отличие от этого контакты с русским населением, продолжающиеся в районе Тувы уже несколько столетий, не обошлись без влияния на сказки. Так, в тувинском фольклоре мы встречаемся с распространенным в русской сказке мотивом: юноша на своем коне возносится к окну принцессы, сидящей в высоком тереме. В сказке «Илья Мурмуич» Илья Муромец обрел типичные черты тувинского богатыря, а сказка «Иван» – тувинская редакция русской сказки об Иван-царевиче. Такое обогащение народной поэзии не было односторонним. В сказках, собранных у русских Сибири, можно найти много соответствий с живущими по соседству народами.
Те области Алтая, где живут еще и сегодня тюркоязычные, т. е. не монголизованные тувинцы, отличаются удаленностью, труднодоступностью и более суровыми условиями жизни, чем невысокогорные районы Монголии и Южной Сибири, и, может быть, потому этот район оказался на периферии главных военных и Исторических событий. Сравнительная застойность общественно-экономического развития в районе Монголии при режиме маньчжурской династии проявилась здесь наиболее сильно, и поэтому вследствие географической и этнической изоляции традиционная культура дольше сохранялась без серьезных чужеземных влияний. Можно наблюдать определенные параллели в культурной ситуации в районе Монгун-Тайги Тувинской АССР, также отдаленном, и в районе Цэнгэла. А так как и ламаизм пробовал энергично утвердиться здесь только к рубежу нашего столетия – слишком поздно для того, чтобы наложить свой отпечаток на культуру, влияние тех сказок, которые, возможно, попали в Центральную Азию вместе с буддизмом, оказалось тут меньшим, чем в Туве и у других народов Центральной Азии. А то, что бытовые сказки в районе Тувы встречаются гораздо чаще, чем на Алтае, и что в них отчетливо выступают социальные мотивы, можно, конечно, объяснить не только влиянием русского фольклора и воздействием революционного мышления, но и в большей степени тем фактом, что классовая дифференциация шагнула здесь куда дальше. Гнет местного господствующего класса усиливался здесь игом сменявших друг друга иноземцев и их связями со служителями ламаизма. Столетиями тяготело это невыносимое бремя над народом, постоянно нарастая к началу нашего столетия. В отрезанных горных долинах Алтая отрицательные последствия феодального и иноземного гнета, возможно, сказывались главным образом на отношениях тувинцев с внешним миром, на необходимости вносить известную дань, в то время как в пределах этнического единства жизнь коллектива определяли отношения доклассовых общественных формаций. Пережитки таких отношений существовали еще и в конце 60-х годов XX в., например в обычаях, связанных с охотой. И более широкое распространение в Туве сказок о животных, может быть, также обосновано той же исторической особенностью, так как именно этим сказкам свойственно в аллегорической форме вскрывать и бичевать недостатки.
Даже в волшебных и богатырских сказках из Тувы социальная дифференциация акцентируется много сильнее, чем у алтайских тувинцев, в сказке которых она безразлична сказителю или вовсе отсутствует. Например, конфликты, возникающие оттого, что кто-то овладевает чужой собственностью, похищает чужую жену, не хочет видеть кого-то своим зятем или игнорирует младшего зятя, выглядят в сказках алтайских тувинцев не как выражение социальной дифференциации, а как следствие общечеловеческих пороков, причем в двух последних случаях скорее всего могут еще найти отражение социальные различия. В соответствии с этим у алтайских тувинцев отсутствуют формулы, выражающие социальные противоречия, такие, как, например, обычно вкладываемое в уста хану: «Отрубить руки вместе с рукавами, голову вместе с шапкой» или: «Когда зовет хан, простой человек должен идти». Образ ламы встречается очень редко, а шаман, который у тувинцев Южной Сибири выступает чаще всего, судя по опубликованному материалу, как отрицательная фигура обманщика, у алтайских тувинцев в таком качестве вообще отсутствует.
В свете взаимосвязи общественной реальности и устного фольклора и в то же время доминирующей роли шаманизма в религиозно-духовной сфере кажется удивительным, что представители шаманизма не встречаются в сказках алтайских тувинцев. Шаманизм явно не воспринимается алтайскими тувинцами как нечто, заслуживающее критики и осмеяния, как отрицательный феномен. Он представлен в их сказках совершенно иным образом, как и в сказках других народов и районов мира.
Как известно, существует множество сказочных мотивов, в которых, считают исследователи, отразились шаманистские представления. Английский ученый
А. Хатто в своей работе «Shamanism and Epic Poetry in Northern Asia» обратил внимание на шаманистские элементы в эпической поэзии шумеров («Гильгамеш», «Лугалбанда») и в «Одиссее», и нельзя не видеть их в рунах «Калевалы» или «Слове о полку Иго реве» и связанных с этим сюжетом русских былинах (ср. превращение Волха/Вольги в волка, щуку и сокола). Богатырские сказки, предшественницы героического эпоса, составляют специфичную группу сказок именно в Сибири и на севере Центральной Азии, т. е. как раз в том районе, который считается классическим для шаманизма.
Довольно жесткая схема связывает содержание богатырских сказок с отдельными фазами шаманских ритуалов.
1. Случается несчастье.
2. Герой отправляется на поиски врага, чтобы победить и уничтожить его.
3. Преодолев множество препятствий и избежав множество опасностей – иногда и после временного поражения, он побеждает врага.
4. Герой возвращается, и восстанавливается первоначальное состояние.
Центральным элементом являются путешествия в потусторонний мир, посещение иных миров, где предстоит совершиться «подвигам». Герой заручается предварительно помощью местных духов, обзаводится чудесными помощниками. Совершенно очевидна параллель с шаманским ритуалом. На эту схему нанизываются мотивы и детали, которые следует понимать как отражение шаманистских представлений, и они, в свою очередь, подчеркивают связь богатырских сказок с шаманизмом. Назову лишь некоторые из них в том виде, как они встречаются в богатырских сказках алтайских тувинцев (подробный материал и этнографические параллели к нему содержатся в моей работе «South Siberian and Central Asian Hero Tales and Shamanistic Rituals»): чудесное рождение ребенка; его вместе с люлькой прячут в дупле дерева; он просыпается, «как будто возвратившись к жизни после смерти»; мифическая птица Хан Херети сначала заглатывает его, потом становится его чудесным помощником; вместо Хан Херети может выступать белый верблюд; герой «забывает» свою жену, встретив на своем пути другую; разрубленное на части тело героя должно быть снова собрано воедино; оживить его может только нетронутая девушка; временно умершего героя прячут в недоступном месте; герой преследует своего противника в облике различных, сменяющих друг друга животных; летя на птице Хан Херети, он кормит ее кусками своего собственного тела; часто в своем путешествии он попадает в водяной мир, где супружеская чета змей снабжает его чем– то, что придает ему силу; девушку, которой он добивается, называют джайаан («судьба», «предназначенная судьбой» – и точно так же называется дух-хранитель шамана). Эти мотивы появляются очень часто, и именно в той связи, в которой они наличествуют в шаманских ритуалах.
Все названные выше и многие другие мотивы имеют соответствия в шаманистских представлениях различных народов этого региона. Шаманизм алтайских тувинцев исследован еще недостаточно [31]. Но когда такие шаманистские мотивы встречаются в их сказках при отсутствии соответственных этнографических данных, можно по крайней мере предположить, что подобные представления, известные другим народам, не были чужды и алтайским тувинцам. Довольно часто можно найти этнографические соответствия у якутов, что особенно интересно, так как оба эти народа жили в этнической изоляции, способствовавшей относительно долгому сохранению у них древних элементов культуры.
В сказителе Байынбурээде мы видим воплощение единства шамана и сказителя, единства, которое, между прочим, отразилось в эвенкийском и других тунгусо-маньчжурских языках: слова, обозначающие «камлание» и «исполнение рапсодом героических песен», имеют один и тот же корень. Кроме того, встречаются одни и те же мелодии у шаманов и сказителей, на что указала Г. М. Василевич [32]. В Байынбурээде воплотилось также единство шамана и кузнеца, которое упоминается уже у древних китайских историков по отношению к «северным варварам» [33]. Из всего этого следует, что среди сказок алтайских тувинцев особенно ценными для изучения связи между сказками и шаманизмом во всех его аспектах являются именно богатырские сказки.
Так как связь определенных сказок с шаманистским ритуалом несомненна, необходимо хотя бы коротко коснуться культовой функции сказок и их исполнения.
Исполнение – по крайней мере более длинных сказок – сказитель всегда начинал с хвалы, обращенной к Алтаю. Это следует понимать таким образом, что рассказ его обращен и к Алтаю (а первоначально, очевидно, прежде всего к нему). Точно так же по вечерам на охотничьих стоянках сказки рассказывались для того, чтобы завоевать благосклонность духа-хозяина местности, где находились охотничьи угодья, и дичи, чтобы он посулил им на завтра богатую охотничью добычу. Совместное пение на празднествах тоже, считалось, должно доставить удовольствие сверхъестественным силам [34], и этим объясняется целый ряд правил и табу, которые точно соблюдаются вплоть до сегодняшнего дня: пение всегда начинают с определенной песни; твердо установлено, кто должен начать ее; по окончании каждой песни с жестом, которым обычно сопровождают простые благословения, восклицают: «Эх, празднуя, будем счастливы!» Не полагается, чтобы начинал песню тот, кто не сможет допеть ее до конца. Потому что, если бы не оказалось никого, знающего все строфы и стихи, песня получилась бы фрагментарной, а это все равно что принести негодный дар местным духам-хозяевам, т. е. оскорбить их. И, по-видимому, вообще не поют просто так, без причины, а только в определенных праздничных ситуациях. Расскажу об одном эпизоде, возможно доказывающем это: одна женщина во время моей экспедиции 1985 г. спела мне две песни и, когда я спросил ее, может ли она спеть еще что-нибудь, она ответила: «Хватит. Вот будет праздник, тогда я и спою». Это сразу вызывает ассоциации с некоторыми моментами, которые можно наблюдать и при рассказывании сказок. О том, что их рассказывают не просто так, а при соблюдении известных условий, уже упоминалось. В 1966 г. один старик прервал исполнение богатырской сказки («Джинге шилги аъттыг Шаралдай Баатыр»), едва начав ее, так как он не мог точно вспомнить некоторых подробностей. Если забудется имя того или иного сказочного персонажа, то этой причины уже достаточно, чтобы отказаться от рассказывания данной сказки. Может быть, в некоторых случаях, когда человек, указанный нам как сказитель, не хотел ничего рассказать, причина его отказа была в том, что он не хотел рассказывать сказки просто так, а не с собственной, первоначально магической целью (см.: Taube Е. Zur urspriinglich magischen Funktion… и приведенную там литературу). То, что М. Хойтювек был срочно отозван в свое стадо верблюдов, из-за чего его сказка «Эргил-оол» (№ 2) так и осталась незаконченной, было неизбежной необходимостью, но я не уверена, что необходимость вернуться к стаду не была желанным предлогом – если не для самого Хойтювека, то по крайней мере для его жены, так как женщины соблюдают заповеди и табу, унаследованные от предков, с куда большим пиететом, чем их мужья.
В оставшейся не рассказанной Хойтювеком части «Эргил-оола» герой отправляется в нижний мир, в царство Эрлик Хаана, где наблюдает картины, напоминающие ад Данте (ср. № 2). Хотя М. Хойтювек и сам назвал «Эргил-оола» в числе сказок, которые собирался нам рассказать – как человек, знавший свое дело, он считал сказки «Хан Тёгюсвек» и «Эргил-оол» важнейшими сюжетами тувинцев, – он все же сообщил нам, что сказку «Эргил-оол» можно рассказывать только зимними вечерами, а лучше, как убеждал его отец, и вовсе не рассказывать (точнее, только в редких случаях), так как негоже слушать истории о царстве мертвых. Поэтому я не исключаю, что перерыв в исполнении был желанным и избавил семью рассказчика от иных сомнений.
В. Я. Проппу принадлежит мысль о том, что сказки о животных тоже выполняли известную магическую функцию, в этой связи он упоминает индейцев-скиди Северной Америки, у которых сказки о хитроумном койоте рассказывались всегда перед тем, как надо было предпринять нечто, требующее ловкости и хитрости койота, чтобы эти качества животного перешли на рассказчика [35], а возможно, и на его слушателей. Мне не известно ничего похожего об алтайских тувинцах, но подобный магический аспект помог бы объяснить, почему среди так скудно представленных у них сказок о животных относительно много сказок о лисе и почему именно эти сказки, как в Ладаке, свободно и произвольно складываются в циклы. Ибо если предположить, что их рассказывали с той же целью, что и индейцы-скиди свои сказки о койотах, то было бы так понятно, что желаемое воздействие было тем сильнее, чем больше приводилось примеров хитроумия лисы. Во всяком случае, лиса играет роль и в обрядах обережения у алтайских тувинцев.
Известно, что эпосу о Гесере у монголов приписывалась определенная врачева– тельная роль. Может быть, считалось, что сила и непобедимость героя должны воздействовать на злых духов, вызвавших болезнь? Не рассказывались ли богатырские сказки и сказки вообще с целью укрепиться и устоять в мире, наполненном враждебными силами? Может быть, это было средство, доступное и «непосвященным», так как в шаманском ритуале можно обнаружить четкую «сюжетную организацию», по определению Е. С. Новик (Новик Е. С. Обряд и фольклор, с. 17), подобную той, которая есть и в повествовательном фольклоре?
Культовая функция рассказывания сказок – одна из многих древних черт сказок алтайских тувинцев; вплоть до нашего столетия такие черты можно было в изобилии наблюдать и в других областях их материальной, духовной и социальной культуры. Назову здесь лишь один удивительный феномен: за двумя исключениями, они для всех своих песен, исполняемых на тувинском языке, – мы записали их больше ста – употребляют одну и ту же мелодию. Эта мелодия представляет собой некий мелодический каркас, который при помощи нанизываемой на него гетерофонии, мелизмов и протяжности может с легкостью варьироваться в каждой отдельной песне. И особенности пения тоже можно считать архаичными [36]. Наконец, следует указать, что в песнях почти не сформировалась жанровая дифференциация.
Дифференциация повествовательного фольклора алтайских тувинцев тоже была, очевидно, весьма ограниченна. Они различают терминологически мифы (домак), исторические легенды и этиологические сказки (тёёкю/тююкю), употребляя, подобно южносибирским тувинцам и в противоположность монголам, для всех остальных сказок единое понятие «тоол» – будь то сказки о животных, волшебные, богатырские или редко встречающиеся у них бытовые сказки – независимо от того, идет ли речь о совсем коротких текстах или таких объемистых, как, например, наш «Хан Тёгюсвек» (№ 17). Такие слишком большие по европейским масштабам тексты фольклористы часто относят уже не к сказкам, а называют «малым эпосом» или «кратким эпосом», что мы встречаем, например, у ученого из КНР Ц. Ринчиндоржа, который подчеркивает их более древний и первоначальный характер по сравнению с героическим эпосом. Принадлежность таких крупных сказочных форм к сказке или эпосу проблематична, и это подтверждается тем, что для материалов из Тувы при обозначении одних и тех же сюжетов или произведений употребляются различные термины: наряду с «богатырской сказкой» и «богатырское сказание», и «героическое сказание», и даже «героический эпос».