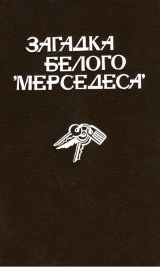
Текст книги "Загадка белого «Мерседеса» [Сборник]"
Автор книги: Роберт Уэйд
Соавторы: Эльсе Фишер,Николас Фрелинг,Росс Барнаби
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 34 страниц)
Сидя на следующий день у себя на службе, за рапортом, он думал о том, как хорошо было бы найти какие-нибудь способы нажать на эту женщину. Но, увы, о том, чтобы привезти ее сюда и помучить, не могло быть и речи; за ней даже нельзя было установить слежку. Да и особого смысла в этом не было; для такого надзора, который был ему нужен, следовало, чтобы надзор был внутри ее головы. Ее можно арестовать даже в Бельгии, но санкционировать это может только Самсон. Как глава отдела он является чиновником, имеющим право подписывать ордера и мандаты, но ничего похожего старик не сделает, ван дер Валк это хорошо знал. И все-таки он не мог удержаться от благочестивого намека в своем рапорте. Минхер Самсон, конечно, отрицательно отнесся ко всей этой идее.
– Нет, нет, мой мальчик, арестовать ее невозможно. Вызовет скандал, придется запрашивать бельгийцев, без полной уверенности это немыслимо, а вам до этой уверенности далеко. Вероятно, вы правы, говоря, что она на все способна, но это абсолютно ничего не дает. Никакого вреда не будет, если оставить ее там, где она находится: не убежит. Она не знает, что нам известно, что мы предпринимаем, и пока она этого не знает, она будет ждать, чтобы понять, куда подует ветер. Беда в том, что у вас нет никаких доказательств, что она знала Стама. Я вам уже говорил, вы просто упрямитесь, малыш. Вас беспокоит де Винтер, а я бы предпочел, чтобы вы сосредоточились на Стаме. А это – не забывайте – совсем другой человек. Если хотите, так в этом вся трудность. Убили-то Стама. Не де Винтера.
– Но когда мы сможем доказать, что Стам был де Винтером…
– Не в этом дело. Раньше всего вам надо доказать, что она это знала.
– Можно прижать ее немножко, потому что меня не удивит, если окажется, что она это знала.
– Ни в коем случае. Найдите доказательства того, что она была связана со Стамом на голландской почве, и тогда сможете получить все мандаты, какие захотите. Однако дело начинает проясняться. Есть у вас кто-нибудь в Фаль-кенсваарде, кто занимается этим?
– Да. Всеми известными или подозреваемыми контрабандистами, которые могли быть связаны со Стамом.
– Вот тут мы и найдем ответ.
Он не был с этим согласен. Он считал это чертовски глупым. Чем располагали там? Никто никогда не видел Стама с фунтом масла в руках. Внутреннее убеждение в том, что Стам был контрабандистом, не поможет. А у него не было этого внутреннего – или какого-либо другого – убеждения в том, что Стам был убит после ссоры из-за добычи. Кто бы поехал – в машине Стама! – в Амстердам, зарезал его и ушел, оставив машину на середине дороги?
Никакие другие теории ему тоже не нравились. Он не мог представить себе Стама как шантажиста, – одна из ранних версий. Нет, все это называется выдавать желаемое за действительное. Просто потому, что властям эта идея по вкусу, и это угодит бельгийцам и сэкономит деньги.
Его собственная теория тоже не была совершенной. Он не верил всерьез, что вдова де Винтер убила своего мужа. Слишком неубедительно. Допустимо, но Самсон указал слабое место. Могла ли она последовать наперерез ему в Дюссельдорф, Венло и оттуда в Амстердам? Ничем не объяснялась белая машина, как ничем не объяснялся и дом на Аполлолаан.
К черту Стама. Достаточно долго бился головой об стену. Машина, сигареты, картина, шампанское, нож, лишняя кровать – если бы только он знал больше, хоть капельку больше о Жераре де Винтере. Что будет делать вдова теперь, зная, что они подозревают убийство? Она могла его убить. Она могла что угодно сделать. Могла оставить любые вещи, как ложные следы, указывающие на других лиц. Каких других лиц?
Этим утром он получил донесения об утомительных часах, проведенных в Фалькенсваарде, и, как он и ожидал, все это оказалось мусором. Томительные часы работы давали страницу за страницей чепухи. Взять, например, вот этого, торговца металлоломом, подозреваемого в контрабанде, мужчину, сфотографированного за выпивкой со Стамом в кафе «Маркзихт». Единственная имеющаяся у них сколько-нибудь надежная нить.
Вопрос: У вас были деловые отношения со Стамом?
Ответ: Даже не знаю такого имени.
Вопрос: Я вас не спросил знаете ли вы его имя. Я спросил, были ли у вас с ним деловые отношения.
Ответ: Не было.
Вопрос: Как вышло, что вы пили с ним?
Ответ: Я – человек общительный.
Вопрос: Это у вас в обычае – пить с незнакомыми?
Ответ: У меня в обычае пить с любым, кто меня пригласит.
Вопрос: Почему он вас пригласил?
Ответ: Наверное, чувствовал себя одиноко.
Вопрос: Он обратился к вам?
Ответ: Если угодно.
Вопрос: В каких выражениях?
Ответ: Сказал «Здрасте» и стал болтать.
Вопрос: О чем?
Ответ: О рыбной ловле, например.
Вопрос: А вы тоже великий рыболов?
Ответ: Я никогда не упускаю случая познакомиться с новыми людьми. Может пригодиться.
Вопрос: И в данном случае так и оказалось, верно?
Ответ: Я торгую металлоломом, а не рыбой.
Вопрос: Значит, вы утверждаете, что раньше его никогда не видели?
Ответ: Может, и видел. Я над этим не задумывался.
Вопрос: Подумайте сейчас.
Ответ: Я вам сказал, может, я его и видел.
Вопрос: Вам кажется, что это безопасный ответ, – на случай, если у нас есть доказательства, что вы и в дальнейшем с ним встречались?
Ответ: Мне безразлично, что у вас есть. Разговор с незнакомым человеком не противоречит никаким известным мне законам.
Вопрос: Были ли вы недавно в Венло?
Ответ: Много лет не был.
Вопрос: Вернемся к четвертому числу этого месяца…
Такое могло тянуться неделями, – читая, ван дер Валк готов был поверить, что так и было. Нет, правда лежала в Брюсселе, где-то там.
Зазвонил телефон на столе, и он улыбнулся, услыхав великолепное, чуточку аффектированное голландское произношение Шарля ван Дейселя.
– Наконец-то вы! Это – Шарль. О, господи, какое облегчение! По-моему, я переговорил со всеми полицейскими Амстердама. Со вчерашнего дня пытаюсь связаться с вами. Слушайте, вас еще интересует та картина Брейтне-ра, которую вы мне показывали?
– Конечно.
– Ну, и меня тоже. Что с ней? Или вернее, что с ней будет?
– Мы не обнаружили никаких родственников, – то есть никаких законных родственников. И как бы там ни было, а он был преступником. Контрабандист – грабил государство, значит, вся его собственность подлежит конфискации.
– Кто ее конфискует?
– Министерство, когда расследование будет закончено.
– Так что картина будет продаваться?
– Думаю, что да. Им она ни к чему.
– Вы можете связать меня с чиновниками этого министерства?
– По крайней мере, могу вам рассказать, как за это взяться. Вероятно, они будут рады предложению. Большинство конфискованных вещей попадает на аукцион.
– Так вот, я хочу эту картину. И я заслужил ее. Я сделал для вас грандиозное открытие.
– Правда?
– Эта картина была куплена в Брюсселе.
– А. – Глубокий, удовлетворенный вздох.
– У вас недостаточно изумленный голос.
– Я никогда не изумляюсь. Я же – детектив.
– Ну вы могли бы хоть иногда чувствовать себя удивленным.
– И чувствую, но не сейчас. Это же логично, понимаете. Правда, вы этого никак не могли знать, Шарль, так что это очень здорово с вашей стороны. А теперь выкладывайте.
– Каким-то невероятным образом эта картина никогда не оценивалась. Она принадлежала каким-то вшивым буржуа – не спрашивайте меня, как это получилось, – которые ничего в ней не понимали. Знаете, типы, которые предпочитают олеографии с улицы Миддельхорнис, огромные, над буфетом в столовой, господи, как мне осточертела эта картина…
– Ну, Шарль, не отклоняйтесь же. Давайте без ваших предубеждений.
– О, да. Ну вот, после того, как его вдова, наконец, лопнула от многолетнего обжорства, обнаружилась целая куча уродливых вещей для продажи на аукционе. Самые ужасные – ну, вы знаете, – массивный мрамор и красное дерево, и конечно, никто из-за них не торговался, фактически никто взглядом на них не задержался; теперь они рвут на себе волосы. Так что все попало в лавки старьевщиков. Классическая история, верно? – С азартом.
– Почему?
– Ха. Видите ли, одно из колоссальных волнений, которое переживает торговец картинами, связано с тем, что эти кошмарные люди, готовые взять что угодно в уплату долга, – они ведь никогда ничего не покупают и не могут никогда решиться что-нибудь выбросить, – все еще могут владеть подлинно ценными вещами, в которых они, будучи абсолютно невежественными и свиноподобными мужиками…
– Шарль, это какая-то тарабарщина!
– У них иногда оказываются пропавшие картины Леонардо. Я хочу сказать, что никогда не знаешь, при каких обстоятельствах может обнаружиться пропавшая или даже совершенно неизвестная картина, даже совершенно изумительная. И самое интересное, что есть фирма неких Кореманов, прямо там, в Брюсселе, и недавно там оказался совершенно неизвестный автопортрет Рембрандта. Они специализируются на удостоверении подлинности, и они просто дали точное свидетельство о подлинности. Лугт в Париже и Розенберг в Америке прозевали, а теперь его купил Муниципальный музей в Штутгарте за три с половиной миллиона, и все они себя поздравляют с этим. Конечно, Брейтнер не стоит и четверти этого, но и в этом случае они его прозевали, а я нет, поэтому я и торжествую!
– Но как вы это узнали?
– Есть тут один человек, занимающийся продажей картин, он увидел эту великолепную вещь у старьевщика; вот почему они и кусают сейчас кулаки. В этом и есть крупный недостаток излишней специализации; он ни черта не знает, кроме семнадцатого века. Он презирает импрессионистов, потому что это не его период. Ну, я тоже часто этим грешу, – все эти ужасные зеленые Сезанны, такие грубые. Но за ними охотятся, и цена их огромна, и поэтому я уж постарался кое-что узнать о них. Если бы это был какой-нибудь занудливый старый Абрахам Пейнакер, так этот парень скакал бы на одной ножке, а на эту картину он чихал. В какой-то степени он прав, потому что этих импрессионистов очень легко подделать, и очень часто – это подделки. Вы себе не представляете, сколько есть на свете отвратительно грязных подделок Ренуара.
– Продолжайте, Шарль; вы самый худший свидетель в мире. К этому времени судья уже начал бы ковырять в носу в припадке нервной ярости. Только полицейскому судье разрешается быть эмоциональным и так много разговаривать.
– Ну, я его обозвал как следует; спросил, где он ее видел, – он, понимаете ли, узнал ее по фотографий, которую вы мне дали. Тогда я понесся на этот блошиный рынок, чтобы узнать, откуда они ее взяли. Очень противные мелкие людишки, которые воняют так, как они могут вонять только в Брюсселе. Они сказали, что не могут припомнить, кто ее купил. Но я не позволил себя отпугнуть. Я даже подумал дать маленькую взятку этим мелким ублюдкам…
Слушайте, вы меня убиваете. Ее купил бизнесмен по имени де Винтер, который, как это ни странно, идентичен с нашим покойным приятелем, минхером Мейнардом Стамом.
– Ну, теперь падайте, – произнес Шарль в диком восторге. – Ее купила женщина.
Ван дер Валка словно током ударило.
– И они могут описать эту женщину?
– Нет, конечно, нет, но я думал, что вас это заинтересует.
– Меня это интересует. Очень.
Снова у границы, настроившись на то, что он опять в Бельгии, и думая по-французски, а не по-голландски, ван дер Валк сказал себе, что это искусство, – теперь он это Понял, – и де Винтер довел его до высокой степени совершенства. Не так уж это было и просто. В Бельгии он, конечно, говорил по-французски. Остенде находится в Западной Фландрии, и они там двуязычны, но французский и у них на первом месте. Де Винтер думал и действовал как бельгиец, говорящий по-французски. Это не требовало напряжения, – он им был.
Но в Голландии он вел себя и говорил, и заставлял себя думать как голландец. Хотя, не как обычный голландец. В этом и была суть. Вероятно, он не мог сделать этот обман полным. Пограничный голландец. Стам родился на границе, в Маастрихте, здесь в Лимбурге или в Южном Брабанте голландский язык далеко не чист. Все основывалось на том, что граница между Бельгией и Голландией – выдумка, политическое изобретение. Есть одна настоящая граница между Бельгией и Германией. Это – Маас. А между Бельгией и Голландией подлинная граница там, где люди перестают быть католиками и становятся протестантами.
Ни Маас, ни даже Арнхейм совсем не голландские по характеру. Не такие голландские, как Утрехт или Гаар-лем, или Зволле. Стам – или де Винтер – был бы бросающимся в глаза иностранцем в Алкмааре; в Венло или Бреда он был незаметен.
Тем не менее, он произвел это превращение очень тщательно. Французскую машину заменила немецкая, типично бельгийскую одежду иная, пошитая – это было видно сразу – в Гронингене, вместо сигарет сигары марки Вильгельм II, которые производят в Фалькенсваарде, – очень удачная деталь. Личность горожанина, владельца бельгийского отеля, которая, по существу, не была очень естественна для него, заменена другой, более близкой по духу – сельский джентльмен, офицер в отставке, посвятивший себя охоте и рыбной ловле. Наконец, его обручальное кольцо перешло на другую руку – это был символ, печать всей перемены. Когда оно покоилось на его правой руке, ему не нужно было больше играть роль голландца, – он был голландцем. Он был Стамом. Он думал так, как думал бы Стам. И в этом была сложность этого дела.
Стам был убит. Стам купил белый «Мерседес». Велел уборщице держать запасную кровать застеленной.
Самсон был прав и неправ. Не де Винтер делал все это, и поэтому о нем ничего не будут знать в Эрнегейме. Если была женщина, другая женщина, она принадлежала Ста-му. Она не была бы бельгийкой; она должна была быть голландкой.
Не обязательно; могла быть ни тем, ни другим. Где она жила?
Картина Брейтнера была куплена в Брюсселе. Жила ли она там? Как-то не похоже, чтобы она встретилась со Стамом в Брюсселе – Стам никогда не забирался дальше. Дюссельдорфа. Ладно, увидим.
Надпись на лавке старьевщика поблекшей пурпурной краской на навозно-коричневом фоне гласила: «Антиквар и книготорговец. Продавец картин и реставратор». Надпись, бывшая здесь со времен Луи-Филиппа. Внизу шрифтом 1919 года было добавлено: «Домашняя утварь покупается и оценивается». И в окне были две засиженные мухами пожелтевшие карточки: «Золото и серебро покупается по наивысшим расценкам, оплата наличными», «Покупка одежды». На витрине были наклеены претендующие на остроумие изречения, выполненные вульгарным грубым шрифтом на розовых и нежно-голубых открытках. Одна из них спрашивала: «Если вы так умны, какого же черта вы не богаты?» Другая рекомендовала: «Замедлите перед брюнеткой, дайте задний ход перед блондинкой, резко затормозите перед рыжей». Ван дер Валк подумал, что Шарль ван Дейсель не мог знать, как обходиться с такими людьми.
Внутренность лавки походила на все лавки подобного рода. Чучела ящериц глядели на скверные копии дрезденских чайников; кресла в стиле бурных двадцатых годов, покорившиеся и неудивляющиеся, оказались запихнутыми под бидермайеровский письменный стол, который в пору их беззаботной юности они находили комичным. Ему припомнилась восхитительная английская фраза, выражавшая ненависть, издевку и презрение: «Я и мертвым не хотел бы оказаться в одной канаве с вами». Теперь они оказались в одной канаве.
Окна были еще хуже. Розовые китайские драконы плотоядно глядели на мертвых фазанов; ашантийские маски, которые должны были быть мужественными и ужасными, лежали печальные и кастрированные на скверной копии секретера эпохи Регентства, сделанной в шестидесятые годы XIX века. Желтое блюдо для сыра казалось вырезанным из мыла и напоминало мертвую раздувшуюся корову. Сахарные щипчики с латунью, проглядывающей из-под дешевого потускневшего гальванопокрытия. Ярко-зеленая супница; отвратительный кувшин, белый и дряблый, покрытый растрепанными, расплывшимися розами – все было так уродливо, бесполезно, мерзко, что могло бы расстроить самый здоровый желудок. «Мой они, во всяком случае, расстроили, – подумал ван дер Валк. – Не могу даже представить себе назначения девяти десятых этих предметов. Поглядите-ка на это, – оно для того, чтобы держать в нем перья павлина, или же чтобы мыть ноги?»
Владельцем лавки был худой, страдающий диспепсией мужчина в сером пыльнике. Его лицо было сложено в складки того же серого цвета, изношенные и грязные, как старое армейское одеяло. Волосы, руки, жалкие ботинки – все было таким же серым и пыльным.
Жена его была полной ему противоположностью. Крупная, неряшливая блондинка с необычайно белой кожей, которая никогда не знала солнца, дождя или ветра> Ее расплывшаяся фигура была втиснута в моложавое зеленое платьице; глаза у нее были большие, светлые и выпуклые. Она напоминала какое-то водяное создание, выбеленное, промоченное до белизны годами пребывания в глубоких соленых водах. Однажды, к огромному изумлению этого создания, оно было вычерпнуто и выброшено, покрытое своим первозданным илом, в центре Брюсселя. «Она может существовать, – подумал ван дер Валк, – только в этой атмосфере тусклого аквариума».
В занавешенную затененную заднюю часть лавки почти не проникал свет, воздуха было еще меньше. Там и сидела эта чета, бесконечно попивая чай за скверным круглым столиком с инкрустациями из желтой меди, которые выпускали из бирмингемских мастерских во времена Индийского мятежа. А теперь он нелепо стоял в Брюсселе, вместо того, чтобы находиться в Челтенхеме. Мужчина, на его взгляд, совершенно окостенел; женщина перешла в жидкое состояние. Лицо ее напоминало баллон, наполненный стоячей мыльной водой, который, вероятно, стоял…
Он посочувствовал Шарлю. Здесь пахло ладаном, грязью и политурой для меди. Если эти люди зарабатывали на жизнь, то только с помощью мелких преступлений и еще более ничтожных пороков.
Женщина уставилась на него с какой-то оцепенелой складкой у рта, все еще мокрого от чая. Глаза у мужчины были острыми, брови походили на решетки в окне работного дома. Ван дер Валк вошел с развязным видом и понизил голос до гнусного шепота.
– Книги есть?
– Конечно.
– Хорошие книги, знаете, – с перцем.
Маленькие глазки испытующе оглядели его.
– Вы – фараон.
Ван дер Валк радостно улыбнулся:
– Угадали с первого взгляда.
– Что вам надо?
– Мне надо узнать все об одной картине. Кто ее купил, и как она выглядела.
– Странный вы фараон. И вы не брюсселец. Француз, да?
– Я – Андре Ренар, – неожиданно взревел он, – приехал за контрибуцией. А теперь хватит валять дурака, или я выкину эту незаконнорожденную игуану через окно и впущу вам немного свежего воздуха.
Голос стал визгливым:
– Не выйдет. Она была куплена и продана честно. Ее не украли и никто о ней не заявлял.
– Вы промахнулись. Она стоит денег.
– Значит, и узнать, куда она делась, тоже стоит денег, так?
– Вы это вчера попробовали. Ничего не получилось. Без фокусов, парень, а то как бы не закрыли вашу торговлю. У вас может случиться пожар и окажется, что страховщики не захотят платить.
– Слушайте, офицер, я сказал этому голландскому типу со странным акцентом, – он лелеял это описание Шарля ван Дейселя, – что я не могу вспомнить, как она выглядела, и это – чистая правда.
– Как часто вас преследовали судебным порядком?
– Ни разу, но…
– Какие-нибудь случаи флагелляции? Какие-нибудь истории с изюминкой?
– Мистер… Я честно…
– Придумайте что-нибудь получше.
– Так-растак всех фараонов. Коровьи шкуры!
– Вот это лучше. Память стоит больше, чем честность, а? Не так уж много у вас клиентов, и вы их всех хорошо помните: ведь каждый из них может представить возможность для шантажа. Ну – молодая или старая?
– Насколько я помню, молодая.
– Темноволосая или блондинка?
– Не знаю.
– Шляпа или шарф?
– Что-то вроде берета.
– Значит, вы видели ее волосы. Хотите неприятностей?
– Блондинка.
– Рост?
– Может, метр семьдесят пять.
– А вы наблюдательны, когда захотите. Уверены, что она была так высока?
– Да, почти.
– Возраст?
– Двадцать три – двадцать четыре.
– На каком языке она говорила? На французском?
– Да, почти так же хорошо, как вы. – Язвительно.
– Что она сказала?
– Просто показала на ту картину, – она была в окне, – и положила деньги на прилавок.
– Откуда же вы знаете, что она говорит по-французски?
– Потому что эта особа взяла картину и, выходя, сказала: «Вы не знали, что это хорошая картина, да?» – Злобный рот пытался спародировать образованную женщину; он был похож на какую-то высушенную старую гремучую змею. Воспоминание о том, как он упустил легкую наживу, до сих пор так разъедало его, что он не забыл интонации. Ясно, что это была правда – это была хорошая картина. С чего бы стал этот торговец спрашивать о ней, а теперь этот фараон? Но не такой он болван, чтобы засыпаться на вранье.
– В чем она была?
– В красном плаще. Больше я ничего не разглядел. Ведь на картине была просто улица в Брюгге или где-то еще. Не выглядела старинной. Я хорошо зарабатывал на картинах, я разбираюсь в них. Эта не выглядела сколько-нибудь стоящей, – я поместил ее в окно только потому, что она была яркой. Простояла там всего два дня.
Ван дер Валк зажег сигару как дезинфицирующее средство и выпустил защитный веер дыма. По его мнению, эта древесная вошь говорила теперь правду, но он немножко проверит его рассказ.
– Ну, может, мне теперь и ясно, как вы узнаете эту женщину. А как бы мне ее узнать? – Брови задергались от усилия придумать, как выпутаться из этого. – Давайте же, питекантроп, – сказал ван дер Валк.
Брови мигнули, сраженные ужасным словом.
– Никак, кроме как по ее разговору. Говорила по-французски немножко чудно. Как я говорю, не как брюссельцы. Больше похоже на вас.
Ван дер Валк отправился в кафе и выпил бренди. Он взял вечернюю газету и без энтузиазма просмотрел ее. Им овладела какая-то брезгливая усталость. Его тошнило от реальной жизни. Он сочувствовал Стаму. Может быть, из-за этого он начал разглядывать объявления о кинофильмах. Хлам. Хлам. Еще хлам. В глаза ему бросилось маленькое объявление. Ах, черт его побери! Вот он здесь мечтает о покое и красоте, мечтает припомнить свое детство. Мечтает о романтике, как Стам. А здесь все это ожидает его – чистое превосходное вино 1934 года. Шарль Буайе и Грета Гарбо в «Марии Валевской». Он бросил монеты на свое блюдечко. Как раз успеет, если поторопится.
Лучше. Отдохнувший. Очистившийся. Счастливый, – да, счастливый. Он принадлежал к тому поколению, которое радостно отдало бы жизнь за Гарбо. Он пошел в пивную и съел там кислую капусту, все еще во власти впечатления. Шел дождь; не жирный зимний дождь, а нежный, чистый дождь, вымывающий все дочиста, как весной. Даже неоновый свет он сделал приглушенным, романтичным и прекрасным. Он устал; купив в вокзальном киоске экземпляр в мягкой обложке «Унесенных ветром», он улегся с ним в постель в дешевом отеле. Открыть окно оказалось очень трудно; но когда он открыл его и подставил лицо ночному воздуху, стал виден крошечный краешек месяца и стремительный бег низко нависших облаков, и слышны были поезда. Где-то в его мозгу копошилась мысль. Но завтра, как сказала бы Скарлет, – другой день.
Один раз он проснулся, в середине ночи. Где-то играло радио. Он понятия не имел, почему ему внезапно припомнилось то, что произошло много лет назад. В годы сразу после войны была другая ночная радиопрограмма, но трансляция на передатчике, для оккупационных войск в Американской зоне, достаточно сильном, однако, чтобы его было слышно на средних волнах по всей Европе. Это был час передачи грамо-фонных записей, он назывался «Полночь в Мюнхене». Комически серьезный, напевный голос молодого американца говорил каждую ночь: «Половина первого – время для Разбивающего сердца». Сентиментальная мелодия, запоминающаяся своей сладостью, как горшочек джема. Ван дер Вал к, находившийся в Гамбурге с английскими частями, лежал в постели, вопреки строгим предписаниям, с высокой блондинкой (один метр семьдесят пять), невероятно романтичной девушкой, которую звали Эрика. Она обожала «Разбивающего сердца».
Когда он проснулся снова, как всегда в семь часов, он на секунду удивился, почему не слышна кофейная мель-ница Арлетты. Затем он вспомнил, где находится и что ему надо сделать. Он тщательно выбрился новым лезвием, с аппетитом поел и почитал «Монд». Закончив завтрак, он все еще не пришел к какому-нибудь решению; уставившись взглядом в стенку, выкурил еще одну сигарету. Не будет он звонить в Амстердам, рискуя быть принятым за дурака. Идея у него была совершенно идиотская, и лучше о ней молчать. Если окажется, что он прав, то это не имеет никакого отношения к тому, что он хороший полицейский. Это связано с прошлым, с Гретой Гарбо и Эрикой, Марией Валевской и другими высокими белокурыми женщинами; вот и все. Никаких доказательств нет и не будет. Никаких тщательно выработанных вопросов, никаких хитроумных полицейских трюков. Но он обязан был послушаться своего инстинкта. Доказательства не обязательны. У него было то, что минхер Самсон назвал внутренней уверенностью.
Он поехал вниз по авеню Карла Пятого и остановился у гаража, как раз там, где автострада смыкается с Гентским шоссе.
– Хэлло, Люсьена!
– Вы опять вернулись? Что случилось, влюбились в меня или что?
– Нет, мне нужна ваша помощь. Кое-что случилось здесь, в Брюсселе, в чем мне нужна ваша помощь. Я подумал о вас, потому что вы знаете этот греховный город. Я решил признать у вас умственные способности; у вас найдется четверть часа?
– Ну, я могла бы найти лучший способ потратить время, но я не возражаю. У меня скоро перерыв на кофе… Филипп?.. – позвала она своим звонким голосом и сделала жест, как будто поднося чашку ко рту. Весьма прыщавый юнец в слишком маленьком комбинезоне махнул в знак согласия воздушным шлангом, который он держал в руке.
Они пошли и уселись в кофейне; она сунула в рот сигарету жестом, который он помнил. Не очень, по-суще-ству, хорошенькая девушка, но привлекательная, как Мария Валевская.
– Это будет звучать чертовски глупо. Если бы я не знал вас, мне никогда бы не пришло это в голову. Но теперь, когда пришло, это уже что-то вроде неизбежного вывода.
– Что именно?
– То, что вы знали человека по имени Мейнард Стам.
Она реагировала совсем не так, как он мог бы ожидать.
Поставила чашку и ничего не ответила. На ужасное мгновение он подумал, что совершил ту нелепую ошибку, которой опасался.
– Мы нашли мертвого человека на Аполлолаан. Кто-то убил его, но нет доказательств, которые на кого-нибудь указывали. Он был контрабандистом, и неопределенная официальная версия такова, что произошла ссора между преступниками. Вокруг этого человека масса всяких странных вещей, которые я пытаюсь связать одну к одной. И вот, просто думая о них, я – сам не совсем понимаю почему, – подумал о вас. Я подумал, что вы должны что-то знать об этом человеке.
Она снова подняла чашку и залпом выпила кофе.
– Вы совершенно честны со мной? Кто, по-вашему, на самом деле его убил?
– Делаю все, что могу. Думаю, что могли убить вы. У меня нет ничего в поддержку этого в настоящее время; это потребует еще большой работы.
– И что же вы намерены предпринять?
– Спросить вас.
– Я не собираюсь отвечать ни на какие вопросы.
– Тогда мне придется забрать вас. Я должен знать, понимаете?
– Арестовать меня?
– Я не хочу поднимать шум. Просто тихо попрошу вас поехать со мной.
– Вы ведете себя скромнее, не так ли, чем если бы были в Голландии?
– Если хотите. Что это меняет?
– А у вас есть право кого-либо арестовать в Брюсселе?
– О, я могу позвонить по телефону. Чтобы бумаги переслали сюда в бюро.
– Но вы просто пришли. Вот так вот. Спросить меня, что я знаю о каком-то человеке, который умер?
– Да.
– У вас не очень крепкая позиция, правда? Ни ордера, ни доказательств, ровно ничего. Если я захочу, я могу сделать так, чтобы вас выкинули отсюда.
– Возможно, – ровным голосом. Могла, но раз она это сказала, то не сделает этого.
– Я могу закричать. Я могу сказать: « Грязный фламандец». Они здесь меня знают, они любят меня и уважают. Если им покажется, что вы пристаете ко мне, они вас линчуют. Вы – голландец, а они – бельгийцы. Мне достаточно только палец поднять.
Ван дер Валк улыбнулся.
– Если вы хотите мне доказать, что вы просто дешевая маленькая подделка, валяйте, поднимайте ваш палец.
Как он и хотел, она рассердилась.
– Вы что, принимаете меня за овцу, которая будет стоять и ждать, пока ее арестует какой-то грошовый полицейский? Ничего у вас со мной не выйдет. И спросите любого из этих людей, с которыми я работаю, дешевка я или подделка!
– О, идите и спрячьтесь за вашей кучей мастеровых, если хотите; я и не двинусь, чтобы помешать вам. – В голосе его было презрение.
– Так лучше. Вы мне куда больше нравитесь таким. Менее глупым. Менее официальным.
– Мы всегда были способны понять друг друга. Вот почему я здесь. И вот почему мне стало теперь скучно. Сколько нам еще придется сидеть здесь, ведя приятный разговор?
Она легко могла тогда подняться и отправиться с ним, как он хотел и думал, что она сделает, если уколоть ее трусостью. Но другой фактор вмешался в его планы. На стол упала тень. Крупный мужчина, такой же крупный, как ван дер Валк, и выглядевший куда крепче. Дюжий бельгиец. Нет ничего упрямее, чем дюжий бельгиец из Боринажа; они могут быть грозными. Они родились в голодном, грязном краю, который поставляет шахтеров, боксеров и политических агитаторов. Уголь и железо оседают в их крови. Чтобы быстро получить о них представление, поинтересуйтесь их спортивными играми. Велогонки на длинные дистанции и петушиные бои. Боевой петух из французско-бельгийских приграничных районов, если запереть его в комнате со взрослым мужчиной, убьет этого мужчину. Ван дер Валк это знал.
– Что ты делаешь, Люсьена? Этот мальчишка Филипп стонет, что у него слишком много работы.
Она встала, не сказав ни слова, и вышла через заднюю дверь, на которой было написано «Служебный вход». Дюжий мужчина спокойно взглянул на ван дер Валка.
– Клиент? Или просто проездом? – голос был мягок и вежлив.
– Проездом, но я зашел с определенной целью. Я из полиции.
– Тогда лучше говорить со мной, чем с моими служащими.
– Вы хозяин?
– Да.
– Да, тогда мне придется поговорить с вами. Я должен забрать эту девушку. Она знает это и знает причину. Спросите ее.
Бледные серые глаза изучали его без одобрения и без враждебности.
– Вы полицейский откуда? Франция? Покажите ваше удостоверение.
– Не здесь. У вас в конторе.
Крупный мужчина взвесил это.
– Прекрасно. – Он прошел, легкий, как кот, через дверь с надписью «Служебный вход», и ван дер Валк последовал за ним, хмурясь. Придется ему прибрать к рукам и этого типа тоже.
Они были внутри гаража, длинной бетонной пещеры, далеко уходящей вглубь. Вдоль нее тянулся рад служб и лавок. Впереди ремонтные мастерские, там спокойно трудились механики. Один из них на минуту выпрямил затекшую спину и без любопытства уставился на ван дер Валка, сложив губы так, словно хотел свистнуть, глаза его казались очень синими на запачканном лице. По другую сторону тянулся еще один ряд низких строений; рослый бельгиец шел по направлению к ним, а не к конторе. Ван дер Валк следовал за ним. Снаружи, через боксы и насосы, проникал серый свет и терялся в темноте измазанного маслом бетонного навеса, где стояли, терпеливо ожидая лечения, полсотни машин, похожие на амбулаторных больных, с диагнозом и рецептами, аккуратно подсунутыми под дворники на ветровых стеклах.







