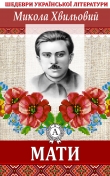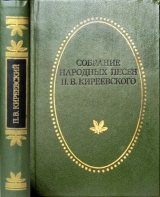
Текст книги "Собрание народных песен"
Автор книги: Петр Киреевский
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 26 страниц)
«Ни сама ж матушка…»
Каравай подают закусывать вино, которое тут же подносит молодая, а наливает молодой. Гости по обыкновению говорят: «Горько, голуби насолили» и проч. Молодые целуются. Пир идет и кончится свадьба.
Ни сама ж матушка
Волга речинька затветала:
Затветала Волга речька
Теми цветами —
Легкими суднами.
На суднах сидят бурлачушки маладыя,
Они думают думушку сабча заедино:
Собиремтесь, братцы, все за единый круг,
Подумаим думушку сабча заедино.
Мы сложимся бурлачушки
Все по полтинушки,
Мы купимтя сибе васплывной струх;
Поплывемтя мы вниз па матушке па Волги,
Станемтя братцы
Против Строганова прикащичка окошка.
У Строганова прикащичка была дочка.
Прасилась дочь у матери
Вытить на улицу – погулять,
На молодых бурлачушков пасматреть.
«Как при вечере, вечеру…»
Как при вечере, вечеру,
Как при ясной при лучинушке,
При (имя невесты) девишничке
Прилетал к ней млад ясен сокол.
Он садился на хрустальное окошечко,
На серебряну причалинку.
Никто сокола не видывал,
Увидала его матушка Свет (имя отчество),
Так возговорит дитятке:
– Ты поди, мое дитятко,
Ты примолвь ясна сокола,
Ясна сокола залетного,
Добра молодца заезжего. —
– Ах ты матушка, сударыня моя!
Мне примолвить-то его не хочется;
Мое сердце не воротится,
Уста кровью запекаются,
А вся внутрення терзается.
«Вот червонная кралечка…»
Вот червонная кралечка,
Налитое сладко яблочко,
Да и походка павлиная,
Еще речь лебединовая.
Не за то ль тебя царь полюбил,
А царица много жалывала:
На головку бралиатичко,
Круг подолу алу ленточку,
А круг пазушки стежечку,
Да на белую грудь поцепочку.
«Как во садичке, садичке…»
Как во садичке, садичке,
Во зеленом виноградничке,
На ракитовом на кустичке,
На малиновом на прутичке
Не соловушко песенки поет,
Холостой парень насвистывает,
На свисточке выговаривает:
– Вы гуляйте-кя, девушки,
Вы гуляйте-кя, голубушки,
Вы покамеся у батюшки,
Вы родимыя у матушки.
Не ровна весна выгуляться,
Не ровен жених подкажется,
Либо старой удушливой,
Либо молодой недужливой,
Либо вор, либо пьяница-дурак,
Не отпустит на улицу гулять.
«Поди, голубь, поди сизый…»
Поди, голубь, поди сизый,
Золотая голова,
У голубушки его
Позолоченая.
У (имя жениха) молодая-то жена,
Молодёшенькая:
Кабы нам, молодцам, молодая-то жена,
Мы бы летом, мы бы летом
В колясочке возили,
А зимою, а зимою
Во писаных санях,
На ямских лошадях,
Чтобы кони не стояли,
Молоду жену везли.
«Самодуровские девушки…»
Самодуровские девушки,
Бесскромные глазушки,
Не по промыслам завод завели,
По изгуменьям быка провели,
Белобокого с покримью,
Князя Дмитрия Ивановича.
Ах, и солнушко низешенько,
Наше стадушко близешенько.
Ах, и все наши коровушки пришли,
Ах, и все наши буренушки пришли,
Одного лишь нету бынюшку.
Одного нет Ромодановского.
На быке, мати, не бычья стать:
На быке, мати, зелен кафтан.
Ах, и кто ж у нас на ногу легок,
Ах, и кто же на посылочку резов?
Ах, ты мать ли, моя матушка,
Степанида Афонасьевна!
Ах, ты мать, ты родная моя,
Степанида Проторасьевна,
Покорми мово бынюшку,
Мово Ромодановского,
Наклади ему щей с чесноком,
Положи ему каши с молоком.
«Как на улице репей…»
Как на улице репей,
На широкой репей!
Ой, дида, мой репей!
Репей стелется, расстилается.
Уж не быть тебе, репью, вровню, вровню,
Со частым плетнем.
Тут шли, прошли
Три родных сестры;
Сестра-то сестре
Стала спрашивати:
– Ну, каково тебе, сестрица,
За старым мужем жить?
– Мне за старым мужем жить,
Лишь состариться. —
Как на улице репей,
На широкой репей!
Ой, дида, мой репей!
Репей стелется, расстилается,
Уж не быть тебе, репью, вровню, вровню,
Со частым плетнем.
– Каково тебе сестрица,
За ровнею жить?
– За ровнею жить
Лишь ровничкою. —
Как на улице репей,
На широкой репей!
Ой, дида, мой репей!
Репей стелется, расстилается.
Уж не быть тебе, репью, вровню, вровню,
Со частым плетнем.
– Каково тебе, сестрица,
За малым мужем жить?
– За малым мужем жить,
Лишь век коротить.
«Ай почто б на Дунай ходить…»
Ай почто б на Дунай ходить,
Для чего было соловья будить?
У соловушки одна песенка,
У меня, младой, один батюшка,
У тот со мной не вместе живет,
Не вместе живет, не часто ездит,
Не долго гостит; встречу я батюшку
Середи двора, середь свекрова,
Провожу я батюшку за Дунай реку,
За Дунай реку, за быстру реку.
Уж меня батюшка домой воротил:
– Воротись, дитятко, воротись, милое!
Тебе, дитятко, трава спутала,
Роса смочила. – Меня, батюшка,
Не трава спутала, не роса смочила,
Спутала меня шелковая плеть,
Шелковая плеть очень больно бьет!
По белу телу жметь;
Не роса меня смочила,
Горьки слезы меня смочили.
«Выду я на улицу…»
Выду я на улицу,
Выду на широкую,
Ударю в ладони,
Ударю в звончатыя.
Не звонки ладони,
Звонки златы перстни.
Услышит мой свекор,
Услышит мой лютый:
– Тихонько, невестка,
Тихонько, голубка!
Не разбей ладони,
Не переломай златых кольцев!
– Не лопай-ка, свекор,
Не трескай-ка, лютый!
Не ты купил те перстни,
Не сын твой золотые, —
Купил мне батюшка,
Купил мне родимый
Себе для чести-хвалы,
А мне для прикрасы:
Красуйся, дитятко,
Красуйся, милое!
«Пришла матка, весна красна…»
Пришла матка,
Весна красна,
Дни теплые;
Добры кони
В луга пошли,
А красныя девушки
На улицу вышли.
Молодушки заплакали:
Воля, воля красным девкам,
А нам, молодкам, и воли нет!
У молодки три заботки:
Первая заботка – горшок кипит,
Друга заботка – дите кричит,
Третья заботка – старый муж кличет.
Дитя уйму белою грудью,
Горшой уйму – вон выставлю,
Старого уйму – поленом с гряд.
Береза ли не тесеными
Сошью люльку о семи лубков,
Совью веревку о семи сажен.
Повешу люльку посередь двора на жердочке,
Положу в люльку старого чорта,
Стану старого я баюкати:
Ты бай-бай, старый чорт,
Либо усни, либо умри,
Меня, младу, гулять пусти,
Гулять пусти на улицу!
«На горе, горе шелковая трава…»
На горе, горе
Шелковая трава,
На той траве,
Утрення роса;
На той росе
Стар коня седлает,
Красную девицу уговаривает:
– Красна девица, ты поди за меня:
Я тебя стану калачами кормить,
Я тебя стану сытою поить,
Я тебя не стану ни бить, ни журить.
– Хоть ты меня, старый,
Калачами корми,
Хоть ты меня, старый,
Сытою пои,
Хоть ты меня, старый,
Не бей, не жури,
Я нейду за тебя! —
На горе, горе
Шелковая трава,
На той траве
Утрення роса;
На той росе
Млад коня седлает,
Старую бабу уговаривает:
– Не ходи за меня,
Я тебя стану
Сухарями кормить,
Я тебя стану
Водою поить,
Я тебя стану
И бить и журить.
– Хотя ты меня, младой,
Сухарями корми,
Хоть ты меня
Водою пои,
Хоть ты меня
И бей и жури,
Ну, я пойду за тебя!
«На речке на Дунае…»
На речке на Дунае,
Матушки,
Пришли девки умываться,
Матушки.
Они вздумали купаться,
Матушки,
Они скинули рубашки,
Матушки,
Тонки белы полотняныя,
Матушки,
Голубы сарафаны,
Матушки,
Шелковы подпояски,
Матушки,
Золотые повязки,
Матушки.
Подкрался к ним Ивашка,
Матушки,
Он украл у них рубашки,
Матушки,
Тонки белы полотняны,
Матушки,
Голубые сарафаны,
Матушки, Золотые повязки,
Матушки,
Шелковые подпояски,
Матушки.
Пошли наши девки,
Матушки,
К Ивашкиной бабке:
Матушки,
– Ты Ивашки бабка,
Матушки,
Ты уйми свово Ивашку,
Матушки,
Он покрал у нас рубашки,
Матушки,
Тонки белы полотняны,
Матушки,
Голубые сарафаны,
Матушки,
Шелковые подпояски,
Матушки,
Золотые повязки,
Матушки! —
Как Ивашки бабка,
Матушки,
Взяла в руки розгу,
Матушки;
Как Ивашка
Матушки,
Как Ивашка забожился
Матушки:
– Подними меня, Микола,
Матушки,
Ниже облака ходячего,
Матушки,
Ты ударь меня, Микола,
Матушки,
На пуховую перину,
Матушки,
Подави меня, Микола,
Матушки,
Пшеничным пирогом,
Матушки,
Утопи меня, Микола,
Матушки,
Во густой самой сметане,
Матушки,
Озноби меня, Микола,
Матушки,
На печи в угле под шубой,
Матушки!
«Уж ты мать ты моя, маменька…»
Уж ты мать ты моя, маменька,
Ты на што, на што хорошу родила?
Мне нельзя, нельзя к обедне ходить,
Мне нельзя богу молитися, —
Поп он выедет – усмехается,
Дьякон в книги зачитается,
Пономарь звонит – мешается:
Уж как вон наша хорошая идет,
Уж как вон наша пригожая идет,
Щастливая, таланливая,
Шутливая, забавливая.
«Как во садичке, садичке…»
Как во садичке, садичке,
Во зеленом виноградничке,
На ракитовом на кустике,
На малиновом на прутике
Не соловушко песенки поет, —
Холостой парень насвистывает,
На свисточке выговаривает:
– Вы гуляйте-ка, девушки,
Вы гуляйте-ка, голубушки,
Вы покамеся у батюшки,
У родимыя у матушки;
Не ровна вестна выгуляться,
Не ровен жених подкажется;
Либо старый, удушливой,
Либо младой, недужливой,
Либо вор, либо пьяница-дурак,
Не отпустит на улицу гулять.
«Позадь гуменьев тропинушка лежит…»
Позадь гуменьев тропинушка лежит,
По тропинушке удаленькой бежит;
Он всю травыньку-муравыньку примял,
Он комоченьки аршинчиком отмерял:
Вы комочки, комочки мои,
Мелкотравчаты, узорчатые!
Не давайтеся развертываться
Вы тому сыну гостиному купцу!
Гостиной купец волюшку берет,
Он берет, берет девку за правую руку, —
Красна девка не примала молодца,
Во глаза голыдьбой назвала.
У голыдьбы ни кола, ни двора,
А у меня-то столбы точеные,
Подворотенка стекольчатая,
Под воротенкой бел камушек лежит,
Из-под камушка быстра речка бежит.
Как по речиньке суденышко плывет,
Во суденушке немножко людей
По рассчету всего семь человек,
А осьмой кашевар кашу варит,
А девятой водолей воду лил,
А десятой красну девицу любил.
Вот и песня до конца, до конца,
Нам по рюмочке винца.
«Долина, долинушка, долина широкая!..»
Долина, долинушка,
Долина широкая!
Как на этой на долинушке
Выросла рощица
Частая, березовая.
Как из этой ли рощицы,
Солнце выкаталося,
Заря занималася.
Грело, грело солнышко
Зимой не по-летнему;
Любил парень девочку,
Любил не по-прежнему,
Любил, все обманывал,
Замуж красную девицу,
Замуж подговаривал:
– Поди, поди, девица,
За меня замуж,
За меня доброго молодца,
Удалого Ванюшку!
«Ах яры, яры, яры!..»
Ах яры, яры, яры!
Сатана идет с горы
С рукомойником,
С уповойником!
Ах, я муж жену любил,
Любил, любил,
Серги-яхонты купил.
Жена мужа любила.
В тюрьме место купила:
– Вот тебе, муженек,
Угомонный уголок.
Не толки, друг, не мели,
Только ручку протяни,
Христа вспомяни.
«Пошли девки марену копать…»
Пошли девки марену копать,
Накопамши запотели
И есть захотели и купаться захотели;
Купаться не купаться – белым мылом умываться.
Где ни взялся вор Ванюша,
Он покрал у них рубашки
Тонки белыя, альняныя.
Одна девка маленька да смышленинька
За Ванюшей увязалася:
– Ты подай, Ванька, рубашки тонки (и проч.)
Ты, Ванюша, побожися,
К иконе приложися!
– Ты бей меня ни колом,
Об обмет, об солому.
Белая моя, белотелая,
Не ты ль меня, лапушка, высушила.
Без морозу лютого
Сердце иззнобила.
Как рассыпалась печаль
По моим ясным очам,
Рассыпалась сухота
По моему животу.
Как заставила сударушка
Вдоль улицы ходить, (2)
Гостиньчики носить, (2)
Пряники, орешки коленые,
Смоквы привезеные,
Уж к тебе, касатушка,
Ни один разик приходил,
Трое котиков[106]106
Коты – башмаки.
[Закрыть] избил,
Изодрал я синь кафтан
По заборам, по плетням,
Изорвал я перчаточки,
За колья хватаючи.
Испортил я шляпочку
Под капелыо стоючи.
Капелюшка капала,
По нас девки плакали,
Капелюшка перестала,
Любить девушку не стали.
«Самодерга молодая…»
Самодерга молодая,
Самодерга молодая,
Ой, таки молодая!
Ой, таки молодая!
Самодерга у соседа,
У соседа во беседе,
Во беседе, в большом месте!
Кума к куме приходила,
Рубашеночку просила:
– Кума, кума, дай рубашку,
Хоть худую, олляную.
Со долгими рукавами,
Со красными поликами!
– Кума, кума, провалися,
Сама пряди, не ленися!
– Кума, кума, гребня нету!
Гребень на базаре!
– Кума, кума, донца нет!
– Донцо в Рязани!
– Кума, кума, лена нету!
– Лен то в агороде!
«Торокан дрова рубил…»
Торокан дрова рубил,
Себе голову срубил,
Комарь воду носил,
В тине ноги увязил.
Муха банюшку топила,
Блоха щелок варила,
Вошка парилася,
С полка вдарилася.
Гнида подымала,
Живот надорвала.
Ах, ты жура-журавец,
Разудалый молодец!
На мельницу ездил,
Диковинку видел:
Козел муку мелет,
Коза подсыпает,
Маленьки козлятки
И те не гуляют,
Муку выгребают,
В скрыпочку играют!
А савища из углища
Глазами-то хлоп-хлоп!
Ногами-то топ-топ!
Как и наша попадья
Диковинку родила,
Совсем воробей,
Совсем молодой.
Как поймали воробья
Под погребицею
С красной девицею,
Повели воробья
На боярский двор;
Стали воробья
Разувать, раздевать,
Распоясывать,
Кнутом меня не секите,
Кругом меня обстригите,
Одну маковку оставьте.
На ноги меня поставьте!
«Под горою диво…»
Под горою диво:
Варил чернец пиво.
Как братец сестрицу
По головке гладил:
– Сестрица Прасковея,
Расти поскорее,
Отдам тебя замуж
В чужую деревню;
Куда ни поеду,
К сестрице заеду, —
У нас на базаре
Били в барабаны,
Указы читали,
Полки набирали.
«Вы раздайтесь, расступитесь, добрые люди…»
Вы раздайтесь, расступитесь, добрые люди,
Что на все ли на четыре сторонки,
Поколь батюшка-сударь замуж не выдал
За таво за детину за невежу!
К широку двору подходит, плачет, вопит,
За колечушко берется, восклицает:
– Еще дома ли жена молодая?
Отпирала бы широкие ворота! —
Я скорёшенько с постелюшки вставала,
Я покрепче ворота запирала,
Но смело с ним говорила:
– Ты ночуй, ночуй за воротами!
Тебе мягкая перина – белы ворота,
А высокое сголовьице – подворотня,
Да как тёпло одеяло – темна ночь,
Шитой браной положёк – буйной ветерок.
Каково тебе, невежа, за воротами,
Таково-то мне молодёженьке за тобой,
За твоей дурацкой головой.
«В чистом поле, полюшке елочка стоит…»
В чистом поле, полюшке
Елочка стоит.
Как под той под ёлачкой
Детинка лежит,
Думу думает:
Собирается молодец
В путь дороженьку,
Оставляет дома
Молодую жену.
Возле его конь стоит,
Удила грызет.
Встает добрый молодец,
Садится верхом,
Отправляется в дороженьку,
Не простясь с женой.
«Ты дорожка моя, ты дороженька…»
Ты дорожка моя, ты дороженька,
Ты широкая, пораскатиста,
На все стороны поразвалиста!
Что никто-то по ней не прохаживал,
Никто следа не накладывал;
Только шли-прошли два полка солдат,
Веселы полки, очень радостны.
Как первый полк – полк Тарутинской,
Как другой-то полк – Черной Егерской,
Как Тарутинской полк со знаменами,
А Чорной Егерской с барабанами;
Как Тарутинской полк песни гаркнули,
Черной Егерской слезно сплакнули,
Свою сторону воспомянули:
– Сторона ли ты моя сторонушка, ты гулливая,
Уж мы жили в тебе, прохлаждалися,
Чужими женами похвалялися.
«СВОЕНАРОДНОСТИ ПОДВИЖНИК ПРОСВЕЩЕННЫЙ…»
…Но где же ты, мой Петр, скажи? Ужели снова
Оставил тишину родительского крова,
И снова на чужих, далеких берегах
Один, у мыслящей Германии в гостях,
Сидишь, препогружен своей послушной думой
Во глубь премудрости туманной и угрюмой?
Или спешишь в Карлсбад – здоровье освежать
Бездельем, воздухом, движеньем? Иль опять,
Своенародности подвижник просвещенный,
С ученым фонарем истории, смиренно
Ты древлерусские обходишь города.
Дея́телен и мил и одинак всегда?
Н. Языков. 1835
Как невозможно представить себе Пушкина без Михайловского и Болдино, Тургенева без Спасского-Лутовиново, Толстого без Ясной Поляны, Блока без Шахматово, а Есенина без Константиново, так невозможно представить себе братьев Киреевских без Долбино. Без Долбино и без Мишенского. Любино и Мишенское – это не просто соседние тульские села. Мишенское – это Жуковский. Детство и юность поэта, его мишенская Греева беседка и «Долбинские стихи».
А потому и рассказ о судьбе Петра Васильевича Киреевского, о его знаменитом Собрании и народных песен нужно начинать с Жуковского. С его письма матери братьев Киреевских Авдотье Петровне, написанного в ту пору, когда старшему, Ивану, было одиннадцать лет, а младшему, Петру, – девять. «Я давно придумал для вас работу, – писал поэт из Дерпта в Долбино сестрам Юшковым, – которая может быть для меня со временем полезна. Не можете ли вы собирать для меня русские сказки и русские предания: это значит заставлять себе рассказывать деревенских наших рассказчиков и записывать их россказни. Не смейтесь. Это национальная поэзия, которая у нас пропадает, потому что никто не обращает на нее внимания: в сказках заключаются народные мнения; суеверные предания дают понятия о нравах их и степени просвещения и о старине. Я бы желал, чтобы вы, Анета, Дуняша и Като, завели каждая по две белых книги, в одну записывать сказки (и, сколько можно, теми словами, какими они будут рассказаны), а в другую всякую всячину: суеверия, предания и тому подобное. Работа и не трудна и не скучна…»
Письмо это имеет огромное значение в истории русской фольклористики. Первыми среди собирателей мы по праву называем имена Пушкина, Гоголя, Владимира Даля, Петра Киреевского, но уже в 1801 году юный Андрей Тургенев, друг Жуковского по Дружескому литературному обществу, призывал современников обратиться к народному творчеству, как единственному источнику самобытности русской литературы.
Дневним пой стихосложением.
Коим пели в веки прежние
Трубадуры царства Русского, —
восклицал Херасков в 1803 году во вступлении к «Бахариане». И подобных призывов в начале XIX века мы встретим немало у Карамзина, Николая Львова, Шишкова, Востокова, Мерзлякова, но только Пушкин и Гоголь начнут записывать сами, и только Петр Киреевский решится на «подвиг великий» – создание песенного свода России.
Произойдет это в 30-е годы, а в 20-е в тульском имении Киреевских уже существовал целый «Долбинский университет» – школа крепостных крестьян, для которых были разработаны специальные «Правила как писать» народные песни, сказки и стихи, «соблюдая как можно вернее правильность в словах». Основателем этого «университета» вполне можно считать Жуковского.
Жуковский был не только соседом по имению, но и родственником братьев Киреевских – их дядей. А после Отечественной войны 1812 года, когда двадцатидвухлетняя Авдотья Петровна овдовела, Жуковский придет к ней на помощь. В 1813–1814 годах он почти постоянно живет в Долбино, помогая Киреевской в хозяйстве и воспитании детей. «Моя долбинская сестра», – так он будет обращаться к ней в письмах, предложив в одном из них стать «опекуном Ваньки, Петруши и Маши», называя их «наши милые детенки».
Этому сближению во многом способствовала личная драма самого Жуковского, свидетельницей которой станет «долбинская сестра», приходившаяся родственницей Маше Протасовой. Так что забота о детях спасала не только Киреевскую, но и Жуковского. «Самое действенное лекарство от огорчения есть занятие», – убеждал поэт Авдотью Петровну. Этим «занятием» стало для них обоих воспитание детей.
Многочисленные письма Жуковского к Авдотье Петровне наполнены заботой о детях. В одном из них, датированном ноябрем 1813 года, выражены педагогические принципы Жуковского, его система воспитания личности. «Для ваших ребятишек, – пишет Жуковский, – нужен учитель. Пора подумать об их порядочном воспитании. Дело не в том, чтоб их сделать скороспелками, выучить тому и другому, что они со временем забудут, а об том, чтоб сделать людьми». Жуковский говорит о необходимости, прежде всего, нравственного воспитания. «Это, – подчеркивает он, – всего важнее, ибо науки придут сами и скоро – надобно только дать ум, охоту к занятию и характер. Остальное будет легко».
Известно, какое огромное влияние оказал сам Жуковский на развитие русской литературы не только своим творчеством, но и своей личностью. Сама нравственная атмосфера литературы пушкинского времени во многом определялась личностью Жуковского. Его воспитанникам, братьям Киреевским, предстояло сыграть не менее значительную роль в философских и нравственных исканиях своего времени.
А основы закладывались в детстве, в Долбино.
В 1822 году семья Киреевских переехала в Москву, чтобы продолжить образование детей. Здесь среди учителей братьев Киреевских мы встретим имена ведущих профессоров Московского университета – Мерзлякова, Снегирева, Цветаева, Чумакова. Да и сам дом Елагиных-Киреевских (в 1817 году Авдотья Петровна вышла замуж за участника Отечественной войны 1812 года А. А. Елагина) становится вскоре одним из литературных центров Москвы. Здесь, в «привольной республике у Красных ворот» бывали Пушкин и Адам Мицкевич, Гоголь и Константин Аксаков, Чаадаев и Батеньков, Веневитинов и Баратынский, Максимович и Шевырев, Погодин и Николай Языков, а позднее – Грановский, Бакунин, Герцен.
В пестроте этих имен еще трудно увидеть линии судеб самих братьев Киреевских, хотя они наметились уже тогда, в 20-е годы. Для Ивана Киреевского – в сближении с любомудрами и «архивными юношами» (Веневитинов, Владимир Одоевский, Шевырев). Для Петра Киреевского – в занятиях с Мерзляковым и Снегиревым.
Друг юности Жуковского по Дружескому литературному обществу Алексей Мерзляков был не только профессором и деканом Московского университета, но и поэтом, создателем песен, ставших народными, «Чернобровый, черноглазый», «Среди долины ровныя», теоретиком и историком литературы. Причем, в трудах своих он призывал к изучению народной поэзии: «О, каких сокровищ мы себя лишили… В русских песнях мы бы увидели русские нравы и чувства, русскую правду, русскую доблесть, – в них бы полюбили себя снова и не постыдились так называемого первобытного своего варварства». И своих воспитанников он учил не стыдиться «первобытного своего варварства», изучать сокровища народной поэзии[107]107
В. Г. Белинский писал о Мерзлякове: «Это талант мощный, энергичный. Какое глубокое чувство, какая неизмеримая тоска в его песнях! Как живо сочувствовал он в них русскому народу и как верно выразил в их поэтических звуках лирическую сторону его жизни!»
[Закрыть].
Снегирев преподавал в Московском университете латинский язык и был профессором по кафедре римских древностей. Кафедры русских древностей еще не существовало, русские древности еще только начинали собирать члены Румянцевского кружка, среди которых был Снегирев. Изучение и собирание Памятников народного творчества тоже связано с именем Снегирева, считавшегося наиболее авторитетным специалистом в области археологии, этнографии и фольклористики.
Круг замкнется, если мы назовем еще одно имя Золианта Доленга-Ходаковского (Адама Чарноцкого) – выдающегося польского этнографа и фольклориста. В 1820–1822 годах на средства Российской Академии наук Ходаковский провел научную экспедицию на русском Севере, где собрал огромный этнографический, исторический и фольклорный материал вошедший позже в его четырехтомный «Словарь названий городищ и урочищ». В 1823 году польский ученый жил в Москве и не раз бывал в салоне Елагиных. Более того, пятнадцатилетний Петр Киреевский помогал ему разбирать собранный во время экспедиции материал. В письме к отчиму он в шуточном тоне рассказывал о своих занятиях с Ходаковским: «Я же, по несчастью моему, нахожусь теперь под ужасным спудом городищ, которые мучают меня с утра до вечера, и, несмотря на отсутствие политического эконома и верного слушателя Ходаковского, городища нас еще не оставляют и все еще продолжают частые свои визиты. Я уверен, что я буду скоро всех их знать наизусть не хуже Ходаковского».
«Политический эконом» – это семнадцатилетний брат, который тоже, как видим, был «верным слушателем Ходаковского», увлечение философией и политической экономией отнюдь не исключало интереса к истории и этнографии.
Занятия с Ходаковским не прошли для Петра Киреевского даром, в дальнейшем он будет много внимания уделять изучению славянских древностей, а в комментариях к песням широко использовать топонимику, основоположником которой считается Ходаковский.
Таковы непосредственные учителя Петра Киреевского. Кроме того, в ближайшем московском окружении братьев Киреевских мы встретим Максимовича – одного из основоположников украинской фольклористики, издавшего в 1827 году сборник «Украинские народные песни», Погодина, Шевырева, Хомякова, имена которых также немало значат в истории русской фольклористики.
К 1827 году Иван Киреевский уже достаточно четко представлял свое будущее «поприще». Свой долг и свою «обязанность действовать для блага отечества» он видел в литературе. «Я могу быть литератором, – писал он Кошелеву, – а содействовать к просвещению народа не есть ли величайшее благодеяние, которое можно ему сделать? На этом поприще мои действия не будут бесполезны; я могу это сказать без самонадеянности. Я не бесполезно провел свою молодость, и уже теперь могу с пользою делиться своими сведениями. Но целую жизнь имея главною целью: образоваться, могу ли я не иметь веса в литературе? Я буду иметь его и дам литературе свое направление».
Это писал двадцатилетний Иван Киреевский. Пройдет всего лишь год, и он выступит в «Московском Вестнике» со статьей «Нечто о характере поэзии Пушкина», которая станет этапной в истории русской критики. Одним из первых на нее откликнется Жуковский. «Я читал в „Московском Вестнике“ статью Ванюши о Пушкине, – напишет он Авдотье Петровне. – Благословляю его обеими руками писать – умная, сочная, философская проза».
Первые литературные опыты Петра Киреевского появились в том же самом 1827 году и в том же самом «Московском Вестнике». Это были переводы, которыми, свободно владея семью языками, он будет заниматься и в дальнейшем. Но один из его самых первых переводов тоже имел отношение к фольклористике. В 1829 году в Москве вышла книга, на титульном листе которой значилось: «Вампир. Повесть, рассказанная лордом Байроном. Пер. с английского П. К.». «П. К.» – это Петр Киреевский, не только переведший этот характерный образец европейского «неистового романтизма», но и снабдивший перевод обстоятельными примечаниями о фольклорных источниках повести.
Вот еще одно свидетельство серьезной научной подготовки в области фольклора, которую Петр Киреевский получил в годы ученичества. Но до двадцати лет он идет по стопам брата: одни и те же учителя, один и тот же круг друзей, литературных и философских пристрастий, а с 1829 года – одни и те же германские университеты. Пути их разойдутся по возвращении из Германии, когда Петр Киреевский начнет записывать народные песни, а Иван Киреевский – издавать журнал «Европеец». Но пройдет еще десятилетие, и оба они окажутся под знаменем славянофильства. Произойдет это тоже далеко не сразу и далеко не вдруг. На обычный вопрос: кем были братья Киреевские в 20—30-е годы – славянофилами или западниками, ответ дают строки письма Петра Киреевского к брату из Мюнхена: «Только побывавши в Германии, вполне понимаешь великое значение Русского народа, свежесть и гибкость его способностей, его одушевленность. Стоит поговорить с любым немецким простолюдином, стоит сходить раза четыре на лекции Мюнхенского университета, чтобы сказать, что недалеко то время, когда мы опередим и в образовании».
Так писал Петр Киреевский в ноябре 1829 года, когда по всем внешним признакам его, как и брата, можно было причислить к «западникам». Это «западничество» братьев Киреевских, как, впрочем, и других любомудров, заключалось, главным образом, в их шеллингианстве. Все члены Общества любомудрия Владимира Одоевского и Дмитрия Веневитинова причисляли себя к последователям Шеллинга. И в Мюнхенский университет Петр Киреевский, а затем и брат Иван, поедут слушать лекции Шеллинга, лично познакомятся с выдающимся немецким философом. «Я направился к нему, как к здешнему папе, на поклонение», – признается Петр Киреевский.
На поклонение к Шеллингу в эти годы шли как будущие славянофилы – братья Киреевские, Погодин, Шевырев, Хомяков, так и будущие западники – Чаадаев. А одним из ближайших русских друзей немецкого философа был, как известно, Федор Тютчев, тоже причислявший себя к шеллингианцам и тоже ставший впоследствии славянофилом.
«В начале XIX века, – читаем мы в „Русских ночах“ Владимира Одоевского, – Шеллинг был тем же, чем Христофор Колумб в XV: он открыл человеку неизвестную часть его мира, о которой существовали только какие-то баснословные предания – его душу! Как Христофор Колумб, он нашел не то, что искал; как Христофор Колумб, он возбудил надежды неисполнимые. Но как Христофор Колумб, он дал новое направление деятельности человека!»
Философия Свободы – вот что более всего привлекало в Шеллинге русских шеллингианцев. Философия Свободы и философия Искусства, в которой, по словам Ф. Энгельса, «в кельях абстрактной мысли повеяло свежим дыханием природы».
Шеллинг взорвал мертвые догмы философских и эстетических категорий, «теплый весенний луч упал на семя категорий и пробудил в них дремлющие силы» (Ф. Энгельс).
Но в письмах братьев Киреевских из Мюнхена есть и такая фраза: «Гора родила мышь». Она относится к Шеллингу. Братья Киреевские конспектируют лекции Шеллинга, подолгу беседуют с философом, все более убеждаясь, что Колумб «нашел не то, что искал».
Зато сами братья Киреевские нашли именно то, что искали. Причем, с помощью Шеллинга.
Дело в том, что одной из наиболее значимых идей философии истории и эстетики Шеллинга заключалась в признании за основу национальных культур и национального бытия. «Высшее значение формулы Шеллинга, – писал по этому поводу Аполлон Григорьев, тоже причислявший себя к ученикам „светоноснейшего мыслителя Запада“, – заключается в том, что всему: и народам, и лицам – возвращается их цельное, самоответственное значение, что разбит кумир, которому приносились требы идольские, кумир отвлеченного духа человечества и его развития».
Так что Шеллинга вполне можно зачислить в основоположники русского славянофильства, во всяком случае, почти все славянофилы прошли через шеллингианство, найдя в нем необходимую теоретическую предпосылку для осмысления национальной истории, национальных форм литературы и искусства.
Все это не значит, конечно, что само славянофильство пришло с Запада, что его теоретическая основа несамостоятельна и неоригинальна. В том-то и дело, что славянофильство существовало задолго до Шеллинга: уже адмирала Шишкова и того же Жуковского современники называли славянофилами и уже в 1801 году в Дружеском литературном обществе Андрея Тургенева, Жуковского, Мерзлякова, братьев Кайсаровых обсуждались идеи о необходимости обращения к фольклору. И в декабристской критике Кюхельбекера и Бестужева мы найдем немало тех же «славянофильских» черт. «Да воздастся для славы России поэзия истинно русская; да будет святая Русь не только в гражданском, но и в нравственном мире первою державою во вселенной! Вера праотцов, нравы отечественные, летописи, песни и сказания народные – лучшие, чистейшие, вернейшие источники для нашей словесности», – этот знаменитый призыв Кюхельбекера предвосхитил многие литературные манифесты Ивана Киреевского, Хомякова, братьев Аксаковых. Аполлона Григорьева…
Так что речь идет не о заимствовании, а о развитии, о продолжении идей, предопределенных самой логикой борьбы за национальные основы русской культуры.
Шеллингианство, и не только шеллингианство, а вообще европейский романтизм, способствовал развитию аналогичных идей как в Германии, во Франции, в Скандинавии, в Англии, так и в Америке. Борьба за национальную литературу в Новом Свете происходила не менее остро, чем в Старом. В 1827 году (почти одновременно с Иваном Киреевским) выдающийся американский критик Джеймс Полдинг начал дискуссию о национальной драме, а в 40-е годы XIX века в борьбе с «универсалами» и «денационалистами» принципы национальной литературы утверждала группа «Молодая Америка», сыгравшая примерно такую же историческую роль, как молодая редакция «Москвитянина» (причем, в те же самые годы!). В 1844 году Эдгар По писал: «В последнее время много говорится о том, что американская литература должна быть национальной; но что такое это национальное в литературе и что мы этим выигрываем, так и не выяснено» (сравним с известными пушкинскими словами, совпадение почти дословное: «С некоторых пор, – писал Пушкин в середине двадцатых годов, – вошло у нас в обыкновение говорить о народности, жаловаться на отсутствие народности в произведениях литературы, но никто не думал определить, что разумеет он под словом народность»). В России тоже были свои «денационалисты», утверждавшие, подобно одному из героев романа Лонгфелло «Кавана» (1849), что «национальная принадлежность хороша лишь до известной степени; принадлежность ко всему миру – лучше. Все, что есть хорошего в поэтах всех стран, – это не то, что в них национально, а то, что в них всеобще». Этой космополитической точке зрения противостояла эстетика «Молодой Америки», как подобным же идеям русских «западников» противостояли славянофилы.