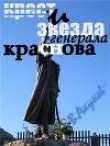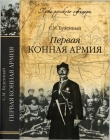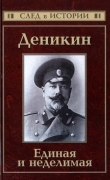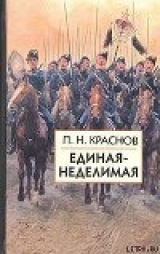
Текст книги "Единая-неделимая"
Автор книги: Петр Краснов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 39 страниц)
XX
Война сначала понравилась Русалке. Было в войне что-то, что напомнило ей свободу родных степей. Ночлеги под открытым небом у коновязного кола или ночлеги в громадном стодоле, где пахло по родному скотом, где была вязкая под соломой навозная жижа и куда приносил Тесов овес целыми немолотыми снопками, – все это возбуждало неясные воспоминания о жизни на заводе. Но скоро Русалка узнала и оборотную сторону войны. Хозяин стал надолго оставлять ее без езды. Он куда-то уходил на целые дни, и она оставалась одна с вестовым. Неправильно и не вовремя получала она корм, нудилась целыми сутками под седлом, и опухала сподпруженная под животом кожа.
А когда однажды прибежал, жалобно повизгивая, с подбитой пулею лапой Буран и стал под ногами Русалки рыть тупою медвежьей мордою землю и завывать от боли, стала Русалка кое-что сознавать. Она теперь настораживалась, когда кругом посвистывали пули, и вздрагивала, когда где-нибудь близко взрывался снаряд. Она начала понимать ужасное значение людской игры, когда увидала поле, покрытое телами людей и лошадей, и услышала пресный и сладкий запах гниющего лошадиного трупа.
Хозяин, – она боготворила его по-прежнему, – был ласков с нею, но уже не всегда приносил он в кармане рейтуз кусок сахару, и не могла не видеть Русалка постоянной печали в его глазах. Ах, если б только могла она спросить его, почему он не скачет на ней, почему не прыгает препятствий, куда девались Зорянко и его хёнтер с облезлым коротким хвостом и почему больше не носится она перед эскадроном, палашом (Палаш – абсолютно прямое длинное клинковое холодное оружие; при атаке тяжелой кавалерии палаши держались прямо, строго параллельно земле) откинув хвост и пожирая прыжками пространство? И почему нет теплых конюшен и чистых манежей, а приходится брести по колено в грязи среди усталых и голодных лошадей эскадрона?
Бежит сбоку колонны Бурашка, ковыляет на трех лапах, ведет счет эскадронам, старается никого не обидеть, сегодня при первом, завтра при втором, по-всегдашнему ласково улыбается солдатам и виляет хвостом. Но и у него печаль и недоумение в умных черных глазах. То ли гнетет его то, что калека он на всю жизнь, то ли страшно ему, что видит он стольких друзей неподвижными и мертвыми?
Видела Русалка, как хоронили Эльтекова и Мандра и как в стороне сидел Бурашка и, подняв морду, смотрел в самое небо, точно там спрашивал что-то, чего сам уразуметь не мог.
Приметила еще. Русалка, что вдруг стал Бурашка смущаться своей раны, своего убожества, точно заметил, что его солдаты не столько любят, сколько жалеют. На одном большом переходе, когда он стал уставать и отставать, Морозов приказал вестовому поймать его и везти на руках в седле. Буран отбивался и визжал. Казалось, ему совестно было обременять собою людей, которым он был всегда радостью и забавой. На другой день Бурана везли на артельной повозке, а на третий – Буран пропал с бивака. Был он с вечера печальный и скучный. Припадая на раненую ногу, обходил все эскадроны, точно хотел попрощаться со всеми.
Он долго сидел в стодоле, где стояла Русалка, лизал руки Тесову, а тот щекотал его за мягкими, стоячими, черного бархата ушами и говорил ему жалостливо:
– Ах, Бурашка, горемычный ты Буран! Поди, тяжело тебе «ветеринаром»-то быть? Хуть бы медаль тебе какую навесили.
Заходил Буран и к вахмистру Солдатову. Тот ласкал его тяжелой, заскорузлой рукой и говорил:
– Знаешь, Буран, что надумали мы? Отправим-ка мы тебя в Петроград, к полковому лазарету. Намучился ты на войне, да и нам возиться с тобою некогда. Куда ж тебе, калеке, за нами поспевать!
Буран повизгивал, сконфуженно терся о голенище сапога, точно был он не собака, а кот, и смотрел в глаза вахмистру. Печальный и тусклый был его собачий взгляд.
– Уж не болен ли ты, Бурашка? Ишь, какой невеселый. Не болит ли что внутри у тебя? Нос-то горячий. Пойдем «в ветеринарный лазарет. Емпературу тебе смерить надо.
Но Буран не пошел в ветеринарный лазарет. Он зарылся в солому подле Русалки и лежал тихо до, утра. А утром, когда Русалка встала, она уж не нашла подле себя черного мохнатого комочка Бурашки.
Когда седлали, Русалка слышала, как Тесов говорил вахмистру:
– Господин вахмистр, а что, быват, Бурашка не у вас?
– Нету.
– Что за чудеса! Ночью пришел к Русалу, в солому закопался, лежал, будто больной какой. А к утру, вишь, и ушел.
Когда строились эскадроны на деревенской улице, хлестал мокрый снег, ложился белыми пятнами на гривы и на крупы и тут же таял. Ветер шумел голыми ветвями садовых деревьев, грязная и тяжелая ожидала дорога. Мы отступали, и в осеннем утре, печальном и сыром, где-то недалеко двоили неприятельские ружейные выстрелы.
Немцы наседали на наши заставы.
Русалка стояла перед эскадроном, поджимала от ветра хвост, косила ушами, забитыми снегом, и тяжело вздыхала. Она слышала, как командир полка спрашивал по эскадронам, где Бурашка.
Кто-то, в шестом, крайнем, видел, как под утро вышел Буран из деревни и тихо пошел к лесу.
– Не иначе, как на заставы пошел, ваше превосходительство. Он чуткий, знает, где наши, не ошибется.
– Тяжело ему без лапы.
– Это точно.
Вот подошли и заставы. Еще издали спрашивали:
– Бурана не видали?
– Что Бурашка к вам не прибегал?
– Не с вами Буранчик?
– Был, был… Лесом проходил. Только скучный какой-то.
– Видать, не больной ли?
– Не помирать ли пошел?
– Буран, он великатный. Уйдет помирать, так запрячется.
Близки были выстрелы. Посвистывали над стальными пиками пули. Было не до поисков Бурана. Надо было уходить.
Приняли штандарт в мокром чернокожаном чехле. Голова полка потянулась по дороге, задымила паром от лошадей, закуталась в осенних холодных туманах.
Арьергардный эскадрон выслал по топким полям заставы, занавесился дозорами и зашлепал по растоптанной прошедшим полком дороге.
Бурана не было… Буран ушел навсегда.
XXI
Дед Мануил в черном каракулевом папашке с алым верхом и белым на нем тесьмяным крестом, домодельном длинном полушубке, подтянутом кожаным ремнем, при шашке и револьвере, подъехал во главе взвода к штабу полка и спрыгнул с маленького пузатого бурого маштака (Маштак – выращенная дома (не на конном заводе) очень малорослая лошаденка; приземистая лошадь-крепыш).
Сам дед старый, но бодрый. Седая борода расчесана, брови кустами торчат над умными зоркими глазами, а глаза в черных длинных ресницах так и совсем молодые! Никто, по ним глядя, не скажет, что деду Мануилу за шестьдесят, а сколько точно, он никому не говорит. Вся его выправка не теперешняя мужиковатая, с оттенком пренебреженья к строю, точно совестно взять руку под козырек, не показалось бы, что в солдатики играет, а лихая стародавняя, турецкий поход помнящая. Дед Мануил как вошел к адъютанту, как прижал руку к краю папахи, так и стоит прямым да стройным тополем, – на, мол, любуйся на меня! Вы, нынешние, ну-тка!
На сборном пункте Наказной Атаман в подхорунжие его произвел. Серебряный широкий галун вдоль погона нашит. На галуне набит номер полковой. Большой номер. Третьей очереди полк, набран из старых казаков. Кому под сорок, кому за сорок, бородатые, конопатые лица, обветренные и загорелые, шарфами поукутались, башлыками укручены лица – совсем мужики. Спорил с ними сперва дед Мануил, бранился, требовал не глядеть на непогоду, потом рукою махнул.
Сейчас казаки сидят на лошадях, не слезут, спину коню-кормильцу не облегчат.
Вышел от адъютанта дед Мануил. Крикнул. Молодо загорелись глаза.
– Вы чаво не слезаете? А? Каки-таки выискались!.. не-ве-жи!.. Айда с коней. Ты коню отдыха дай… Ты подпруги оправь, когда такая возможность есть. Ишь, расселись как куры на насесте. Только что не клохчут.
Ударились деревянные старые пики, тяжело послезал взвод с коней, задымили папиросами казаки.
– Ишь, курцы окаянные, – ворчит Мануил, – нет на их совести.
Все лицо Мануила мелкими морщинами перерезано, точно сеткой покрыто, чисто вымыто, лоснится и блестит, как старый полированный пергамент. Светится оно радостью, счастливым сознанием важной работы, исполняемой на старости лет.
Дед Мануил летучую почту расставляет, от Штаба корпуса к штабу дивизии, оттуда к кавалерийскому полку и дальше в окопы на самые позиции. Сотенный командир, раненый есаул, тоже немолодой, тетрадки раздал, чтобы пакеты записывать, а сам расставлять посты не поехал. Холодно ему показалось, ревматизмы разыгрались. Молодого хорунжего тоже при себе оставил, в карты чтобы было с кем играть. Деда Мануила послал.
Дед Мануил все обмозговал и обдумал. Себя наметил на позицию. В тайне мечту имел, там, коли случится что, может, еще и «Георгия» заработаю, в добавку к турецкому, а там и еще… и еще… полный бант бы надоть. Мечтатель был дед Мануил. Он и в секреты пойдет, и «языка» достанет. Башибузуков ловил, – не то что эти пивные остолопы. Потому сегодня, в чаянии близости подвига, так и светится лицо деда Мануила, играют на нем морщины и сверкают острые, не мигающие, соколиные глаза.
Адъютант вышел на крылечко землянки.
– Вы бы, подхорунжий, зашли погреться ко мне.
– Покорно благодарю, ваше благородие, я пост поставлю, инструкцию дам, а тогда дозвольте в трубаческую команду пройти. Внучек у меня там служит – Димитрий Ершов. Разумный парнишка, штаб-трубачом теперь.
– А, так вы его дед? Как же?.. Он разве казак?
– Мать его, дочка моя, казачка, вот я ежу дедом и довожусь.
– Можно его ко мне позвать. Что же вам самому беспокоиться?
– Не извольте, ваше благородие, тревожиться. Я к нему сам пройду.
Тянется дед Мануил. Рад он с «настоящим» офицером поговорить, свою стариковскую, александровскую выправку «доказать». Он ведь, дед Мануил, кого помнит? Самого Главнокомандующего, Миколая Миколаевича Старшего значок возил! (Здесь имеется в виду Великий Князь Николай Николаевич (Старший) – главнокомандующий русской армии на Балканах в русско-турецкую войну 1877-78 гг.
Согласно широко распространившейся в годы Кавказской войны традиции, за военачальником возили его личный флажок (значок), вид которого ни в каких предписаниях обозначен не был. Главное его назначение – чтобы войска видели местоположение своего начальника. Чаще всего значок возил казак-вестовой. Значок Вел. Князя Николая Николаевича представлял собой квадратное полотнище белого цвета с голубым православным крестом и лентой с надписью «С нами Бог», вышитой металлическими нитями) Скобелева видал, вот как адъютанта теперь видит, Непокойчицкого, герцога Лейхтенбергского, а нынешнего Верховного, что до Государя был (Имеется в виду Великий Князь Николай Николаевич (Младший), сын Вел. Кн. Николая Николаевича (Старшего), также принимавший участие в русско-турецкой войне 1877-78 гг. в чине корнета Л.-Гв. Гусарского полка. В 1914-15 гг. он был Верховным главнокомандующим Русской армии. Сменен Государем, отправлен Наместником на Кавказ), помнит еще безусым. Вот он какой – дед Мануил!..
Геройская тогда была война. И противник сурьезный, ну только и приятный. Благородная была война. Этого, чтобы год в окопах сидеть, а лошадей по лесам на коновязях держать да от еропланов хоронить, – этого не было…
Адъютант залюбовался стариком. Природный военный старик. На картину просится. Далеко до него Ершову.
Ершов услыхал, что приехали казаки, и вышел посмотреть. Он пожимался в длинной шинели, было ему холодно после теплой землянки. Он увидал деда Мануила и пошел навстречу.
– Деда!
– Митенька! Дед обнял внука.
– Мамаша поклон прислала. Не чаяла она, что увижу тебя, Митенька, а то бы и письмо написала. Коржиков домашних для случая мешок напекла, привез я тебе. Ишь, вот случай и вышел. Прямо к вашему полку попал. Паныч, Сергей Миколаевич здеся?
– На позиции, – рывком бросил Ершов.
– Повидаемся, значит.
Дед Мануил говорит, а сам глазами шарит по шинели, по лицу Ершова. Крестов ищет на его богатырской груди, на лице мысли его читает. И нахмурился дед Мануил. Вяло как-то сказал:
– Так-то, Митенька.
– Пойдемте, деда, в землянку. Погреемся. Зябкий стал Ершов… щуплый… «Интеллигент». Больно
это видеть деду Мануилу. За кровь свою обидно. Грунюшкина в нем кровь!..
– Там, поди, Митенька, народ, – сказал дед. Не тянуло его в дымную, прокуренную землянку. На вольном смолистом воздухе в лесу куда лучше!
– Прогнать можно, не велики птицы…
– Ах, не надо, Митенька, ты их пожалей, ты к им справедливым будь, вот они тебя и полюбят… Ну что, – не сразу выговорил дед Мануил, боялся, что верно угадал ответ, – неприятеля-то видал?.. Не испугался?..
– Пленных.
– А в бою?.. В атаке?.. Впереди полка… Сигнал-поход?.. А?
– Полк в атаку ходил… Я при обозе был.
– Назначили?
– Назначили.
– Берегут тебя, Митенька… Талант твой ценют… А ты бы… Тово… Сам отпросился…
Поглядел дед Мануил в самые глаза Ершова. Молчит Ершов, ни слова не молвит. Не оправдается перед дедом. Чует: нет ему оправдания.
– Ну, идем, деда.
Пошли… В старину не так они хаживали. Митенька тогда за руку дедову держался, обо всем спрашивал. Всему как будто хорошо учил его дед Мануил, да вот что-то не вышло.
– Вам бы, деда, может, приятнее, чтобы меня, как нашего адъютанта Заслонского, пулей убило, так и упал, не пикнув? Али как корнета Мандра, чтоб штыками в лицо исполосовали, когда он языка брал?.. – сказал Ершов. Хрипнул и срывался его голос.
Дед Мануил ответил не сразу. Через силу протянул слова.
– Еройская, Митенька, смерть.
– Геройская. Да мертвым-то легче с того, что она геройская?
– Они, Митенька, славою и честию венчанные на небеса приняты. Их Господь наш Иисус Христос за ручки приял и к Престолу Господа подвел. Они за веру, Царя и Отечество живот свой положили. Они, Митенька, заповедь Христову до конца исполнили… Не для этой жизни люди живут, Митенька.
Ершов хотел круто оборвать разговор и прямо сказать: «Будет, слышали эти сказки. Одна морока для простого народа… Нету Бога – это доказано учеными людьми, а что Бог есть, того доказать никому не удалось!» Но не посмел сказать. Была в старом деде Мануиле какая-то сила, которой не было в Ершове, и противостоять этой силе Ершов не мог.
– Ну, а мамаша что? Папаша? Как в Тарасовке? Были вы там, деда? – переменил он разговор.
– Мамаша ничего, молодцом. И дома и в поле убирается хорошо. Она – казачка. Ей на роду написано, чтоб трудиться. И папаша, Агей Ефимович, ничего. Тоже старается. Чуть-чуть и его не забрали. Из-за того оставили, что ты на военной службе. Ивана племянника убили, муж Евгении домой без ноги вернулся, – беды! Что, она с троими детями делать будет?!
– Все такая же красивая?
– Красивая баба. И сестра ейная, Люба, тоже замуж вышла не на радость. Мужа забрали и не слыхать, где он, не пишет. Справлялись повсюду – нигде не нашли. Как иголка, человек пропал.
– А Маша и Ксеня?
Маша у управляющего в горничных. А Ксеня – беды! Что ни весна, то брюхата и не скажет от кого. Наши боятся, не с пленными ли путается. Австрийцы там на заводе работают, пленные.
Пошел разговор про «домашнесть». Миновала гроза для Ершова. По сердечному попрощался он с дедом Мануилом, когда тот ногу в стремя вставил, на маштака своего взобрался, молодецки усы и бороду расправил и скомандовал:
– Первое звено, садись! Справа по три, за мной. Шагом марш.
И добавил:
– Ну, айда, молодцы!..
XXII
С собой дед Мануил отобрал десять человек, молодцов хоть куда. Стрелков и охотников. Тоже кресты мечтали получить, шли, как и он, на подвиг и смерти не боялись. Они ехали лесными глухими дорогами к окопам и пели и песню:
Только раздалось Царское слово:
Россы – полканы, враг под Москвой!
Тотчас сто тысяч храбрых готово броситься в бой!
А-ай, Донцы! Молодцы!..
Когда они вышли на чистое поле, зашумел над ними неприятельский аэроплан и сбросил две бомбы по их колонне. Не дрогнули старики. Еще громче запели:
Ринулись чада Тихого Дона.
Мир изумился, враг задрожал,
Рушилась слава Наполеона – Он побежал…
А-ай, Донцы… Молодцы!..
– Ай, молодцы! – обернулся к казакам Мануил. – Не испужались?
– Ну, чаво пужаться. Не видали, что ль?
– Он не попадет. Сверху-то ему трудно рассчитать.
– Без Бога не попадет. А с Богом и попадет, так помирать не страшно, с Богом-то!
Летучий пост установили при резерве спешенных частей, где была телефонная станция. Дед Мануил отпросился съездить на позицию к земляку, штаб-ротмистру Морозову.
– Туда не ездят, сказал ему начальник резерва.
– А почему не ездят?
– Снарядом могут попасть. Немцу дорогу видать. Пристреляна она.
– Нюжли попасть могут? Это все одно как горошиной по мухе на стол. Николи не попасть.
На пузатом, буром маштаке добрался дед Мануил до позиции. Никто по нему не стрелял, даже обидно стало.
В траншее, за пригорком, у начала хода сообщения Мануил оставил своего коня и пошел по витому глубокому ходу.
«Ну, война! Смеху подобно. Словно кроты зарылись! Аж голова кружится по коленам по этим ходить. А мудро устроено. Му-удро».
Мануил нашел Морозова в маленькой землянке. Тонкая дверка еле держалась на веревочных петлях. Землянка была как гроб. Низкая, тесная и узкая. Вверху оконце в три стекла, печка железная накаленная, койка на колышках, на ней одеяло, на стене фотографический портрет: барышня, – платье по самую грудь открыто и руки голые. Срамота! Под окном стол, перед ним два ящика из-под патронов один на один поставлены, вместо стула. На столе книги. В углу висела икона Божией Матери, ее серебряная риза блестела тусклыми отсветами от окна.
Морозов сидел за столом и читал книгу. Он поднялся навстречу Мануилу. Он его сразу узнал, обрадовался и протянул ему обе руки.
– Здравствуйте, Мануил, вот неожиданно к нам попали. Мне адъютант по телефону говорил: гость ко мне едет. А кто гость, не сказал. Как я рад! Сколько родного, светлого и старого напоминаете вы мне! Как смотрю на вас, так и вижу: Константиновку, Иоську, Финогена, и и птицы клюют муравьиные яйца… Знаем мы, что ли, вину муравейную, грех их лютый и жестокий, за который послал на них Господь свою кару? Мы-то не знаем, а Господь тую вину знает. А мы вот свою людскую вину давно знаем. Давно без Бога живем. Давно без Господа дышим. Ну, и послал Господь испытание.
– Гибнут-то, Мануил, все лучшие.
– Ей, верно, говоришь. Так Господу угодно. Оставайтесь, паскуды, перегрызите горло друг другу, исполните до конца мою казнь!
– Значит, нет милосердия?..
– Все, Сергей Миколаевич, тебе потому так кажется, что все ты на землю смотришь. По земле ползаешь, да об землю трешься. По-земному – жестоко, а по-божьему, по-небесному и ах, как милостиво выходит. Тут у тебя заботы и печали земные, болезни разные, а там тебе жизнь бесконечная, радости полная, херувимы и серафимы и весь лик ангельский тебя ублажают – вот награда тем, кто честно жизнь свою отдал. Тут на время, а там на век. Тут горя один час, а там вечная радость.
– Прискучит, Мануил.
– По-земному смотреть, прискучит, а ты глянь по-небесному. Али прискучило солнышку на землю глядеться, а земле солнцу радоваться?.. Али прискучило звездам на небо в ночку темную высыпать да хороводы по небу водить, а земле сном бестревожным да тихим спать? Ей! Не прискучило это! Не прискучит радость небесная, неутолимая радость Божеская.
«Верит дед Мануил, – подумал Морозов. – И откуда ему счастье дано: верить? Про жизнь будущую рассказывает, точно сам там был или верный Человек оттуда вернулся. У него не туманная философия четвертого измерения, но вера, основанная на жизни, изученная в Библии».
– Откуда, Мануил, вы все это знаете?
– Откуда? А ты посмотри, что крутом деется. Убирается весною лес мелким пухом, зеленеет, набухает почками, цветет летом, семена роняет, а об осень стоит как в лихорадке, жаром мучится, раскраснеется, желтым листом покроется, мы на него любуемся… А ты знаешь ли про его страдания, про смертные муки его? Молчит дерево, не говорит тебе ничего. Только лист краснеет, да корежится и в бурю лютую шумит, да ропщет. Ветвями воспаленными машет дерево, к Господу взывает, смерти просит. Придет зима, стоит оно сонное, мертвое, ни тени от него, ни радости для глазу. А к весне опять потекут живые соки из земли по сучьям и опять пойдут набухать почки. Сказано в Писании: аще не умрет, не оживет. Ты говоришь: война и смерть – ужас Господень. Избавление Господне скажи! Через подвиг смерть нелицемерную который человек принял, что ему? Райский венец его участь. Сродственники его любезные, отец с матерью, все помершие раньше там его встренут, как своего дорогого. Может, и невеста твоя там за тебя перед Господом молельница и заступница.
Морозову припомнился концерт Тверской, где он в первый раз ее слушал. «Исчез и поцелуй свиданья… Но жду его… Он за тобой!»
Морозов тяжело вздохнул.
– Что, паныч, вздыхаешь? Тяжело, а ты Богу молись!
– Грешен я, дед Мануил, не доходчива стала моя молитва. Вот вино пью.
– И что за грех? И Христос в Кане Галилейской вино людям благословил. Бог создал лозу на потребу человеческую. Бог-то радуется радости человеческой, Бог-то пьяного бережет. Ты смотри, иная лошадь какая лютая бывает, а пьяный сел да поехал. Бог людей-то жалеет. Только лишнего все же не пей. А коли много выпил, ты укорись, попрекни себя, да раскайся, не в этом грех лютый.
– А в чем же грех?
– Грех-то в чем? В нелюбви грех, в ненависти, в злобе, да в зависти, вот где грех! Ты немца бьешь, – в тебе к нему злобы нет, так, для порядку бьешь, потому война, и греха с того нет. А вот ежели возненавидел кого да бьешь со злобою, вот это грех великий.
Помолчал Мануил. Он ожидал, не спросит ли что дальше Морозов, но Морозов раскурил папиросу, смотрел на деда и молчал, думал свое. Тогда продолжал Мануил уже тише, точно нехотя говорил:
– С наших мест, с Тарасовки, нас здесь четверо теперь. Ты, да я, да Димитрий, внучек мой, да еще кобылица твоя, с нашего завода приведенная. И ты посмотри, сколь мы разны. О себе, между прочим, говорить не стану: грех говорить о себе. Человек я старый. Про себя ты сам понимаешь. Об Митеньке скажу, не на хорошем пути человек. Посмотрел я его сегодня. Откуда взялось? Я ль не учил, я ль не говорил с ним по душе, а только вижу: без любви человек живет. А коли талант без любви, то и талант ни к чему. Поганый тогда талант. Не от Господа, а от дьявола – людей смущать дан тот талант. А про кобылицу не только слыхал, но и читал в газетах, в запрошлом годе, перед войною было прописано. Призы, значит, брала. Ее часть перед Господом славная, потому она ласковая вышла лошадь, покорная.
– По-вашему, Мануил, и лошадь душу имеет?
– А ты в глаза ей посмотри. Да и скажи тогда, что в ней кроется? Может, ее-то, душеньку, Господь раньше призовет, чем твою. Ты поищи, где ее грех, когда она всю себя отдала человеку, как велел ей ангел Господень?
– Как хорошо вы говорите! Как все у вас просто и ясно!..
Дед Мануил поднялся с постели, натянул на себя шубу.
– Однако прощенья просим, ваше благородие. Старый я стал, язык распустил. Ну, да и повидал я на свете не мало. Прошли передо мною люди, ровно стада тысячные, и кажный человек на особую стать. А я только смотрел.
– Что же мне делать, Мануил, чтобы тоску мою заглушить? – спросил, тоже вставая, Морозов.
– А ты Ей молись. Скоропослушнице! Матери Божией. Тут Она, с нами. И не покинет нас, пока не кончатся дни скорби. Еще Серафиму Саровскому помолись. Великий угодник перед Господом. Он молитву услышит и совет подаст. Ему верь… Да еще Сергию Радонежскому молись. Он твой святой, он тебя не оставит.
– Молись… молись!.. – воскликнул Морозов, у которого слезы подступали к горлу. – Не слышит никто наших молитв! Варшаву отдали, в землю закопались, сидим целую зиму. Чего ждем?! А в тылу шепот змеиный, измена крадется. На царя клевещут, надежных людей не стало. Народ стосковался по миру, воевать стали плохо.
– Все в руках Божьих, – коротко сказал дед, направляясь к выходу.
– Ваше благородие, – уже в дверях сказал Мануил. – Ежели у вас что будет… Разведка аль поиск какой… не забудь деда Мануила. Башибузуков, быват, бирал в одиночку и теперь потрафлю, не подгажу.
– Хорошо, дед. Спасибо на добром слове.
– Не на чем.