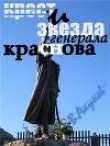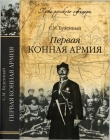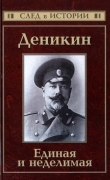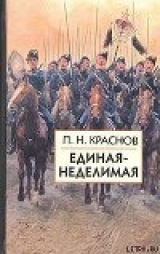
Текст книги "Единая-неделимая"
Автор книги: Петр Краснов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 39 страниц)
VII
В селение Дуб на крестьянских подводах свозили раненых австрийцев. Это были русины. В синих, с черными кровяными пятнами, мундирах, накрытые шинелями, они лежали на соломе с землистыми, испуганными и покорными 'лицами.
Солдаты морозовского эскадрона поили их чаем, давали хлеба и разговаривали с ними.
– По-нашему говорят. Понять все можно, – говорили солдаты.
Рассказывали русины:
– Как поднялись мы, чтобы идти в атаку на вас, видим, Божия Матерь встала над вашими цепями, закрыла их покровом и стоит, высокая до самого неба, а сама белая, светлая, как из жемчуга сотканная, и не могли мы ударить в штыки. А штыки уже примкнули.
Морозов понимал, что эти люди духом поднялись до познания непознаваемого. Где же и было быть Божией Матери, как не в этой первой военной скорби, первой смерти, и первом бранном ужасе. Морозов вспомнил когда-то прочитанное им житие Андрея, во святых Юродивого. Был он такой святой жизни, что допущен был живым в рай видеть селения праведных. Ангел Божий сопровождал его и показывал Андрею все райские круги. Видел Андрей Юродивый Господа Бога, Иисуса Христа и Духа Божьего. Видел святых, почивающих на лоне Авраамовом, видел славных архистратигов Гавриила и Михаила в доспехах блестящих воинских, видел херувимов и серафимов и все силы ангельские. Видел сонмы святых и праведников, видел просто честных, добродетельных в жизни людей, их души, наслаждающиеся блаженством райским. Но Божьей Матери ни видел. Он искал ее везде, весь рай исходил, весь рай осмотрел, но Матери Бога Нашего, Пресвятой Девы Марии не нашел он в райских селениях. Когда же уходил на землю Андрей Юродивый, то осмелел и спросил он Ангела, ризы светлые чище снега первого:
– Где же Матерь Бога Нашего, Заступница и Скоропослушница в человеческих скорбях? В каком круге небесном спасается Она, всех прибегающих к ней Сама спасающая?
И ответил, поникнув головою, Ангел:
– Нету в селениях райских Матери Бога Нашего, Господа Иисуса Христа.
– Где же Она? – спросил Андрей Юродивый. – Ужели же Ее, Праведницу, на небо вознесенную, не принял Господь в селения Свои райские?
И ответил Ангел:
– В скорбях людских пребывает Божия Матерь. Сама Сына Своего в крестных муках видевшая, знает Мать Бога Нашего, что такое человеческие страдания, и пребывает Она вечно на земле, стремясь утишить человеческое горе. Объявляется в иконах чудотворных, заслоняет омофором Своего Сына погибающих, дает победу верующим,
стоит у одра болящих, исцеляет неисцелимых, посылает благодать Божию нуждающимся в ней. Оттого и нет Матери Божией в селениях райских.
И, вспомнив об этом, поверил Морозов, что действительно видели австрийцы Матерь Божию, восставшую на защиту погибающих.
Поразили Морозова в этом первом бою простота смерти, ее величие и вместе ее ненужность.
Вот Эльтеков сказал: «Петренко убили».
Он не счел нужным облекать этот страшный случай в другие слова. А убили бы в мирной обстановке! Все бы кинулись к телу, обступили его, одни из любопытства, другие из сочувствия, были бы трогательные похоронные заботы и панихиды над телом.
Теперь Эльтеков, Морозов, Окунев и Мандр совещались с вахмистром Солдатовым, отправлять ли тело к полку или похоронить завтра в селении Дуб, воспользовавшись тем, что при пехотном полку есть священник, а в селении православная церковь. И решили похоронить перед выступлением, так как неизвестно, где находится полк.
Петренко и два солдата были убиты, а шесть человек ранено… Сотни трупов пехотных солдат остались лежать на жнивье, и их постепенно свозили к широким братским могилам.
Для чего?
В этот осенний день весь бой был непонятен. Шли на выстрелы, повинуясь требованию устава, и наткнулись на какой-то встречный бой, на начало большого сражения, прославившего потом части XIX Армейского Русского корпуса… Но в те недолгие часы, что Морозов лежал с солдатами на жнивье, наблюдая отбитие несовершившихся атак, ему эти первые убитые показались обидными и ненужными.
«Мы даже и не стреляли!» – думал он.
VIII
Со временем Морозов привык равнодушно относиться к потерям. Научил его этому «покойному на них взгляду случайно встреченный казак. Морозов шел с полком к Висле. Был хмурый ноябрьский день. Проходили через польские местечки, откуда бежали жители и где только жиды оставались в лавках и «склепах», складах товара, и все еще торговали, продавая солдатам хлеб, колбасу, рубашки, табак и папиросы.
Лошади медленно брели по киселю грязи, утопая в нем по колени и далеко брызгая ногами капли, блестящими катышками ложившиеся поверх грязи.
День был хмурый, и впереди, не смолкая, гремела артиллерия. Были ее земные громы, подобно громам небесным, непрерывны и гулки. Навстречу их полку, черными, жухлыми полями в тяжелых бороздах, рысью пробирался казак…
На голове папаха серым защитным чехлом обтянута, полушубок по колени, штаны – лампас алый. Конь худой рыжий, бежит легко, ногами за землю цепляется, точно кошка крадется. Казак сидит ловко, ничто не колыхнет на нем, не брякнет. Стальную пику уткнул в бедро, копье к уху лошадиному нагнул. Лицо молодое, красное, худое и обветренное.
– Эй, станица! – крикнули ему офицеры. – Откуда?
– Оттеля. Из-за Вислы, – ответил казак. Придержал коня, глядит смышлеными глазами.
– А что там?
– Ничего. Наши третий день дерутся.
– Ну, как?
– Ничего, подается герман.
– А потерь много?
– У нас-то? – усмехнулся казак. – На войне не без урона, – крикнул на ветер, дернуя тонкими скрутившимися поводками лошадь, толконул ее ногами и заскакал собачьим наметом дальше.
– Ты куда, с донесением, что ли? – крикнул полковник Работников.
– Не-е! За фуражом, коней кормить…
Мимо, в серых сумерках короткого дня, плыли черные поля, и близок был горизонт набухшего тяжелыми снеговыми тучами неба. Вот-вот закрутит пурга, закует мороз грязь стальными кольчугами и посыплет сахарным порошком снега.
Чаще попадались громадные воронки от снарядов. Вчера здесь был бой.
Вправо от дороги что-то обратило внимание солдат. Из эскадронов выезжали люди, подъезжали к чему-то, останавливались и сейчас же догоняли свою часть.
– Ну, чаво не видали! На место! – лениво крикнул ехавший перед Морозовым вахмистр второго эскадрона, но сам свернул посмотреть. За ним поехал Морозов.
Шагах в сорока от дороги была огромная, шагов тридцать в поперечнике, воронка от тяжелого снаряда. Черные края земли спускались полого в глубокую яму, покрытую внизу каким-то серым налетом. Тридцать два трупа австрийских солдат лежали правильным рядом по борту воронки. Точно залегли они здесь, кем-то снесенные, да так брошенные и позабытые. Ветер шевелил краями сине-серых шинелей, одни были в кепи, другие с обнаженными головами, одни лежали ничком, уткнувшись лицом в землю и выпятив спины с тяжелыми ранцами, другие, лежа на спине, держали кверху бледные лица, и ветер ворошил темные бороды и усы.
Кому-то, где-то нужные работники, отцы, мужья и сыновья, – они уже никому не были нужны, и некому и некогда было засыпать их в их боевой могиле.
«Где же была их Божия Матерь?» – подумал Морозов.
Ноябрьская ночь надвинулась тяжелыми серыми завесами. Предметы потеряли четкость. Где-то внизу светилось красным светом окно. Дорога спускалась в лощину, и по ней был расположен посад.
Под ногами лошадей застучал заплывший жидкою грязью камень. В сумерках, прорезанных светом из окон, определилась большая площадь. Чья-то пешая фигура точно из земли выросла под самой Русалкой, и кто-то бодро спросил:
– Ваше высокоблагородие, – вы?
– Кто там? – очнувшись, опросил Морозов.
– Квартирьеры, ваше высокоблагородие. Нам здесь становиться. Пожалуйте за мной.
Черная фигура исчезла во мраке и только Русалка видела ее и шла настороженно за нею.
IX
Морозов искал на войне необычайного. Искал чуда. И он слышал веяние этого чуда. Вся война была наполнена необъяснимым, и не раз чувствовал Морозов омофор Божией Матери над Русскими войсками и над собою.
В конце февраля пятнадцатого года Морозов поехал с вестовым по шоссе на Серафинце узнать обстановку. На завтра они должны были сменить казаков, которые вели здесь шестые сутки бой.
С утра завывала и мела сугробы вьюга. Мороз по здешним местам был жестокий. Было шоссе, то голое, с обледенелым, скользким щебнем, серыми унылыми полосами тянувшееся по полям, то было оно заметено сугробами по брюхо лошади. В спину дул неистовый ветер. Уши, шея, грива и холка Русалки были забиты снегом. Снег пролезал под башлык, за воротник, засыпал грудь и рукава. Взгляд впереди терялся в мутных просторах, где крутились и реяли снежинки. По сторонам на столбах выла телеграфная проволока, и на вымершем шоссе не было ни души.
Морозов отъехал восемь верст от штаба дивизии, где ему указали направление, и не встретил никого. Было жутко ехать в эту мутную даль, не зная, что впереди.
По сугробам снега Морозов спустился в балку, пересекавшую шоссе. Влево от дороги он увидал пушки, по самые дула заметенные снегом, и при них одного казака – часового. Батарея казалась покинутой. Морозов спросил, где начальник участка.
– А вот, как подыметесь из балки налево, на винокуренном заводе они там и будут.
Морозов представил себе теплую комнату при заводе, где он отряхнет с себя всюду набившийся снег, где согреется и напьется горячего чая.
Когда он выбрался наверх, он увидал по левую сторону шоссе красную, круглую, кирпичную трубу и кругом стены сгоревшего завода. У ворот стоял казак. Во дворе за стеной жались накрытые попонами, поседланные лошади.
– Здесь командир полка? – спросил Морозов.
– Так точно.
В центральном здании завода, где высился громадный котел и где вились изогнутые пожаром медные трубы, среди занесенного снегом железного лома, внутри какого-то чана, на наваленной соломе сидело два офицера. Один высокий, худой, с мясистым усатым лицом, в полковничьих погонах, и с ним среднего роста, красивый, черноусый сотник. За котлом жалось человек восемь казаков, и один из них, склонившись над деревянным ящиком с телефонным аппаратом, настойчиво говорил:
– Миронов… А Миронов? Чего не отвечаете? Со второго провода направили… Миронов?..
Морозов спросил, какова обстановка.
– Обстановка? – точно встряхиваясь от сна, повторил полковник. – Вьюга, вот какова обстановка. Вьюга, притом им в морду, и вторые сутки без передышки. Батарею мою засыпало, откапывать не успеваем. Людей в окопах засыпало. Затворы не скользят, смазка замерзла, стрелять нельзя. У нас тихо.
Оказалось, что впереди винокуренного завода, шагах в шестистах находились окопы. Там лежала рота.
– Однако, всего девяносто пять человек, – прибавил полковник, – рота стрелкового полка, посланная на усиление участка, а справа и слева от нее спешенные казаки. Не более тысячи шагов от нашей позиции, впереди двух больших селений Дорогоньки и Лежиски находился неприятель: венгерская пехотная дивизия, австрийская пехотная дивизия и бригада германской кавалерии. При них четыре австрийские и пешие легкие батареи, одна тяжелая и одна конная германская. Батареи стоят за Днестром. Вторые сутки дует нам в спину и в лицо неприятелю вьюга, и на фронте тихо.
– Какой черт теперь на нас полезет! – говорил Морозову полковник. – Снег по пояс, глаза слепит и стрелять невозможно. У меня люди стали ноги озноблять. У стрелков валенки есть, а мои в сапогах лежат. Совсем недавно из шестой опять телефонили, – двоих с ознобленными ногами в околодок отправили… Я и решил…
Полковник замолчал.
– Что же вы решили, господин полковник? – спросил Морозов.
– Я все сотни приказал в селение Исаков к коноводам отправить, а в окопах оставить только полевые караулы, которые сменять каждые два часа.
– Значит? – спросил Морозов и остановился.
– Значит, между нами и неприятелем, кроме нескольких человек часовых, нет никого.
– Как же так? Ведь у них, вы говорите, две пехотные дивизии и бригада конницы?
– Так точно.
– А у нас?
– А у нас Божья Матерь с Ее святым покровом. Морозов чуть заметно пожал плечами. Полковник заметил это движение и с раздражением сказал:
– А что прикажете делать? Все равно люди в таком состоянии, что никакой атаки не выдержат. Чтобы схватиться в штыки, нас слишком мало, а стрелять мы не можем. Да и какой черт атакует в такую погоду навстречу вьюге!
– И атаковать не нужно. Пойдут церемониальным маршем прямо на наши штабы.
– А почем они знают, что я убрал казаков?
– Кто-нибудь донесет.
– Я в этот их всемогущий шпионаж не верю. Да не стоит думать об этом. Слышите, как завывает… Попробуйте выйти и пройти по полю. Через сто шагов упаритесь. Да что там! Давайте лучше закусим.
Весь занесенный снегом, точно елочный дед, бородатый казак притащил из деревни холодную жареную баранью ногу, ситный хлеб, бутылку кислого вина и, подав все полковнику и адъютанту, стал в закутке под какими-то машинами вздувать костер, чтобы согреть чаю. Устроились на ворохах соломы внутри парового котла, между чугунных стенок, сбитых клепками. Адъютант, сотник Плешаков, приклеил к металлическому шву котла две стеариновые свечки, и все трое уселись за столом.
– Видите, какой палац у нас. Важно, – говорил полковник. – Поедим, да и спать. Ничего теперь не будет.
Они поели, запили горячим чаем и теперь сидели, нахохлившись и молча. Изредка через окна завода влетала легкая пуля и пела протяжную жалобную песню либо со звоном ударялась о котлы и трубы.
Адъютант болезненно морщился и говорил:
– И все стреляет. Скучно ему, что ли?
– Нервит, – сказал полковник. Он закутался мягким кавказским башлыком и прижался к стенке котла.
Молчали долго. В тишину котла воющими шорохами доносилась вьюга, непрерывная, жестокая и холодная. За котлом вяло жевали сено лошади и порою прислушивались, переставая жевать. Ночь надвигалась.
– Вы сами, поручик, из каких мест будете? – спросил полковник.
– Я почти что ваш. Донской области. Из слободы Тарасовки.
– Морозовых, что ль?
– Я Морозов.
– Вот что… Я и не расслышал, как представлялись. То-то и по обличию видать, как будто наш. Так именье-то ваше сожгли в пятом году?
– Сожгли. Все уничтожили.
– Чего только не наделает народ. И кому это надо? Я помню ваш дом. Давно… А бывал. Славный дом был, и картины, и разные там редкости, табакерки старинные, совсем как музей. Неужели же все пропало?
– Все пропало.
– Что ж… И жизнь пропадет… Все тлен. Свистнула пуля, сейчас же другая, третья ударила в трубы, зазвенела жалобно и упала в песок, в золу.
– Слышите, господин полковник? – сказал адъютант. – Это не оттуда, откуда днем, это со стороны стрелков. Оттуда раньше не долетало.
– Что им приснилось, собачьим сыновьям, – вяло сказал полковник. Он дремал, и пули его не беспокоили.
– Господин полковник, и кони есть перестали. Что-то чуют.
– Это они так, – сказал полковник.
– Позвольте, я пойду посмотрю.
– Что ж, ступайте, Михаил Гаврилович, да пошукайте потом по телефону, пошла ли пятая подменить караулы? Не заплутала бы в этакую метель.
– Слушаю.
Адъютант вылез из котла и ушел. В разоренном строении было тихо. Кругом бушевала вьюга. Часто посвистывали пули. Действительно, они влетали не через те окна.
– Ой, Господи! – вскрикнул кто-то в углу…
– Чего там?
– Телехвониста Морковкина в локоть ранило.
– Ну-у? – удивился полковник. – Там же не долетало.
– Теперь долетает, ваше высокоблагородие, уж четвертая пуля… Вот она и пятая, да близкие какие, так и рвут.
– Ну… – протянул полковник и, сгибаясь длинным телом, стал вылезать из котла. За ним полез и Морозов.
Едва они вылезли, как в ворота вбежал адъютант.
– Господин полковник! – взволнованно крикнул он. – Венгерская пехота валом наступает на нас. Стрелки отходят. Они уже под заводом, на горку всходят.
– Кто они?
– Да стрелки…
– Давайте коней, посмотрим, чего там случилось, – все еще не веря, сказал полковник.
Через минуту он сел на лошадь и поехал за ворота. За ним тронулись два трубача и ординарцы. Поехал и Морозов.
– Ординарцы! Остановитесь покамест тут. Одни трубачи со мною.
Выехали за завод.
X
Лошади медленно шли по глубокому снегу, проваливались по колено, по брюхо, прыгали, вылезая из наметенных сугробов. По-прежнему неугомонная свистала вьюга и крупными острыми хлопьями неслась пурга навстречу неприятелю. В воздухе часто посвистывали пули, щелкали по снегу и было страшно ехать.
– Вы того… цепочкой езжайте, – обернулся полковник. – Абы не зацепило кого.
Только выехали за завод, где за бугром поле полого спускалось к австрийской позиции, как в темноте часто замаячили темные фигуры. Они казались большими и быстрыми.
– Кто идет? – крикнул полковник.
– Свои… свои… – растерянно отвечали люди и быстро проходили к заводу.
– Стрелки, что ль?
– Стрелки.
– А ротный где?
– Кто опрашивает?
– Командир казачьего полка.
– Ротного к начальнику участка!
Из туманов взлохмаченной ночи выдвинулась высокая фигура.
– Вы чего же это, други? А?
– Господин полковник… Венгерская пехота наступает. Поболее батальона.
– Ну… наступает… А вы?..
– Стрелять невозможно. Затворы снегом занесло. Офицер поднял винтовку и спустил курок, не было слышно щелчка ударника.
– Капсюль не разбивает.
– Протирать надо было…
Несколько пуль ударило подле. Лошадь адъютанта шарахнулась в сторону.
– А у него стреляет?
– Тоже плохо стреляет. Больше молча идут.
– Где же они? Офицер оглянулся.
– Во-он маячат.
Морозов посмотрел в ту сторону, куда показал стрелковый офицер, и увидал в снежных вихрях чуть приметные темные тени.
Полковник круто повернул коня и поскакал к заводу. Лошадь неловко прыгала по сугробам.
– Что ж теперь делать, господин полковник? – сказал, догоняя его, Морозов.
– Что?.. По телефону предупредить надо штаб дивизии, штаб корпуса. А то, как австрийцы на шоссе то выйдут, через полтора часа вот и они… Ах, черт! Спят ведь там они, понимаете… На меня надеются. Верят-таки, что не сдам позиции!? Батарею-то полдня откапывать надо. Вы понимаете это?.. Да, где же, черт подери, телефонисты? На заводе не было ни души. Ни телефонистов, ни ординарцев. Точно вьюга слизнула их. Все удрали, поспешно смотав телефоны и кое-где даже бросив провода.
– Сволочи! – вырвалось у полковника. – Учуяли негодяи, чем пахнет? Им аппараты чести казачьей дороже! Михаил Гаврилович, скачите вы… Да постойте! Надо бы написать. Так никто не поверит. Экой срам-то какой. Ну, мы ускачем… А батарея? А люди?.. Позор. Стреляться – надо. Не иначе…
Отчаяние полковника передавалось Морозову. Беда казалась непоправимой. Нигде не было ни одного человека, порывами выла вьюга, и в темных сумраках ночи то пропадал, то хрустко слышался поспешный шаг отходящих стрелков.
Полковник заехал за завод.
– Покурить, что ль, перед смертью, – сказал он. И вдруг выпрямился в седле. Под ним, в балке, в затишке, где вилась заметенная снегом дорога, тонкой змеею маячила длинная узкая колонна. В белом дыму метели чуть мерещились копья пик. От серых лошадей тонкий поднимался пар, и вся колонна казалась призрачной. Точно силы небесные двигались в этом снежном хаосе, легкие, еле зримые глазу.
– Пятая, что ль? – бодро крикнул полковник.
– Пятая, господин полковник, – вяло донесся старческий шамкающий голос. Один из всадников отделился и стал подниматься по снежным сугробам к полковнику.
– Пятая сотня, – командовал полковник, – отделениями на лево ма-арш!
Змейка двинулась, звякнула пиками, стала прямою и четкою, резче стал приметен пар, поднимавшийся над лошадьми.
– В чем дело, господин полковник? – спросил старый маленький человек, до бровей закутанный башлыком, подъехавший к командиру полка.
– Увидите, Леонтий Васильич, – как от мухи, отмахнулся от него полковник и продолжал кричать: – Сотня шашки вон, пики на бе-дро!.. Строй лаву!..
Сплошная линия выстроившейся сотни разделилась и стала краями скрываться во мраке вьюжной ночи.
– Рысью марш…
И, когда проходили мимо полковника тяжело в снегу дышащие лошади, он крикнул по фронту:
– Там венгерцев малость порубите… Только смотри, впереди пехота наша их заманивает. Ее не трожь!..
– Понимаем, – раздались голоса. – И гичать погромче!
– Понимаем….
Сотня скрылась на скате.
Полковник, Морозов, адъютант и трубачи поехали сзади.
– Ну, что Бог даст, – вздохнул полковник.
Едва проехали завод, донесся протяжный воющий казачий гик и за ним громкое пехотное «ура».
– Помогай Матерь Божья! – сказал полковник и широко перекрестился.
Прошло несколько времени. Пули не свистали. Было тихо.
– Ну, кажется, кончили, – сказал полковник. – Поедем, господин поручик, до дому.
У завода, на шоссе, остановились и ждали.
Была вьюга, неслись хороводом снежинки, но никаких иных звуков не примешивалось к вою ветра. Так стояли, не слезая с лошадей, с полчаса и смотрели в туман. Наконец, увидели. По шоссе к заводу вилась черная колонна и сбоку маячили конные казаки.
Старый есаул приметил своего командира полка, отделился от колонны и рысью потрусил к полковнику. Он сдвинул с красного обветренного лица башлык и сказал счастливым, еще дрожащим от пережитого волнения голосом:
– Человек с двести порубили, господин полковник, они и не стреляли, остальные все сдались. Померзли совсем. Жалко смотреть.
– Хорошилов, – обернулся командир полка к штаб-трубачу, – скачи ты назад, заверни ты мне эту публику – телехвонистов… Михаил Гаврилович, наладьте-ка в закутке свечку, надо донесение написать. А вы, поручик, будьте добры, посчитайте мне пленных.
У завода стояла колонна венгерцев. Они были тупые и равнодушные. Пять офицеров, один майор впереди, за ними толпа безоружных солдат. На них накинулся полковник. На скверном немецком языке он ругался.
– Как же вы смели в такую погоду атаковать? А! Несчастные!.. Вот и попались…
Он слез с лошади, топал ногами, размахивал руками и находился в чрезвычайном возбуждении.
Майор, с трудом шевеля замерзшими губами и показывая руку в шерстяных митенках с красными распухшими, замерзшими пальцами, плачущим голосом объяснял по-немецки, что германское командование решило использовать эту погоду, надеясь на отсутствие бдительности у русских, и послало вперед два их батальона прорвать фронт. За ними должны идти обе дивизии.
– Черта с два теперь пройдут! – проговорил полковник. – Однако надо нам полк вызвать, черт еще их знает, чего они там выдумают.
Снизу из лощины вышел батарейный командир со своими офицерами. Он с недоумением посмотрел на венгерцев.
– Вот, Матвей Матвеич, полюбуйтесь, вас собирались забрать, да и сами попались.
– То-то мне часовой говорил: атака была, не поверил.
– Поверишь тут! Сколько насчитали, поручик?
– Триста двадцать семь… Вывезла кривая!
– Не кривая вывезла, поручик, а спасла нас Божия Матерь, наша Заступница!