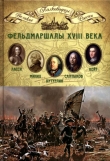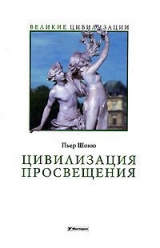
Текст книги "Цивилизация Просвещения"
Автор книги: Пьер Шоню
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 44 страниц)

9. Транспортная революция
Эти две карты разного масштаба позволяют на глаз оценить, с каким огромным опережением развивалось сообщение в Англии. Морские пути в Англии дополняются плотной сетью речных путей, хорошо оборудованных и сообщающихся, что обеспечивает поставки каменного угля и сырья и облегчает вывоз готовой продукции. Франция при этом оказывается на втором месте и в итоге, с учетом массы, с большим отрывом опережает страны континента. Так происходит до тех пор, пока не начинается распад, спровоцированный катастрофическими войнами революции и империи. В 1790 году Франция отстает на двадцать дет, в 1815-м – на тридцать, и это слишком рано начинает создавать слишком ощутимые помехи индустриализации Франции в XIX веке.

10. Дороги и пути сообщения Европы
Революция транспортных средств в Европе начинается в XVIII веке со строительством многочисленных дорог и каналов. Территории Франции и Испании практически одинаковы. Итак, достаточно лишь сравнить степень концентрации путей сообщения в обеих странах после дорожной революции, какой явилась королевская мостовая во Франции, и инициатив просвещенных министров Испании. Между поистине «английской» густотой сети дорог на северо-западе Франции и почти пустым пространством Пиренейского полуострова огромная разница. Следует заметить, что между богатой южной и восточной Францией и бедной средиземноморской Испанией промежуточное положение занимает центральная Франция, которая в XVIII веке постепенно становится бедной, необразованной и не оборудованной.
Телеграф Шаппа по отношению к электрическому телеграфу – то же, что укрепленная мостовая по отношению к железной дороге. В изобретении Шаппа (1763–1805), введенном в употребление в 1793 году, нет ничего революционного; с технической точки зрения оно уже сто лет как было реально. Тем не менее для него была необходима заинтересованность со стороны государства, а также налаженное производство телескопов с ахроматическим объективом. Естественным последствием стало более однородное экономическое пространство; основы этого процесса были заложены еще в начале XVI века. Обратимся к фундаментальному труду Ф. Броделя и Ф. Спунера. Для нас критерием однородности европейского пространства является унификация цен. Обратим внимание на циклические колебания и на уменьшение периодичности. У этих факторов были демографические последствия; они сказались на экономическом росте, ускорили ротацию капиталов, спекуляций и инвестиций.
Вернемся к географии и к лучшему показателю – хлебу. Долгое время существовало три Европы: юг долгое время оставался Европой дорогой, поскольку это была Европа развитая; на востоке и на севере – Европа дешевая и еще не пресыщенная; между ними – Европа средней руки. Важным фактором в подобных условиях становится не предсказуемое развитие, с его вековыми колебаниями, а фантастические «ножницы» в начале и долгое, постепенное уравнивание в конце. Между Валенсией, оконечностью Пиренейского полуострова в дорогом Средиземноморье, и Львовом, средневековым центром дешевой Польши, соотношение денежных цен на хлеб с 1440 по 1449 год просто невероятное – 1:7 (от 6 до 43 г серебра за гектолитр). В конце XVI века на юге 100, на севере – 76, а в Польше – 25. 1650–1659 годы – первые серьезные изменения. К средиземноморской зоне высоких цен присоединяются атлантическое побережье и Ла-Манш. 1690–1699 годы – самое начало эпохи Просвещения. Дорогая Европа, Европа, экономически доминирующая, – это теперь Англия, Нидерланды (Голландия) и половина севера Франции, сконцентрированная вокруг Парижа. Средиземноморье оттеснено на вторую позицию. Восток остается недорогим (Львов – 44,31 г за гектолитр; Люблин – 40,13; Варшава – 25,24). «У нуворишей XVII века дорогой хлеб». 1740–1749 годы – новая расстановка сил: дорогая Европа, она же богатая Европа, тянется по Атлантическому побережью, Ла-Маншу, Северному морю. Европа дешевого хлеба – континентальная и восточная. Европа со средними, умеренными ценами на хлеб – это ретроградное Средиземноморье. В крайнем случае можно говорить просто о биполярности, которая сохраняется между дорогим атлантическим сектором и сектором низких цен, куда входит и Средиземноморье, и центр, и восток. Зазор между полюсами высоких и низких цен составляет от 7,5–1 до 2–1, и то с трудом. С 1760–1780 годов отрыв Великобритании порождает новые диспропорции. Гомогенизация экономического пространства, долгое время бывшего столь глубоко разнородным, происходит благодаря тому, что Просвещение вновь обращается к области людей и вещей.
Возврат мысли к экономике происходит через социальную структуру. Это тема для книги, и такая книга есть. Между тем английский прорыв стал следствием той социальной пластичности, которая предшествовала Просвещению, вдохновила мысль Просвещения и нашла в ней свое оправдание. Властители умов 1780-х были одержимы картезианскими обобщениями. А что они в конце концов из них извлекли? Ничего особенного! Ответ правдивый, огрубленный и однобокий. Поскольку все зависит от времени и места.
На востоке идеи Просвещения завладели государством, и можно сказать, что они затронули государственное устройство и усовершенствовали его. Мысль Просвещения задала план действия традиционным общественным структурам, верхушке общества феодального типа, с его домениальным, патриархальным укладом, с его раздробленностью, с очень неповоротливой системой зависимости. И этим планом было наверстывание. На западе экономическое наверстывание зависит от государственной мощи; это приводит к серьезным изменениям в области средств производства, не сильно затрагивающим при этом сферу производственных отношений. Случай России крайний, случай Австрии менее нарочит, срединную позицию занимает Пруссия. Тут консерватизм, там оживление структур дворянского общества выступают как условие успеха технологической революции, которой добивается просвещенный деспот. На самом деле у него нет выбора. Просвещенный деспотизм на короткий срок укрепляет новые социальные структуры. И, способствуя распространению знания (в первую очередь элементарной грамотности), торгуя и развивая коммуникации, он подготавливает долгосрочные изменения общественных связей.
На западе ситуация совсем иная. Два разных примера, два основных пути иллюстрируют Англия и Франция. Перемены в английском обществе не знают аналогов в Европе. Это фактически скрытая социальная революция. Эта революция, совершившаяся в основных своих чертах в XVI веке, стала одним из долгих подготовительных этапов английского take off. Феодальная система дала трещину в XVI веке, налоги в денежном эквиваленте таяли быстро, а остатки уходили на завоевание влияния. Британское джентри отвернулось от ренты и выиграло от этого. Мы уже видели, как это отразилось на формировании сельскохозяйственной модели Норфолка. Политическая революция разыгралась в 1688–1689 годах. Некоторые доктринеры во Франции во время политической кампании 1829–1830 годов предлагали модель «Славной революции». Гизо смотрел на вещи трезво, он оценил меру английского роста. Локк впоследствии оправдывал new deal [84]84
New deal – новый экономический курс (англ.).
[Закрыть] 1689 года. Элита практически смешивается с правящим классом; система оказывается достаточно гибкой, чтобы, последовательно внося коррективы, разрешить возникающие противоречия. В этом удача Англии. Мысли Просвещения следовало бы воплощать, а не преследовать утопии. Эти бесплодные игры, от Томаса Мора (1516) до коммунистических систем, созданных просвещенными и мудрыми людьми, продолжаются до 1650-х годов. Для непрерывного роста безопаснее, когда неизбежные социальные сказки остаются в прошлом, в 1650-х годах, а не маячат на горизонте 1793-го. Что же касается радикалов утилитаризма, например Джереми Бентема (1748–1832), их влияние незначительно. Ничуть не отвергая английские политические и социальные игры, они лишь мечтают придать ускорение их заданному и упрощенному ходу.
Во Франции все совсем иначе: элита не смешивается с правящим классом. Французское общество пережило три неблагоприятных момента: реформирование дворянства в 1670—1680-е годы, регентство и провал государственного переворота Мопу (1774). Дворяне держатся за ренту, продолжают эксплуатировать крестьян, что приводит к искусственному расколу элиты. Дворяне бросаются на штурм государства и в итоге проигрывают в экономике. Они вызывают протесты богатых и просвещенных разночинцев против своих незаслуженных привилегий. После восстановления парламентов, контроля касты над законодательной и регламентарной властью государства одним уже не подстроиться под других. При первом же столкновении противоречия не преминут сказаться, и тогда взрыв неизбежен. Франция и Англия, которые шли параллельными курсами (Франция отстает с 1530 года), разошлись в начале 1680-х, преобразования имели характер катастрофы и лишь усилили социальную косность. Перед лицом французских осложнений мысль Просвещения оказалась безоружной, во всяком случае недостаточно четкой. Она не имела достаточного влияния. Она оказалась способной поднять Революцию, а не предотвратить ее. Вообще говоря, поначалу она была необычайно консервативна, даже реакционна. Затем, начиная с 1750-х годов, она начинает колебаться между двумя равно ирреальными позициями: восточной моделью (просвещенный деспотизм) и утопическими преобразованиями. Вольтер в своих схватках с шевалье де Роаном, а позже мадам Ролан на политических кухнях выступают в защиту возмутительно тяжеловесных общественных связей. Ритмы интеллектуальной и социальной истории нелегко уравновесить.
Но что касается повседневной жизни – еды, жилья, одежды, – все меняется, глубоко и всерьез. При этом отдается дань уважения традиционному укладу, так что перемены воспринимаются не как потрясения, а как реальные улучшения. Мысль Просвещения в определенном смысле родилась от прогресса и, возвращаясь к миру вещей, она начинает способствовать прогрессу в материальной жизни. Конечно, начиная с 1550 года отмечается некоторое снижение показателей потребления мяса. Этот откат не отменяет преимущества Европы перед остальным миром. Следует верно охарактеризовать изменения, которые произошли в XVIII веке. Они не имели характера революции, взрыва; это был момент решительного нарастания в многовековом процессе. Европа продовольственная, Европа садовая обогатилась благодаря длительной конфронтации севера и юга. Ле Руа Ладюри проследил этот процесс начиная с Лангедока. Богатая, плотно населенная Европа получила все это как награду за то, что воплотила в жизнь первый эскиз мировой экономики, став местом слияния. Однако прогресс сельского хозяйства связан с коренными обновлениями, с расширением коммуникаций. Взять, к примеру, возделывание хлеба в Лангедоке. В XVIII веке благодаря расширению сетей обмена новые поставщики приходят непосредственно с Востока и из такого недавно открытого источника, как Причерноморье. «Так, часть хлеба, поставляемого с Востока, через Марсель или Сет, по прошествии зимы 1709 года была посеяна на французских территориях. В результате среди старых хлебных популяций юга мы встречаем хлеб из Марианополя, созревающий в Авиньоне, щетинистые колосья с Крита, бородатые как паликары, хлеб из Смирны или из Египта; и, конечно же, после 1820 года… знаменитый хлеб из Одессы или Таганрога» (Э. Ле Руа Ладюри). Эта маленькая зарисовка долгой истории, которой мы обязаны вкусом современного хлеба, наглядно показывает, как в Европе XVIII века нарастал процесс обогащения генетического фонда на службе гастрономии.
Та же история – с виноградом, с оливами, со скотоводством. Что и говорить о кукурузе, которая, распространившись в XVI веке на иберийских и итальянских полях, в XVIII столетии завоевывает океанское побережье юга Франции, или о рисе в Валенсии и долине По, или о картофеле, который в XVII веке с Британских островов и нескольких других высоко развитых регионов севера Европы распространяется вглубь континента и завоевывает его в последние десятилетия XVIII – первое десятилетие XIX века. Такая же, только еще более удивительная история – с нашими овощами: между XVI и XIX веком их спектр расширился вчетверо. Вчетверо – за три столетия и, возможно, вдвое – в течение XVIII века. Лангедокский пример, несомненно, отражает положение дел во всей густонаселенной Европе. Таков эффект развития коммуникаций и активного прагматизма эпохи Просвещения. Но, как всегда, это происходит без революционных преобразований, задействуется вся потенциальная гибкость старейших структур. Эпоха Просвещения – это весь потенциал очень старого мира, наконец оцененный и востребованный, до тех пор пока буря, начиная с маленькой Англии рубежа 1780-х, не всколыхнула, не подняла революции где на рубеже 1780-х, где в 1830-е, где в 1840-е, а в 1860-е годы – уже почти по всему континенту, так долго остававшемуся консервативным.
Но вернемся к исследованиям количественных показателей потребления продуктов питания. Они начаты. Рассмотрим случай Парижа. Подсчет серьезный и глобальный, исходя из немного заниженной и скупой оценки исходных данных. Не стоит слишком доверять скромному и удобному энергетическому показателю в 2 тыс. калорий. Мужчины, женщины, дети, бедные и богатые. Единственной возможной ошибкой может быть недооценка. С уверенностью по крайней мере можно говорить о 35 тыс. калорий на мужчину, занятого физическим трудом. Но поразительно качество продовольствия, обилие вина, к счастью легкого, и богатой белком пищи. «В Париже… около 1780-х… злаки составляют всего 50 % рациона» (Фернан Бродель). Индии и Китаю предстоит еще пройти долгий путь, чтобы достигнуть уровня обеспеченности продовольствием беднейших парижан старого режима. Хлеб по-прежнему интенсивно потребляют в деревне; но этот продукт, дорогой по сравнению со старинной кашей-размазней, дешевый по сравнению с парижскими изысками, в городах утратил монополию. Так было в Лондоне, пристрастившемся к джину (1730–1740) и спасенном от этого коллективного самоубийства, в Париже, но иначе – в Берлине. В Берлине, по В. Абелю, которого цитирует Бродель, хлеб для семьи каменщика из пяти человек составляет более 50 % продовольствия (продовольствие – 72,7 % от общих затрат, из них 44,2 % – хлеб) – против всего 17 % в Париже. И какой хлеб! Серый с одного бока, белый с другого; можно понять изумление гренадеров из Померании в 1792 году, о котором весело писал Гёте.
Западный человек в XVIII веке гонится за излишествами. Избыток – важный фактор прогресса. «Человеком движет желание, а не потребность». Настоящая революция (и этим словом можно воспользоваться без преувеличения) происходит на столах и в продовольственных поставках богатых и просто обеспеченных людей в счастливой Европе; где-то это происходит в 1720—1730-е, где-то в 1740—1750-е годы. Во Франции начинается так: «великая французская кухня утверждается позже, когда благодаря регентству и хорошему вкусу регента уже обезоружена „артиллерия глотки”» (Ф. Бродель). Второй этап, 1750-е, на этот раз социальный: «позднее, уже в 1746 году, когда выходит „Поваренная книга горожанина” Менона» (Ф. Бродель). «Лишь через полвека (как утверждает в 1782 году некий парижанин) научаются есть утонченно». Итак, в 1730-х – тот же этап, отмеченный вниманием к скромному обаянию повседневной жизни. В 1730-х появились божественные отвары. Им предшествовал чай, настоящий, привозной. Возможно, в России чай известен уже с 1567 года, но его повсеместное распространение предполагает морской путь – на горизонте 1730-х годов показываются английские индиамены. Сильное впечатление, которое производит культура самовара, обманчиво: между Россией и Англией разница в размерах, и она работает в пользу морских связей и долгого, многовекового воспитания свободы. «В конце XVIII века Россия импортирует менее 500 тонн чая. Нам далеко до тех 7000 тонн, которые потребляет Запад». Чай изредка и без особого успеха фигурирует в разработках Сегюйера и его окружения в поисках эликсира долгой жизни (1635–1636). «В доме Сэмюэла Пеписа он впервые появился 28 мая 1667 года». 1720—1730-е все еще нестабильны. Чай становится важным оружием в победе над смертью просто за счет неизбежного кипячения воды. Кофе – напиток более старый, но время его повсеместного распространения совпадает с переломным моментом в распространении чая. Рост потребления кофе стал одним из стимулов к покорению Европой запредельных земель. «Если начиная с середины XVIII века его потребление так возросло, и не только в Париже и во Франции, это значит, что в Европе появилось собственное производство. Поскольку мировой кофейный рынок зависел исключительно от кофейных плантаций Мохи в Аравии, поставки кофе в Европу было легко ограничить. Однако в 1713 году кофейные плантации появились на Яве, в 1716-м – на острове Бурбон (Реюньон), в 1722-м – на острове Кайенна (кофе переправляется через Атлантику, в 1723–1730 годах на Мартинике, в 1730-м – на Ямайке, в 1731-м – на Сан-Доминго. Это еще не даты начала производства, так как необходимо было еще, чтобы плантации разрослись, размножились» (Ф. Бродель).
Что касается одежды, Европа XVIII века по-прежнему разделена на два слоя: в народной среде все меняется медленно, но мир богатых – это мир моды. Закон двух социальных ритмов в сфере одежды, разработанный Ф. Броделем, хорошо приложим к Европе эпохи Просвещения. Но с одной поправкой: теперь мода на самом пике своей активности, и народная среда, даже самая небогатая, в счастливой и густонаселенной Западной Европе перестает быть столь пассивной. Народ от Лондона до Парижа начинает прислушиваться к веяниям моды. В целом одежда эволюционирует в сторону большей мягкости, легкости, большей свободы для тела. Трансформация происходит благодаря ситцу. Ослепительная нагота времен Директории разве что подталкивает, в каком-то смысле доводя до абсурда, ту тенденцию, которая наметилась с появлением ситца. Вещественное доказательство раскрепощения тела – раскрепощение сексуальности. Почти карикатурное падение нравов в эпоху Просвещения. Можно ли недооценивать раскрепощение в сфере одежды? «Фактически будущее было за достаточно никчемными общественными кругами, но достаточно богатыми и изобретательными, чтобы заботиться об изменениях цвета, материалов, фасонов костюма, а попутно и общественных категорий и карты мира… Все взаимосвязано» (Ф. Бродель). Африканское сырье сделало возможным такое богатство тканей и цветов, которого сама Африка достигнуть не могла, но которого она желала и за которое платила дорогой ценой – экспортом людей. Рабы для американских плантаций за ковры, рабы за сахар (великий показатель роскоши по тем временам), рабы за красители… Круг замкнулся.
Но роскошь в одежде ведет также и к скромным победам в области гигиены. Сокращение числа общественных бань, связанное со вспышками сифилиса и с пропагандой аскетизма в эпоху церковных реформ, начинает отходить в прошлое; антисанитария медленно сдает позиции. В Париже появляются бани, и городская цивилизация постепенно начинает открывать для себя достоинства ухода за телом. Главный прогресс связан с введением белья везде и всюду. Эта битва, начатая в XVI веке, победоносно завершается лишь в XVIII. С возвращением внимания к сфере телесного рубашка и подштанники, эти два скромных орудия в борьбе со смертью, благополучно входят в общий обиход. За подштанниками последуют двойные кюлоты: во Франции около 1770-х, в прусской армии – около 1860-х годов. Обычный географически-хронологический зазор между западом и востоком.
Остается жилье. В XVIII веке построено много, и это естественно: численность населения удвоилась, жилищные условия улучшились, плотность городского населения выросла вчетверо. Каменный дом стоит в среднем 250 лет. Строительство в XVIII веке остается основной неземледельческой профессией: получается, что оно в общем и целом опережает текстильное дело? Дом – важное экономическое средство, но в еще большей степени он – жизненное пространство, несущее эмоциональную нагрузку, связующее звено между поколениями. Строительство стремится достигнуть глобальных масштабов, чтобы дать кров обездоленным и усилить производственный аппарат. То, что в экономической истории строительство стоит особняком, документально обосновано: это – следствие статистических разработок. В производственном аппарате та часть, которая выходит за пределы товарооборота, выпадает из статистики; ее можно оценить, но измерению она поддается лишь в исключительных случаях. В XVIII веке остается старое противопоставление Средиземноморья всей остальной Европе. Бассейн Средиземноморья, в сравнении с несредиземноморской Европой, долгое время сохраняет несомненное превосходство в смысле жилищных условий. Рим всегда недолюбливал камень; чтобы камень победил дерево, потребовалось две тысячи лет. Тяжелый дом, весом, скажем, в 400–500 тонн, очень этому способствовал. На Балтике, в Польше, в России, в Скандинавии камень в XVIII веке ограничивался пределами городских жилых кварталов. Северная Америка больше берет от континентальной Северной Европы, чем от Англии: американское решение, lodge cabin, строится по скандинавской модели. Традиционное жилище – это жилище тяжелое, каменное; средиземноморский тип распространяется больше по психологическим причинам, чем из технической необходимости. Высшей точки этот процесс достигает в XVIII веке. В той части Европы, где доминирует камень, где не похозяйничала война, значительная часть крестьянского жилья датируется XVIII веком. В очередной раз XVIII столетие предстает перед нами в своем истинном свете – как высшая точка цивилизации, которую мы, за неимением лучшего термина, именуем традиционной. И тем не менее на самых обездоленных участках цивилизации по прежнему в ходу убогое и самое древнее жилище: хижины, землянки, «халупы». Таково жилье образца 1000 года; головорезы 1789-го, мнимые колдуны 1670-х вышли в большинстве своем из этих трущоб.
Традиционное жилье характеризуется весом, ценой, долговечностью, теплосберегающими свойствами. Таков принцип средиземноморского жилья: он абсурден там, где дерево в изобилии. Но жилье подчиняется не только техническим и экономическим законам. У дома своя психология. Изменения уровня жизни, которые подстегивают технический прогресс, идут сверху. Сначала это имитация, вековое распространение аристократических моделей. И вот средиземноморская модель выводит качество жилья далеко за пределы, продиктованные требованиями среды. Традиционный дом отвечает психологическим требованиям долговечности, прочности, защищенности. Поэтому XVIII век противопоставляет каменные дома в большинстве деревень Парижского бассейна обшитым деревом, деревянным, штукатуреным домам в городской застройке Парижа, Амьена, Руана. Город застраивается более легкими материалами, чем деревня, прежде всего потому, что непомерные цены на перевозки заставляют максимально использовать сплав леса, но также и потому, что плотность городской застройки психологически создает потребность в большей легкости. Французский город пускает пыль в глаза: дерево прячется под обшивкой, маскируется под камень. Европа средних цен по странной инерции и в XVIII веке тяготеет к средиземноморским стандартам, она как бы стесняется дерева, считая его привилегией севера. А между тем северу нужно тепло; у дерева хорошая теплоизоляция, оно дешевле, оно позволяет наилучшим образом решить проблему обогрева. Закрытая печь, одно из достижений севера, распространяется в XVII веке и достигает триумфа в XVIII. Она занимает главное место в интерьере дома, по большей части деревянного. Деревянный дом не может довольствоваться простым камином, у каменного дома для теплосбережения многотонные стены. Традиционный дом, каменный дом, особенно его завершенная, средиземноморская версия, – это огромные капиталовложения. Такая застройка в итоге покрывает более 4 млн. кв. км. И стойт примерно три века. Ее замена более дешевым жильем, о котором мы можем составить представление лишь по археологическим данным, происходит поэтапно.
Последний этап приходится на XVIII век. Традиционное жилье строится, чтобы стоять долго. Максимальных затрат требует его строительство и минимальных – содержание. Этим объясняются огромные жилищные резервы. Если считать, что в среднем традиционный дом стоит 250 лет, затраты на его содержание в течение двух третей века равны половине исходных затрат на строительство. Итак, при условиях прекращения роста населения, стабильного уровня жизни и полной защищенности мы получаем ежегодные затраты на строительство 0,4 % и 0,2 % на содержание, то есть 0,6 % жилищного капитала достаточно и на содержание дома, и на его замену. При условиях роста населения на 0,5 % в год (как это происходит во Франции в 1750—1780-х годах) достаточно дополнительных 0,5 %; годовые затраты в этом случае достигают 1,1 % жилищного капитала. При 2 % становятся возможными улучшение качества жилья и быстрая урбанизация. В этом случае экономический резерв огромен. Строительство подчиняется таким долгосрочным факторам, как плотность населения и обеспечение потребностей, но оно свидетельствует и о гиперчувствительности к краткосрочным, циклическим изменениям обстановки, драматическим изменениям от десятилетия к десятилетию. Если исходить из положения, что при наличии 1 % жилищного капитала легко обеспечить содержание, обновление и расширение зданий, то ясно, что застопорить производство жилья без заметных негативных последствий легче, чем любое другое. Отсутствие оригинальности при долгосрочных изменениях жилья никоим образом не противоречит гиперчувствительности строительной индустрии к краткосрочным изменениям. В плане социальном эта экономическая гибкость не проходит без негативных последствий. Строительство – жертва сезонной и подверженной конъюнктуре безработицы. Будучи традиционным сектором производства, строительство в XVIII и XIX веках в то же время является сектором социального напряжения, конфликтов, сектором социальных противоречий.
Трудно точно определить, что значил для южного сектора Западной Европы тяжелый дом. Такая застройка мотивирована психологически. У такого технического решения есть свои преимущества и свои неудобства, это чрезмерно закрытое пространство. Материальный прогресс в XVIII веке продвигается быстро, нужны объекты капиталовложения. На тот момент существуют два основных объекта капиталовложения – люди и дома. Заменить логовище конца первого тысячелетия классическим традиционным домом – уже было идеальным решением для того, чтобы в огромных резервах камня сохранить нестабильные излишки великих периодов роста; быть может, тяжелый дом стал ответом на необходимость сохранить излишки производства. Тяжелый дом позволяет эффективно и выгодно сберегать тепло. Вначале он обходится дорого, вдесятеро дороже, но его дешевле содержать. Изба стоит в среднем 30–40 лет. Совершенно не очевидно, что в долгосрочной перспективе традиционный каменный дом окажется дороже – он может стать более экономичным. Сэкономить можно на теплосбережении: теплосбережение стен пропорционально массе. Зимой стена задерживает тепло, летом прохладу, она сопротивляется постоянному эффекту вентиляции. Толстая стена широко используется в Средиземноморье как защита от жары в местности, где деревья немногочисленны. На севере дерево – главная защита от холода. Но и у тяжелого дома есть свои неудобства. Такая конструкция – выход для лентяев. Теплосбережение надолго затормозит технический прогресс в области средств обогрева. Тяжелый дом живет по старинке. Он сопротивляется столичной расточительности, но дорого платит за это снижением мобильности. В XVIII веке строительство каменных гумен способствует лучшей сохранности урожаев. Но их долговечность – это и их главный недостаток. В тот период, когда техника развивается с малой интенсивностью, вес постройки тормозит прогресс.
Проблема технического прогресса в строительстве требует систематического изучения. Те усовершенствования в строительстве XVIII века, которые изучены на данный момент, свидетельствуют о движении в сторону непроницаемости, долговечности, хорошей теплозащиты и дешевизны содержания; они свидетельствуют об обогащении, которым обусловлен выбор в пользу серьезного капиталовложения в строительство, то есть в пользу долговечности. Такой выбор характерен для очень стабильной католической семьи. Но еще более важный фактор – повышение продуктивности. В традиционном доме все можно свести к транспорту: этот важный показатель прогресса связан с кардинальным улучшением качества дорог во второй половине XVIII века. Качество жилья в XVIII веке растет. Дома XVIII века стоят до сих пор и неплохо смотрятся все вместе. Рост качества и масштабов строительства в XVIII веке связан с улучшением транспорта. Строят больше и лучше. Каменный дом оттесняет убогое жилище раннего Средневековья к самым бедным пределам цивилизации. Граница распространения тяжелого дома движется к северу. Возьмем Санкт-Петербург: на севере, где преобладает дерево, изба или скандинавский прообраз северо-американского lodge cabin, строится каменный, а не деревянный город. В деревнях Западной Европы совершенствуется добротное жилище зажиточного крестьянства: широкие окна, два этажа, камин как минимум в двух комнатах из четырех; такой дом, с прямоугольником в основании, отвечает представлениям классической эстетики о гармонии. Есть прогресс и в области материалов: используются комбинации кирпича и булыжника, солома отступает перед черепицей и кровельным сланцем, на смену необожженному кирпичу и саману приходит обожженный кирпич или булыжник, раствор с известью или песком используется шире, чем растворы с соломой и глиной. Прогресс есть и в области равновесия, вертикалей и горизонталей; меньше сгибов, которые являются основной причиной износа; в итоге получается более высокий, более открытый, более освещенный дом. Восемнадцатый век не несет принципиальных нововведений, он лишь способствует распространению технических решений – разумных, привлекательных и экономически доступных для тех слоев населения, которые раньше не могли позволить себе подобной роскоши. Создается впечатление, что XVIII век сошелся с великим обновлением существовавшего жилья. Часть от общей массы жилья, очень низкого качества, последний раз обновлявшегося в XVI веке, пришла в полную негодность; два столетия спустя, в середине XVIII века, неожиданно обветшавшее жилье еще более неожиданно перестало соответствовать вкусам и потребностям традиционного общества, которое и являлось законодателем всех перемен; строительство унифицируется, диапазон уже не столь широк.