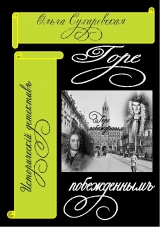
Текст книги "Горе побежденным (СИ)"
Автор книги: Ольга Сухаревская
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц)
– Прошу, господа, присоединяйтесь.
Сыщики согласились. Уж больно ароматны были свежеиспечённые булки, горой лежащие на блюде. За столом Собакин повёл материальный разговор: кто примет дела Арефьева и как видит свою дальнейшую службу сам Шварц.
– Общее состояние семьи: около пяти миллионов, – ответил Шварц. – По-видимому, новые владелицы захотят избавиться от дела. Это слишком хлопотно для женщин. Продать его будет легко: у Арефьева работа была поставлена отлично и перспективы развития компании многообещающие.
– Сами-то вы останетесь на прежнем месте, если предложит новый хозяин?
– Вряд ли. Только, если пайщиком. Я думаю создать дело, пусть и небольшое, но – своё. Мне в России нравится, и уезжать я не собираюсь. Перевезу семью в Москву. Здесь есть, где развернуться. В деловых кругах обо мне положительного мнения, а это уже половина успеха.
– Да, но для второй половины нужны средства и немалые. Особенно, если самому сделаться хозяином.
– Деньги – дело наживное, как говорят русские. Я – деловой человек.
– Русские в таких случаях отвечают: Бог в помощь.
Собакин перевел разговор.
– Интересно послушать мнение делового человека о случившейся трагедии. Что вы думаете о докторе Зяблицком?
Шварц пожал плечами.
– Характер у него был скрытный. Умён. Последнее время был весь – лихорадка.
– Интересно. В чем это выражалось?
– В быстрой смене настроений. Пить стал много. Раньше за ним этого не наблюдалось. Очень выдержанный господин был этот доктор. А вот в начале этого года, на ваше Рождество, когда я вернулся из Дрездена, Михаила Лаврентьевича как будто подменили. Я тогда в шутку его спросил: «Что с вами, доктор? Вы, как говорят русские, не в себе. Влюбились или много в карты проиграли?». Он как-то странно на меня посмотрел и сказал: «Первое, которое хуже второго». Я не понял, а он объяснил: « Страсть, если быстро не проходит – болезнь злокачественная. Это я вам, как врач говорю».
– Так у него была страсть? К кому же?
– Не знаю. Тогда в гостиную, где мы разговаривали, вошли дамы и наша беседа прекратилась. Больше мы к ней не возвращались.
– А у вас есть подозрение, кто был предметом увлечения доктора?
– Нет. Говорю вам, господин Зяблицкий, при всей своей общительности, был очень закрытым человеком во всем, что касалось его лично.
– Как он относился к Анастасии Дмитриевне?
– Сейчас, после всех этих событий, мне кажется, что неприязненно, хотя он это скрывал, как любой воспитанный человек. По-моему, его раздражала её категоричность в суждениях, высокомерность, заносчивость.
– Мог он быть в неё влюблён и нарочитой неприязненностью скрывать свое чувство?
– Не знаю, – развел руками немец. – У вас говорят: «чужая душа – потёмки».
– А мог Зяблицкий быть влюблённым в Турусову?
– Ларису Аркадьевну? Я не замечал его особых знаков внимания к ней. Михаил Лаврентьевич при мне никогда не стремился завладеть её вниманием, остаться с ней наедине, долго разговаривать или делать комплименты. Потом, как мне кажется, её характер и религиозные наклонности не способствуют развитию к ней нежных чувств.
– А как она относилась к доктору?
– Ровно, доброжелательно, как и ко всем.
– Скажите, почему вы в разговоре с Зяблицким упомянули о проигрыше в карты? Он что, был игрок?
– Не думаю. Я это сказал просто так, как пример пагубного увлечения, от которого можно быть не в себе. Доктор, когда мы вечерами уговаривали его поиграть с нами в карты, всё время в них сбивался и говорил, что более пустого времяпровождения он не знает. Михаил Лаврентьевич предпочитал шахматы.
***
-Уже три часа. Как говаривал Великий Пётр: «Подошло время адмиральского часа» – то есть, выпивки и закуски, – сказал начальник, выходя из особняка Арефьева. – Поехали обедать в «Славянский базар». Люблю их кухню. Там, должно быть, уже сошёл утренний наплыв посетителей.
– Как это – «утренний»? Что, в «Славянском» гуляют с утра? – удивился Ипатов.
– «Славянский базар», чтоб вы знали, один из самых фешенебельных заведений в Москве. С дорогими номерами, аж по двадцати пяти рубликов. Там останавливаются государственные лица, сибирские золотопромышленники, богатые помещики, купцы первой гильдии. Но, там же можно встретить карточных шулеров и аферистов самого высокого полёта. И в том, и в другом случае – это деловые люди при больших деньгах: честных или нечестных. С утра они спускаются вниз, в ресторан или приезжают в «Славянский» из присутствий, контор или бирж и за хорошим столом завершают сделки, заключают договоры, обговаривают условия партнёрских отношений. Всё это происходит, как правило, до или во время обеда. Примерно с трёх часов заведение пустеет до вечера. А по-настоящему гуляют у «Яра» , в Петровском парке.
***
В полупустом ресторане Собакин с помощником ели рыбные расстегаи с осетриной, визигой и налимьими печёнками. К ним подали большие соусники ароматной ухи. На второе взяли куропаток с брусникой и молодую картошечку. На сладкое Александру Прохоровичу заказали клубнику со сливками, а Собакин ел свои любимые апельсины. Обслуживал сыщиков человек во фраке, ну прямо – министр. Ипатову приходилось бывать в первосортных трактирах, где посетителей встречали расторопные половые: улыбчивые, в белых, голландского полотна, косоворотках, с полотенцами через руку кренделем. Здесь же, прислуга была важная, неулыбчивая, с отстранённым высокомерным лицом. И называли их чудно;: официанты. Пока ели, из отдельного кабинета, что против большого зала, вывалилась компания купчин. Впереди всех шёл господин в глухом сюртуке тонкого сукна и хромовых дорогих сапогах. Его шатало, ноги подкашивались и два дюжих фрачника с почтением вели посетителя к выходу. Третий официант с невозмутимым видом нёс за ними поднос с двумя хрустальными графинами, расписанными золотыми журавлями. Позади, шло ещё несколько деловых людей, сильно выпивших, с красными лицами.
– Смотрите, вот идёт известный московский суконщик Феофанов, насквозь пьяный и уносит с обеда двух «журавлей».
– Журавлей?
– Видите расписные графины? Они с коньяком. Стоимость каждого – пятьдесят рублей.
– Ничего себе!
– Кто покупает весь коньяк из графина, получает в подарок и сам графин – «хрустального журавля». Это своего рода кураж перед своими: погулял да ещё могу и «журавля» взять. Бывает, что и соревнуются: кто больше купит этих «птичек». При хороших сделках партнёры делают друг другу такие презенты. У чиновников тоже принято на юбилей начальства в складчину подносить «журавля».
Сыщики посидели в ресторане часа два, потом вышли на свежий воздух и по Никольской, через Лубянку неспешно пошли по Сретенке домой. Молодой человек уже знал, что, если начальник упорно обходит стороной разговор о деле, бесполезно его о чём-либо спрашивать. Надо выждать, пока, как он сам говорит, «осядет муть», и в голове сложится определённое представление о том, что нового они узнали. Пока шли, говорили о женщинах, об уходящей моде на цилиндры, о появившихся в Москве моторных экипажах. Больше, конечно, говорил Собакин, Ипатов – предпочитал молчать и слушать. Наконец Вильям Яковлевич перешёл к делу.
– Спешить не будем. Доверим Канделяброву собрать побольше сведений об окружении Зяблицкого. Пусть опросит сослуживцев доктора: вдруг там что-нибудь выплывет. К Залесской не пойдём. Женщина, потерпевшая такое фиаско, не способна на здравое мышление, а эмоции нам сейчас ни к чему. Да ей и не до нас с вами. Думаю, что и семья Арефьевых её больше не интересует.
– Зря вы так поспешно вывели её за круг подозреваемых, ох, зря! – проговорил Александр Прохорович. – Она вполне могла увлечь на преступный путь Зяблицкого.
– Для чего?
– В корыстных целях. Он убивает девушку, и все деньги достаются Николаю Матвеевичу, а фактически ей, раз она собиралась за него замуж.
– Понятно. Ну, а Зяблицкий с какого рожна будет ей своими руками жар загребать: убивать любимую племянницу своего друга?
– Страсть. Слышали, что сказал Шварц? У него к кому-то была необоримая страсть.
– Но ведь, Надежда Петровна собиралась замуж не за него, а за Арефьева. Что бы Зяблицкий получил в результате? – не сдавался Вильям Яковлевич.
– Доступ к телу.
– Однако, не маловато-ли? Цена, молодой человек, больно высока даже для Залесской. Тоже мне – Клеопатра.
– А может они решили, что потом избавятся и от Николая Матвеевича. Зяблицкий, как домашний врач, не мог не знать, что у Арефьева слабое сердце.
– В ваших рассуждениях есть логика и вы недалеки от истины. Говорю вам это с полной ответственностью потому, что я уже знаю, кто вдохновитель и соучастник этого преступления. Ещё немного терпения и расследование вступит в свою заключительную часть. Нужны прямые улики. Я думаю, что скоро всё выяснится.
– Чего тянуть-то! Если вы уверены, что знаете преступника, то надо его схватить и вытрясти признание. Такая вражина – и на свободе!
– Дорогой Александр Прохорович! По-моему, вы несколько заблуждаетесь в оценке и понимании сути нашей с вами профессии. Вам известно, что такое синергия ?
Ипатов замотал головой.
– Это, когда человек с помощью божественной силы, достигает поставленной цели. Своего рода соработничество Господа и человека. Святой Макарий Египетский говорил, что «для искоренения греха и существующего в мире зла, необходима Божья сила». Понимаете? Не рубить с плеча, а обстоятельно и вдумчиво разбираться во всех обстоятельствах дела, надеясь, что Господь подскажет правильное решение. Мы с вами трудимся в такой области, где ошибки недопустимы. Я наблюдаю за вами и вижу, что в своих выводах вы мало думаете о последствиях ваших суждений для тех, кого можно обвинить. Господь Бог всегда как-нибудь да указывает на зло – надо только это уметь увидеть. Понимаете?
Подходя к дому, еще издали, сыщики увидели на улице Спиридона. Он был одет в какую-то холщёвую хламиду с закатанными до локтей рукавами. Под его началом двое расторопных парней шустро доделывали свою работу: один – начищал до блеска ручку входной двери и звонок, другой – подметал улицу у дома. Завидев хозяина, Канделябров быстро расплатился с подёнщиками, метнулся в дом и захлопнул дверь, прямо перед самым его носом.
– Что за чёрт! – выругался Собакин и нажал на звонок. Из-за двери не донеслось ни звука. Вильям Яковлевич продолжал трезвонить, но в доме, по-прежнему, стояла тишина.
Тогда Собакин зарычал:
– Спиридон, сейчас же открой!
Ипатов забарабанил по двери, навалился на неё, а она – возьми и откройся. Александр Прохорович стремительно влетел в дом и наверняка бы растянулся в коридоре, если бы не наскочил на Канделяброва. Тот стоял невозмутимо и величественно, как какой-нибудь мажордом английского лорда. На нём уже была одета любимая зелёная ливрея, а на голове зачем-то парик с косичкой, как у сказочного враля, барона Мюнхгаузена.
– Добрый вечер, Вилим Яковлевич. Рад вас видеть в здравии. И вас, Александр Прохорович. Простите, что замешкался: не сразу услышал звонок.
Собакин молча смерил взглядом слугу, и прошёл в дом. Как ни в чем не бывало, Спиридон доложил, что уборка закончена и размеренной походкой удалился к себе. За ним, подняв хвост трубой, ушёл Бекон.
– Живу под одной крышей с сумасшедшим, – констатировал начальник.
***
– Пойдёмте, посмотрим Москву с Сухаревой башни, – на следующее утро предложил Собакин помощнику.– День-то, какой хороший выдался!
Грохот колёс по мостовой сливался с людским гулом улицы и щебетом птиц. На Сретенке вовсю кипела жизнь. Ещё только повернув от дома в сторону Садовой, они уже издали увидели громаду башни. От дома сыщика до неё было рукой подать. В конце Сретенки, у подножия самой башни и вокруг церкви Троицы на Листах все заборы и стены домов были сплошь увешаны пасхальными лубочными картинками. Около них толпился народ.
– Я первый раз приехал из Сергиева в Москву, когда мне было семь лет. Родители отвезли меня в Кремль и сюда, посмотреть башню, – сказал Ипатов.
– И не мудрено, – ответил Вильям Яковлевич. – В народе башню любовно называют Сухаревой барышней и невестой Ивана Великого. Слышали? А почему, знаете? Она по высоте своей равна самым большим башням Кремля: Спасской и Троицкой и уступает только колокольне Ивана Лествичника. Она – одна из самых больших московских достопримечательностей. Смотрите: башня состоит из проездных ворот с глухими арками по сторонам. Над ними обширные палаты в два яруса и восьмигранная башня в три пояса с каменным шатром. Наверху, видите, двуглавый орёл – знак государственной принадлежности. Между прочим, он установлен даже раньше, чем «орлы» на кремлёвских башнях. Сооружение, как видите, громадное. Толщина стен первого этажа два метра. Это дало возможность в течение всего времени её существования надстраивать верхнюю часть. Здание, конечно, тяжеловесное, как купеческий комод. По стилю, это смесь ломбардского с готическим, но, по общему облику – абсолютно московское. Давайте пойдём не в контору к смотрителю башни, а сразу наверх. У меня здесь есть знакомец – надзиратель водохранилища.
Сыщики прошли в ворота и свернули вправо. Здесь, в одной из глухих арок была большая чугунная дверь, через которую они и вошли внутрь. Собакин продолжал рассказывать.
– Царь сам задумал и спроектировал эту башню и назвал «Сретенской по Земляному городу». В этом непростом деле ему помогал Яков Брюс, который писал Петру, что «огромная въездная башня со стороны Троицкой дороги должна уравновесить стороны города и поднять ещё выше Сретенский холм Москвы». Эта задача была выполнена. Башню построили к тому времени, когда Пётр Алексеевич вернулся из похода под Азов. А народ стал называть её просто Сухаревой, по имени полковника стрелецкого полка Лаврентия Сухарева. Он был один из тех, кто со своими молодцами присягнул царю в Троице-Сергиевой лавре, куда молодой государь бежал от своей взбунтовавшейся сестрицы Софьи. Именно поэтому Сухарев со своим полком первым и въехал в новую башню, где располагался до того времени, пока все стрелецкие полки были упразднены.
– Царь решил построить такую громадную башню именно здесь, потому что это посоветовал ему сделать ваш предок? – поинтересовался Ипатов.
– Идея построить новый въезд в город принадлежала царю. Сретенка издревле была главной улицей столицы и центральным её выездом на дорогу, что ведёт в Троице-Сергиеву лавру. По ней в 1613-ом году в Москву торжественно въехал дед царя Петра, первый Романов , который был избран на царство после Смутных лет. Благодаря Сухаревой башне центральный въезд стал весьма внушительным. Что касается Брюса, то он помог царю обосновать постройку башни. Времена-то были военные, а такая работа требовала немало средств. И, только спустя годы, Пётр сам изменил ориентир Первопрестольной: сделал главной улицей нынешнюю Тверскую, по которой идёт дорога в его северную столицу.
Собакин заглянул в маленькую каморку на входе в башню и не найдя там ни души, махнул рукой наверх.
– Пойдёмте к водохранилищу. Надзиратель должно быть там. Так вот, – продолжал он, – лет шестьдесят назад, когда в Москве стало катастрофически не хватать питьевой воды, решили её брать из подмосковного села Большие Мытищи. Протянули оттуда безнапорный водопровод до Сухаревой башни, подняли наверх, а здесь устроили из чугунных плит резервуары. Одну на семь тысяч вёдер, другую поменьше, тысячи на четыре. Сейчас вы их увидите. Заработала эта система в 1804-ом. С 30-х годов башня уже стала главным звеном городского водопровода: сама высоченная и имеет удобное расположение – на гребне одного из самых высоких холмов Москвы. Когда надо было подвести водопроводные трубы под башню, то никак не могли докопаться до её основания. Глубина фундамента оказалась огромная и прочность необыкновенная. А высота всей башни, от подошвы до герба – 64 метра.
Собакин уверенно повёл Ипатова наверх. Ступеньки лестницы были крутые и сыроватые. Чувствовалась близость воды. На втором ярусе Александр Прохорович увидел два огромных помещения с высоченными потолками. Резервуары впечатляли: по чистейшей водной глади – хоть на лодочке катайся.
– До водохранилища чего здесь только не было! В 1701-ом в башне открыли, как я вам уже говорил, навигационную школу. Устроил её мой дед по указанию царя. Она стала готовить первых русских морских офицеров, инженеров, корабельных мастеров. Надзирателем над учениками и фактически их первым преподавателем был русский математик Леонтий Филиппович Магницкий, автор знаменитой «Арифметики», которую Ломоносов называл «вратами своей учёности». Ему на подмогу выписали, знающих морское дело, иностранцев. В школе училось до пятисот человек. Потом её перевели в Петербург и назвали Морской академией. До 1806-го года в башне помещалось присутствие Московской конторы Адмиралтейской коллегии. Она ведала заготовкой провианта и материалов для Балтийского флота. Здесь располагался магазин и склад канатов, парусного полотна, сукон и мундирных материалов. В помещении, где мы сейчас с вами стоим, был фехтовальный зал для будущих морских офицеров. Здесь же устраивались спектакли заезжих иностранных актёров. Их слова тут же, с лёту, переводили зрителям на русский язык. Чаще других приезжали немецкие труппы из Данцига . Они представляла пьесы Софокла, Шиллера, Шекспира. А вон там, проходили заседания общества «Нептунов круг», куда входили только самые близкие люди царя Петра.
– Что это за общество такое? – поинтересовался Александр Прохорович.
Вильям Яковлевич не успел ответить, как вдруг откуда-то сбоку раздались шаги и из какой-то малозаметной боковой двери в стене вышел пожилой человек в потёртом форменном морском кителе, фуражке, при огромных усах и длинных бакенбардах. Бравая выправка выдавала в нем бывалого служаку.
– А я думаю, кто там у меня ходит? – хрипло проговорил он – А это вы, Вилим Яковлевич! Здравия желаю!
– И тебе не хворать, Кондратий Елизарыч! – откликнулся Собакин. – Извини нас, брат, что без спроса вошли. Да и не было тебя внизу, а дверь не заперта. Я вот своему новому помощнику хочу башню показать, не возражаешь?
– Как можно-с! Милости просим. Вам, в любое время дозволено. Провожать вас ни к чему – сами всё лучше меня знаете. А я вниз пойду, дверь запру, а то не ровён час, кто лихой войдет. Надо же такому со мной приключиться: дверь не запер!
И ушел, как пропал.
– Пойдёмте-ка наверх, Ипатов, я покажу вам, где был кабинет «колдуна» Брюса. Оттуда вся Москва как на ладони.
Они повернули к центру башни. Оттуда вверх, под самый герб, тянулась витая каменная лестница. На первой площадке открылось помещение с большими слуховыми окнами-бойницами и выходом на крышу здания. Вильям Яковлевич повел Ипатова дальше, где Александр Прохорович увидел довольно запущенное помещение, действительно чем-то походившее на рабочий кабинет. Но это впечатление надо было домысливать. Кое-где в высоких, не наглухо закрытых окнах стёкол не было. С приходом людей с подоконников с шумом и уханьем разлетелись совы. Вдоль стен стояли намертво вделанные пустые дубовые шкафы, с открытыми или оторванными дверцами. Между ними были втиснуты массивные скамьи, выбеленные непогодой и временем. Плиточный узорчатый пол во многих местах был разбит. Было видно, что здесь даже пытались ломать стены.
– У деда в башне было несколько помещений и ещё подвал, но именно здесь он проводил много времени, – сказал Собакин. – А то, что тут всё переломано и изрыто, так это народ искал Брюсово золото. Да и сейчас Кондрат Елизарыч гоняет этих горе-следопытов. Слышали, наверное, о шумном деле: призраке в Сухаревой башне? Ага, даже у вас в Посаде? Понятное дело: сплетни у нас быстрей поездов носятся. А тут вся Москва гомонила. Слухи гуляли повсеместно. Говорили, что в башне появился зловещий призрак. Ночами москвичи видели здесь свет и даже чью-то тень. Кто говорил – царя Петра, кто – Брюса. Этим привидением мамки стали пугать детей, а сильно любопытные обыватели постарше стали к вечеру собираться в начале Первой Мещанской и оттуда наблюдали за башней. Одним словом – театр. Пошли плестись чудовищные небылицы. Призрак, дескать, пришёл забрать из тайника своё золото и колдовские книги, потому что Москве пришёл конец: провалится она в подземное озеро за людские грехи. Были предсказаны и война, и мор, и глад. Волнение в народе нарастало. Власти сделали обыск в башне – ничего. Выставили охрану – ничего. Дошло до северной столицы. Там возмущение: безобразие, допускаете мракобесие! Здесь наши власти руками разводят: ничего, мол, не находим. Сидят в башне в засаде: толку чуть. Су;харевских уголовников опросили. Те божились, что ничего не знают, но сами суваться сюда опасались. Известный вам Путилин отписал московским властям, чтобы они обратились ко мне. А наш обер-полицмейстер перестраховался и ответил, что обращаться к Собакину не считает целесообразным, так как я – родственник предполагаемому призраку и значит, с моей стороны, может быть необъективное расследование. Иван Дмитриевич разозлился как чёрт, сам приехал в Москву и прямо с вокзала послал за мной. Вдвоем мы облазили башню вдоль и поперек. Я ему здесь всё показал. Нашли мы следы «призрака», но уж больно они оказались земные. А потом и самого виновника всей этой кутерьмы захватили: сумасшедшего из психбольницы в Сокольниках. Им оказался отставной офицер Яновский – безнадёжный больной, помешанный на легендах. Тут тебе и «чёрное золото Брюса», и «заповедный тайник Стеньки Разина на Жигулёвских горах», и «чернокнижная библиотека Ивана Грозного». Поразительная смекалка и увёртливость у сумасшедших людей! Лунными ночами, никем не увиденный, он тайно сбегал сюда и лазил здесь чуть ли не по отвесным стенам. Ловкий, как обезьяна. Его-то и видели дотошные москвичи. Путилин сам брал этого психа здесь, ночью. У московских сыскных, понятное дело, конфуз был полный. Ваш дядя тогда был очень расстроен, что меня сразу не допустили до расследования. Сухаревка-то – его вотчина. А слухи ещё долго не утихали. Судачили, будто нашли золото Брюса, но взять его не смогли, потому, что оно было заклято. Придумали, что пришлось вызывать духовенство и освящать башню. Только после этого смогли подступиться к сокровищу. А как вынесли его на свет Божий, так оно и растаяло, как лёд на солнышке. Как вам это нравится? И это я слышал не от малых детей или каких-нибудь недоумков, а от вполне почтенных образованных москвичей, смею вас уверить. Ох, народ! Хотя, к слову сказать, тайник его сиятельства графа Брюса здесь есть, и я знаю, где он, но только никакого золота там нет. Ладно, пойдёмте ещё выше, где башенные часы. В петровские времена там были другие и очень интересные. Обращены они были на две стороны: север и юг. У них были неподвижные стрелки и вращающиеся циферблаты. Думаю, голландского производства. Я видел нечто похожее в Амстердаме. Их установка соответствовала времени введения Петром нового календаря и счёта времени суток с двенадцати ночи. Ведь до этого сутки исчислялись по светлому и ночному времени. Сколько светло, столько и день. Почему и когда их убрали – мне неизвестно. Может быть, они безнадёжно сломались или не нашлось умельца их починить?
Сопя и отдуваясь, сыщики взошли под каменную макушку Сухаревой башни. Из оконных проёмов под шатром открывался такой великолепный вид на город, что у молодого человека перехватило дыхание. Вот это да! Под яркими лучами весеннего солнца, куда ни глянь, повсюду золотились маковки и кресты московских церквей, блестела как рыбья чешуя, изгибаясь в низких берегах, Москва-река. Повсюду крыши утопали в кудрявой молодой листве знаменитых московских садов. Собакин стоял рядом. Легкий ветерок трепал его тёмные, чуть вьющиеся волосы. Он стоял с плотно сжатыми губами, слегка выставив вперед подбородок, и смотрел куда-то вдаль.
« Вылитый петровский Брюс!» – опять подумал Александр Прохорович и глянул вниз под башню. Ну и высота! Люди кажутся ма-а-аленькими.
– Вон, смотрите, на Первой Мещанской стоит дом Якова Вилимовича. Сейчас многие путают его с домом на Вознесенской, что в Немецкой слободе. Так там жил его брат Роман. Дед часто жил на Второй Мещанской, в доме, купленном любимой Агафье, где ощущал себя в кругу семьи. Правда сказать, на Москве-то у него было несколько домов. И своё подмосковное имение Глинки он любил. Это в сорока двух верстах от Москвы при впадении реки Вори в Клязьму.
– А кто живёт там сейчас?
– Везде – чужие люди. Нам пора спускаться…
Попрощавшись с надзирателем и вручив ему рубль, Собакин первым вышел на яркую от солнца Сухаревскую площадь. За ним шёл Ипатов, щурясь на свет после полумрака башни.
– А теперь, Александр Прохорович, мы с вами прокатимся на Арбат, в Филипповский переулок и посмотрим тайную квартиру Турусовой.
– Это интересно зачем, Вильям Яковлевич? Что мы, дамских будуаров не видели, что ли? – с видом бывалого донжуана осведомился помощник.
– Как сказать… Я думаю, что такого рода будуара, где составлялся план убийства, вы не видели, – ответил Брюс.
– Что?! Турусова? С Зяблицким? Не может быть!
– Именно так, мой друг. Пока мы с вами прохлаждались, Канделябров, я надеюсь, добыл на Арбате необходимые улики и свидетельства этого дела. Мы с ним договорились там встретиться. Едем.
– Зяблицкий и Турусова… – продолжал повторять ошеломленный Ипатов.
***
В Филипповском переулке, у старого разлапистого двухэтажного дома, их поджидал Спиридон. Кивнув обоим, он тут же заговорил:
– Стопроцентных свидетельств тому, что здесь бывал Зяблицкий, я не нашёл. Вроде бы, его признал дворник. С утра я его возил на опознание в мертвецкую.
– Подожди-подожди, что значит «вроде бы»?
– Мужчина приходил к Турусовой всегда к ночи, в темноте и проходил через заднюю калитку. Какая уж тут точность – вздохнул Канделябров. – Здешняя кухарка, баба сильно любопытная, сразу видно, что следила за парочкой. Так вот. Она описывает врача довольно точно, хотя в морг ехать наотрез отказалась. Она же показала, что как-то перед Рождеством видела Турусову с этим мужчиной в кондитерской Филиппова . Они покупали пирожные и о чём-то оживлённо разговаривали. Вот тогда-то кухарка его и рассмотрела. Но по всему видать, что в свидетельницы мы её ни за какие коврижки не вытянем. Болезнь обывателя: моё дело – сторона.
Канделябров предложил пойти во флигель. Собакин в удивлении поднял брови.
– Квартирантка в последний приезд отказалась от жилья, – пояснил Спиридон.
Сыщики прошли в дом, огляделись. Летняя веранда, длинный коридор, три комнаты и чулан. Ничего особенного ни внутри, ни снаружи. Тем не менее, Вильям Яковлевич приметливо обошёл все помещения, заглянул во все углы.
– Я переговорил с прислугой: личных вещей Турусова тут не держала, – продолжал доклад Канделябров. – Как в гостинице: каждый раз после посещения, кроме использованного постельного белья и остатков еды – ничего, никаких улик.
– Если мы докажем, что доктор – любовник Турусовой, то её место в преступлении для меня будет очевидным. Становится понятной роль Зяблицкого, как сообщника и орудия преступления. Теперь уже Лариса Аркадьевна становится богатой невестой. Хотя, юридически, это косвенное доказательство. Прямых улик нет, а непричастных к делу любовниц у преступника может быть сколько угодно. Всё будет зависеть от того, как будет проведён её допрос. Я лично в вине этой женщины уверен, господа, – подытожил сыщик. – Поезжайте-ка, друзья, домой, а я отправлюсь к Рушникову и расскажу ему свою версию этого дела. В конце концов, пусть он сам решает, как лучше поступить. Может он сам захочет её допросить. Хотя мне кажется, что эта дама так изворотливо хитра, что вряд ли на чём-нибудь споткнётся.
***
По дороге домой Канделябров с Ипатовым, конечно же, обсуждали дело. Спиридон Кондратьевич, как обычно, ругался в адрес «всех Ев, от которых одно зло». Александр Прохорович пытался логически обосновать мотив и характер преступника.
– Допустим, что Вильям Яковлевич прав. Но, тогда не понимаю, как Зяблицкий, такой внушительный, образованный и уравновешенный мужчина мог поддаться обольщению такой курицы, как эта Турусова? Вот уж поистине – загадка!
– А чего тут загадочного? – кипятился Канделябров. – Ведьма, прости Господи, сосуд дьявола!
– Но ведь должен же быть какой-то механизм обольщения? Она же заманивала его на это преступление какими-то доводами? Он что, клюнул только на большие деньги? Не похож Зяблицкий на такого. Да и не нуждался он. Я понимаю, Залесская. Такая на что хочешь сговорит. От неё свихнуться – что чихнуть. Но эта-то, как умудрилась добиться такого рассудительного мужчину? Там и смотреть не на что!
– Не скажи, – вдруг возразил Канделябров. – Я её хорошо рассмотрел, когда за домом Арефьевых наблюдал. Дамочка с полным комплектом ведьминских принадлежностей: что спереди, что сзади.
Ипатов ошалело посмотрел на Спиридона, не веря, что мог такое услышать от ярого женоненавистника.
– Фигура ладно, допускаю. А лицо?
– Знаешь, милок, уж ежели мы, по своей работе можем себя до неузнаваемости видоизменить, так эта женская порода такое может учудить, что не будешь знать, кто перед тобой: шестнадцатилетняя роза или столетний репей.
После столь основательной тирады бывалой ищейки, Ипатов замолчал и всю дорогу обдумывал нелёгкую мужскую долю. Канделябров же вспомнил, что утром, перед уходом, обещал Бекону принести свежей рыбки. Заезжать за ней было уже поздно, да и некогда, отчего Спиридон Кондратьевич сильно огорчился.
Войдя в дом, оба сразу наткнулись на кота, дремавшего на половике в передней.
– Извини, рыжик, не до рыбы мне было. В другой раз, слышишь? – оправдывался Канделябров.
Кот, бросился поначалу к дорогому другу, но при таких словах выгнул спину и ушёл куда-то вглубь дома.
– Обиделся. Теперь д-о-о-лго дуться будет.
Ипатов возмутился:
– Прямо-таки и долго? Вы что, считаете, он вас понял?
– Обязательно. А когда надо, по необходимости, и ответить может, – кивнул Кондратьич. – Как это я так опростоволосился? Животное обидел напрасным ожиданием. Да, старею видно.
«Собакин прав. Спиридон у него с «приветом», – подумал Александр Прохорович, но противоречить убогому не стал.






