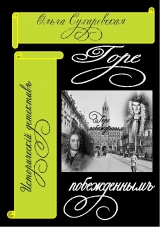
Текст книги "Горе побежденным (СИ)"
Автор книги: Ольга Сухаревская
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 28 страниц)
– Тут вы категорически несправедливы. Создание регулярного русского флота – исключительная заслуга Петра Алексеевича. В России тогда было построено 147 линейных кораблей и фрегатов, не считая мелких судов. И, между прочим, шведов под Гангутом он разбил именно на гребных галерах. У Якова Вилимовича есть запись, что в день сражения стояла безветренная погода из-за чего шведские парусные корабли утратили манёвренность. Так что, именно галеры помогли нам выиграть сражение.
– Помогли и помогли – спорить не буду, – примирительно сказал отец Меркурий, но упрямо продолжал: – Петровский флот был построен царём быстро, но не основательно. Он захирел, как только не стало самого Петра. И дело вовсе не в том, что некому было продолжить его дело. Просто никто после него так не надрывался сам и не губил стольких людей для исполнения своей воли. И только лет через тридцать-сорок, с царствования Екатерины II, флот начал по-настоящему крепнуть.
– По-вашему, после Петра флота не было? А вы знаете, что через одиннадцать лет после его смерти в очередной войне с турками с помощью небольшой Донской флотилии наша армия осадила Азов, – парировал младший Собакин. – Правда, силы были не равны и мы ту войну всё же проиграли. Как следствие – унизительный договор, по которому нам было запрещено держать Черноморский флот. Понятно, что это сильно затормозило его развитие. И всё же, уже в начале девятнадцатого века Военно-морской флот России стал третьим по величине после Великобритании и Франции и это – заслуга Петра, который заложил его фундамент.
– Вот и давай вернёмся к тому времени, когда не его именем добиваются хорошего результата, а им самим. Возьмём его сухопутную победу над шведами. Тебе, наверное, известно, что, к моменту царствования Петра Алексеевича, шведская армия сильно потрепалась в Тридцатилетней войне и, особенно в пораженческой схватке с Данией. Это была хорошо обученная, но небольшая европейская армия, во главе которой стоял мальчишка, Карл ХII. Тем не менее, в 1700-ом, под Нарвой, он разбил русскую армию. После такого разгрома Пётр не нашёл ничего лучшего, чем поснимать Божьи колокола с церквей и перелить их на семьдесят два орудия. Интересно, посмел бы какой-нибудь европейский государь такое сделать? Я думаю, что нет, разве что в случае, если бы стране угрожала смертельная опасность. Но не таков наш Пётр Алексеевич. Он выставляет всю эту громаду орудий против шведов. Вся битва продолжалась-то около двух часов и была скорее победной артиллерийской атакой русских во главе с твоим предком, чем традиционным сражением.
– Зачем же так пренебрежительно? – не смолчал Вильям Яковлевич. – Победа над шведами дала огромные результаты.
– Дала. Я просто хочу сказать, что война со шведами во многом была счастливым обстоятельством для Петра. Другое дело – выступление против серьёзного противника – Оттоманской Порты на южных рубежах России. Здесь надо было воевать умением, выдержкой и терпением, которого у царя отродясь не было. Против двухсоттысячной армии турок он выставил сорок тысяч нашего войска. Зачем, спрашивается, такие риски при очевидном перевесе сил? Там мы потеряли половину войска, отдали назад Азов, срыли все заградительные крепости, убрали с Чёрного моря флот. Ну и в чём его талант полководца? Но самое болезненное для меня – это наша Церковь. Православие – корень, из которого выросло, окрепло и духовно питается наше отечество. Твой Пётр Алексеевич, Бог ему судья, был человеком не православным, если не безбожным вовсе. Недаром народ звал его антихристом и обмороком мирским. О чём он думал, как православный император? Об охранении православных догматов, чести священства и благочестия народа? Ни, Боже мой. Церковь унижал, как мог. Патриарха упразднил, каналья, чтобы без помех безобразия чинить. Создал канцелярский Синод – превратил Церковь в казённое ведомство. По указу от 1705-го года архиереев, принимавших кафедру, заставлял клясться, что они не допустят постройки новых церквей без особой нужды. Им строго-настрого было запрещено, без уведомления властей, рукополагать в священники и постригать в монахи. Пётр лично за этим следил. Монастырским было запрещено держать в кельях перья и чернила. Несогласных архиереев и священство приказывал бить кнутом, расстригал и ссылал туда, откуда не возвращаются. В Англии твоей распрекрасной, у еретиков, принимал причастие. Нешто это можно делать православному царю?!
– Вот вы всё католиков ругаете, а у них папа свою Церковь в обиду не даёт и, чуть что не так, нерадивых отлучает. Этого грозного оружия бояться все: от простого смертного до высшей власти. Такой человек сразу становится изгоем общества и от него все разбегаются, как от зачумлённого.
– А у нас сам Господь распорядился, без посредников: терпел, терпел да и отвернулся от этого нехристя. Под конец жизни остался он один, как перст: вокруг одни соратники и неприличная жена – пьяница с полюбовниками. Знаешь, что про него сочинили, когда на Сенатской площади ему поставили тот самый знаменитый памятник на коне?
У Петра Великого,
Близких нету никого.
Только лошадь да змея,
Вот и вся его семья.
Каково? Людей не обманешь. Не знаю, может со временем и забудется всё, что он натворил, а в наше время твоего реформатора только сильно «образованные» дураки хвалят, да и то, не все. Так-то. Никакой западной культуры он к нам не принёс, как говорят некоторые. Нельзя же назвать культурой голландское платье, бритые щёки, табак, пьянство и разврат. При нём никакой культуры вообще не было. Заграничная учёба наших молодых дворян тоже пшиком вышла. Некоторые из них вообще из-за границы не вернулись: боялись царской расправы за неспособность к наукам. Хоть в прислуги, а всё лучше, чем назад к бесноватому царю. А те, кто вернулись, не больно-то и выучились. А почему, знаешь? Иностранцы русского не знали, а наши недоросли ни на каком другом, кроме своего не говорили. Вот и подумай сам, что они могли уразуметь там за пару лет, смотря по родительским деньгам, на которые они жили в этих самых заграницах. Иностранным языкам у нас обучали только в Славяно-греко-латинской академии, за которой было закреплено на это монопольное право. Даже книги на иностранном языке дозволялось держать дома только тем, кто закончил академию. Ослушники лишались личного имущества. Хороша просветительская политика! А ваша хвалёная Навигационная школа? Адмиралу Апраксину в 1711-ом году оттуда пришла жалоба, что учеников в школе не кормят, стипендий не выдают, они совсем обнищали, проели свои кафтаны, ходят босиком и просят милостыню. Как тебе это?
– Это были трудные годы военных походов.
– Нет, племянничек, всё это было от того, что делались дела с наскока да с плеча. Говорю тебе, он почти ничего не умел доводить до конца. А результат? Посадил на шею подневольным людям служилых дворян, а они, после смерти Петра, обязанностью этой пренебрегли, вытребовали у царских баб немереные привилегии, а мужичков дарёных у себя навечно в крепости оставили. Совесть есть? Нету у наших дворян совести. Недаром, когда дело дошло до отмены крепостного права, правительство объявляло это в церквах, с амвонов – боялись бунтов против бывших хозяев.
– Дворянству в России тоже было нелегко. В русском понимании дворянин – личность несамостоятельная, – вставил замечание Вильям Яковлевич. – В старину, его общественное положение определялось не законным правом, а исключительно расположением правящего князя. Дворянин владел землями и людьми, пока был в милости. В Московском государстве не существовало обоюдных вассальских договоров и гарантий прав. Князь Пётр Долгоруков писал в своей биографии: «Родился я и жил, подобно всем русским дворянам, в звании привилегированного холопа в стране холопства всеобщего». Понятное дело, что высшее сословие при любой возможности пытались укрепить своё положение. Они же видели, что у западных дворян была, законом охраняемая, собственность, которую не так-то просто было отнять. Вот поэтому там было такое явление, как рыцарство. А что это значит? Материальная независимость, честь и личная ответственность. Королям приходилось с ними считаться. Да и крестьяне в Европе воспринимались не как рабы, даже, если были несвободны. А наши до сих пор – бессловесные общинники.
– Ты мне рыцарями своими не тычь. Я тебе про Петра говорю. Что же он такие замечательные европейские законы не перенял? Видел, небось, в той же Голландии, как живёт простой народ! Всё потому, что плевал он на всех, и на дворян тоже! Самодур. Сделал департаменты (чем плохи были приказы?) и расплодил чиновничью тьму опять же за счёт полуголодного российского мужика. Реформы Петра ничего не дали народу, кроме непосильного ярма. Перед кончиной совсем из ума вышел и отменил, чёртушка, старину и порядок в престолонаследии. Под занавес, так сказать, нагадил своему народу, обрёк на произвол случая. У нас ведь недаром царскую корону венцом называют в память о терновом венце Спасителя. Царская власть – тяжёлое бремя и ответственность не только перед людьми, а, в первую очередь, перед Богом. А со смерти Петра и до Павла царские бабы корону эту, как украшение носили, а русский человек при этом безропотно гнул спину и Господа молил, чтобы Он, Милостивец, его не оставил. А всё твой разлюбезный Пётр! Это ж надо – гулящую девку царицей сделал! Хорошо ещё, что не горбатую Варвару Арсеньеву, свою полюбовницу. А ведь хотел! Насилу отговорили. Его же прямо тянуло на уродства! И как только не противно было графу Брюсу устраивать торжества по случаю коронации Екатерины! Тьфу! Ты сам мне рассказывал, что он нёс перед будущей царицей императорскую корону и потом развлекал всех фейерверками и праздничными зрелищами на воде.
– Во-первых, не забывайте, что он был иностранцем, который не имел право вмешиваться в дела империи, пока его об этом не попросят. Во-вторых, он состоял на государственной службе. А в– третьих, для Брюса царь был другом и боевым товарищем. Их связывало время, когда Пётр Алексеевич делил со своими приближёнными все опасности и тяготы военных походов. Это дорогого стоит. А женщина… Что ж, такую слабость другу можно и простить.
– Пусть бы и была женщиной! Так нет, надо было её императрицей сделать. Какой срам для нашей истории! После смерти Петра на престоле оказалась постоянно нетрезвая простолюдинка, фрау Иоганн Краузе. Любой суд признал бы её женой первого мужа – шведского солдата, якобы пропавшего без вести. Хотя этот законный пропавший муж нашей императрицы, ни от кого не скрываясь, долгое время исправно служил шведскому королю и скончался только в 1733 году на Аландских островах. Кстати сказать, он так больше и не женился, объясняя это тем, что у него есть жена, с которой он не развёлся. Во как! Простой солдат чище своей гулящей половины.
– В конечном итоге, эта женщина стала личной трагедией Петра Алексеевича,– вздохнул Вильям Яковлевич.
– Ишь ты, трагедией… А как он мог сына под смерть подвёсти за несогласие с реформами?
– Царь боялся, что после его смерти Алексей повернёт страну назад.
– Царевич в Успенском соборе Кремля публично отказался от трона и присягнул малолетнему сыну Екатерины. Он был согласен уйти в монастырь. Чего же больше?
– Сын был врагом его дел. Царю доносили, что многие тайно сочувствовали царевичу и видели в нём того, кто сможет в будущем вернуть старину.
– Родное чадо не пожалел и убил.
– Это никем не доказано.
– А мне и не надо твоих доказательств. Я в архиве Александро-Невской лавры нашёл изъеденные мышами покаянные записки бывшего новгородского архиепископа Феодосия , в которых он прямо пишет, что царь повелел убить сына, чтобы не казнить его принародно. Бывший епископ утверждал, что Пётр Алексеевич сам назначил палачей царевичу: Румянцева , Толстого , Ушакова и Бутурлина . Хорошо, что у меня ума хватило эти замшелые листы подальше засунуть и никому об этом не рассказывать, а то бы я здесь не сидел. А ты, что притворяешься, будто ничего об этом не знаешь? Читал, наверное, напечатанные в Англии, «Записки графа Брюса»? Он там о своём царственном друге и благодетеле негоже пишет и заявляет, что царевича отравили. Хотя, на самом деле его придушили в тюрьме.
– Опубликованные «Записки» – подделка. Они были сочинены в конце прошлого века и распространены в Европе, чтобы подорвать престиж Романовых.
– Да? Хорошо, коли так. Не буду грех на душу брать и думать о Брюсе плохо. Ему в России доверяли.
– Помилуйте, дядюшка! Зачем бы он стал на весь мир ругать русскую историю, да ещё поносно описывать Петра, которому служил и был исполнителем множества его дел. Сами подумайте! Это – как самого себя высечь. И в деле царевича никто из иностранцев участия не принимал. Не хватало, чтобы народ подумал, будто чужие его засудили. Хотя, царь не раз просил деда поговорить с наследником и вразумить его подчиниться отцовской воле. Как известно, из этого ничего не вышло. А решение о казни сына принимали представители самых известных фамилий России от генералитета, Сената и Синода.
– Посмели бы они проголосовать против, – хмыкнул отец Меркурий.
– Граф Шереметев суд над Алексеем не подписал и сказал, что рождён служить государю, а не судить его царскую кровь.
– Значит, наверху тоже есть совестливые люди. А народ, хоть и внизу, а всё видит. От него ничего не скроешь. Недаром после смерти царевича один за другим стали появляться самозванцы – Алексеи-избавители. Ты, небось, про таких и не слышал? А ведь за ними с 1718-го года почитай лет тридцать гонялись. Так-то, племянничек, – не унимался монах. – Пришлось нам покувыркаться до Павла I , пока он в законе о престоле не навёл порядок. А сколько косточек человеческих перемололось за те лихие годы! Одна курляндская немчура чего стоит! Но больше всего изломало русскую душеньку крепостное право и, как бы пришибло, что-ли. Другой какой народ, может, и угнетали, как наш, но он со звериным ожесточением смотрел на своих хозяев. А наши, православные, что раньше, что теперь, глядят на мир скорбно и принимают безропотно всю его несправедливость. Оттого они так и любят Бога, и несут Ему в церковь последнюю полушку, что только на Него и надеются. А нерадивое священство и эту надежду отнимает. Народ ведь, как дитё, верит тому, что видит. Ох, чувствую, беда будет.
– Вы, отче, революционер. За такие речи вам полагается каторга.
– Нет, Бог миловал, я не революционер. Но, между прочим, своим умом дошёл, что народ, так долго бывший в крепости, не может быть опорой государству. Понял? Его поднимать надо с колен, а некому.
– А как было в 1812-ом? Ещё были в крепости, а встали все, как один на защиту Отечества.
– Ты что, из себя дурака строишь? Будто не знаешь, как было дело. Во-первых, французы были завоевателями, которые пришли отбирать и убивать. А во-вторых, когда Наполеон объявил, что идёт в Россию освобождать крестьян, наши власти посулили народу выход из рабства после победы над неприятелем. Тогда-то все, как один, и схватились за вилы.
– Это были пафосные речи перед всеобщей угрозой, а не официальное обещание.
– Вот именно. Обманули народ и всё. Кстати сказать, Александр Благословенный обманул и помещиков: после войны он им не вернул крестьян, которых взял по мобилизации, а оставил в рекрутах тянуть лямку 25 лет. То есть победителей лишил свободы навечно.
– Послушайте, – поморщился Вильям Яковлевич, – уже почти сорок лет нет крепостного права, а вы всё о том же. Чего вы сами-то хотите?
– Соединения царского, церковного и народного управления.
– У нас всё это есть: и царь с Государственным Советом, и Церковь, и Земство. Если вы ими недовольны, то я вам сочувствую. В мире вообще нет ничего идеального. Идеальное государство – утопия.
– Но ведь было же это раньше, и желать возврата к старине не возбраняется.
– Вот что я вам отвечу, дорогой родственник, – вздохнул племянник. – Ничего в этом мире не бывает без промысла Божьего. Родился Петр Алексеевич в благочестивой царской семье, среди православного народа, прадедом его был патриарх Филарет . А это значит, что молитвенников и попечителей о его душе было много и на этом, и на том свете. Нравится вам это или нет, но он был помазанником Божьим. Я думаю, что и преобразования, которые задумал молодой царь, были угодны Богу. Нужно было такими радикальными мерами вывести нашу страну из обособленного состояния. Да-да и не машите руками. Только такой уникальный и противоречивый человек, как Петр I, смог за тридцать шесть лет своего правления сделать Московское царство Российской империей и этого вы у него не отнимите. Только с его толчка, с его поистине неистового желания, наше обширное государство обрело выходы к океанам. Именно он выдернул Россию с задворок нашей цивилизации и сделал не только равной другим европейским странам, но и центральным игроком в мировой политике.
– А зачем нам это, скажи на милость? Чуть что – война, – заметил батюшка.
– Благодарю за столь содержательную беседу, – Вильям Яковлевич резко встал из-за стола. – Мне пора заниматься делами. Извините.
– Прости и ты меня, Христа ради, если чем обидел тебя сгоряча, – ответил отец Меркурий и, быстро крестясь, зашептал молитву.
– Слава Богу, позавтракали конец, – оповестил Канделябров тихого Ипатова, который сидел на стуле в кухне, а слухом был весь в столовой, где происходила баталия.
– Как ты думаешь, Спиридон Кондратьич, прав отец Меркурий или нет?
– Это одному Богу известно, – уклончиво ответил старый слуга и загремел посудой, всем видом показывая, что обсуждать эту тему не намерен. – Прав он или нет, а язык попридержи о том, что здесь слышал, – добавил он.
***
– Ну что, сыскная команда, – обратился Вильям Яковлевич к своим подчинённым, – поставленная задача вам ясна. Спиридон, собирайся, поедешь в Английский клуб, а мы с Ипатовым начнём опрашивать ближний круг Поливанова. Но, сначала нам надо навести справки о камне. Мы с вами, Александр Прохорович сейчас отправимся к одному ювелиру, моему знакомому еврею. Несколько лет назад я помог ему избежать очень крупной неприятности: доказал властям, что он непричастен к перекупке краденых драгоценностей, которые похитили у одной именитой московской семьи. С тех пор мы время от времени встречаемся не без пользы друг для друга. Евреи – народ гонимый, а потому – благодарный. Надеюсь, он что-нибудь расскажет нам об этом алмазе.
***
В полдень Собакин с помощником подкатили к антикварному магазину господина Гольдштейна, что на Маросейке.
– Мне нужен хозяин, – обратился Вильям Яковлевич к подбежавшему приказчику.
Ипатов жался к начальнику и таращил глаза. Чего здесь только не было: античные вазы, бронзовые часы на любой вкус, китайские безделушки, мраморные статуи античных богов и нимф, стыдливо прикрывающих наготу, дорогой фарфор, антикварные книги. На видном месте, как апофеоз богатства, стояла витрина с драгоценностями. Под потолком висели хрустальные люстры, тонко позвякивая подвесками при малейшем дуновении ветерка.
«Пещера Али-Бабы», – восхитился Александр Прохорович.
Скоро из-за бархатной портьеры появился пожилой худощавый еврей в чёрном сюртуке и золотых очках на длинном, характерном носу.
– Всегда рад вас видеть, Вильям Яковлевич, – приветствовал он гостя. – Чем могу служить?
– Я к вам за консультацией, не откажите по старой памяти, – проговорил Собакин. – А это мой помощник.
– Прошу ко мне в кабинет.
Хозяин повёл сыщиков в длинный коридор, сплошь заставленный антиквариатом.
– Тесно живу, – улыбнулся Гольдштейн, оборачиваясь к гостям. – Но, я не жалуюсь.
Толкнув тяжёлую дубовую дверь, обитую железом, он пригласил гостей в «святилище» своего магазина. В комнате, перво-наперво, обращали на себя внимание два огромных, выше человеческого роста, несгораемых сейфа. Под потолком ярко горела новомодная электрическая лампа – окон в помещении не было. Еврей предложил гостям кресла, а сам уселся за, министерских размеров, стол и сложил руки на животе, показывая, что весь – внимание.
– Соломон Давидович, что вы знаете об алмазе «Чёрное сердце»? – без всяких предисловий спросил Собакин.
– О том самом, что пропал с руки господина Поливанова в Английском клубе?
– Точно так, – кивнул сыщик. – Вы, оказывается, уже осведомлены!
– Кому, как не нашему брату, ювелиру, знать о таких вещах раньше других, – улыбнулся Гольдштейн.
– Расскажите нам о нём.
– В Москве он несколько лет. Его привёз из Парижа князь Глебовский незадолго до своей кончины и подарил племяннику – Алексею Алексеевичу Поливанову. Камень я видел, когда меня вызвал к себе сам князь для составления реестра фамильных драгоценностей. Кольцо золотое, старинной работы: птичьи лапы, с длинными когтями держат алмаз карат в пятнадцать. Точнее не скажу – я его не обмерял. Пётр Григорьевич не пожелал снять его с руки. Форма у него неправильная, чуть овальная. Камень очень чистый, если бы, по центру, в нём не было тёмного пятна с ярко выраженной формой объёмного сердца. Огранка старинная, так называемая, индийская – «table stone» – площадкой, с дополнительной нижней гранью – коллетой. В древности считалось, что геометрия такой огранки усиливает магические свойства алмаза. Такие старинные крупные алмазы – большая редкость. В большинстве своём, в 17-ом и 18-ом веках их переогранили в бриллианты. А этот сохранил свою первичную обработку. Ещё, я бы отметил, что камень, несмотря на солидный возраст, имеет необычайно высокую степень шлифовки и полировки.
– Так его нельзя назвать бриллиантом? – удивился Ипатов.
– Нельзя, – улыбнулся ювелир. – Официально признано, что в 1475-ом году ювелир бургундского герцога – Людвиг ван Беркем впервые в Европе произвёл огранку алмаза, превратив его в бриллиант. Камень, что называется, заиграл. Это произошло благодаря сделанным граням – фацетам. Что касается «Чёрного сердца», то он, скорее всего, родом из древней Индии.
– Вы знаете его историю?
– Кое-что мне рассказал сам князь, а кое-что я узнал из других источников. Начнём с того, что князь Глебовский был маниакально привержен всему таинственному и мистическому. Прожив во Франции лет десять, он просто-таки помешался на тайных обществах и на поисках сокровищ Ордена тамплиеров. Князь говорил об этом во всеуслышание и на всех перекрёстках. Думаю, что именно поэтому он не был принят ни в одну, даже самую игрушечную масонскую ложу, – рассмеялся Гольдштейн. – Тем не менее, то ли деньги, то ли упрямство князя сделали своё дело: он каким-то невероятным образом оказался рядом с человеком, который нашёл сокровища тамплиеров. Спрашивать об этом у его сиятельства я, сами понимаете, не решился.
Собакин фыркнул.
– Уж не знаю,– продолжал ювелир, – каким ветром занесло князя Петра в местечко Ренн-ле-Шато, у подножия Пиренеев, но именно там он сошёлся с неким Беранже де Соньером, священником, который, руководствуясь каким-то, якобы, семейным документом, шесть лет искал в тех местах какой-то тайник. По словам князя, этот Соньер нашёл искомое, когда затеял ремонт своего обветшалого храма и обнаружил в стене две полые колонны, где были спрятаны древние рукописи, свитки, ящик с драгоценностями и небольшой сундук. Священник открыл князю, что эти ценности принадлежали Болдуину II, королю Иерусалимскому и Ордену тамплиеров. Будто бы их увезли во Францию крестоносцы, когда город захватили мусульмане. Князь рассказывал, что однажды, Соньер показал ему некоторые вещи из найденных сокровищ: печатки с тамплиерскими крестами, застёжки для плащей, золотую цепь с подвесками в виде льва, орла и голубя и что-то ещё, я уже не помню. Священник не открыл перед ним только кованый сундук, завёрнутый в полуистлевший плащ тамплиера. Эту находку, по его зову, приехали и забрали какие-то люди. Отсюда я сделал вывод, что этот Соньер был не так прост, как представлялся.
– Интересно, что ещё князь рассказал об этом человеке?
– По его словам, священник был очень образован, знал древние языки. Во время их многочисленных встреч Соньер много рассказывал о том, что прочитал в найденных рукописях. В основном, это была хроника крестовых походов. В одной из них говорилось, что в тайнике спрятано кольцо «Чёрное сердце», которое принадлежит Ордену тамплиеров. На протяжении многих лет оно вручалось монаху-воину, который исполнял особые поручения этой организации. Кольцо будто бы имеет магическую силу: преданно служит своему владельцу и приносит ему успех во всех делах. Если же монах забывает о своём служении Ордену, и сердце его поворачивалось в сторону суетного мира, кольцо тут же наказывает виновного смертью дорогого ему человека, что приводит к угрызению совести владельца и раскаянию в нарушении обета. Соньер перерыл все сокровища в поисках алмаза, но так его и не нашёл. Потом он вдруг умер при невыясненных обстоятельствах, а его экономка в одночасье разбогатела и купила себе добротный дом, где и зажила барыней. Стало очевидным, куда подевались драгоценности, которые священник оставил себе, хотя, по словам князя, женщина не была причастна к смерти священника, а только присвоила себе некоторые ценные вещи. Не удержавшись от соблазна, князь уговорил женщину продать ему что-нибудь из доставшихся ей сокровищ. Она выложила перед ним несколько вещей: пару, ничем не примечательных, колец, застёжку для плаща, золотой тамплиерский крест и ещё что-то. Внимание Петра Григорьевича привлекло кольцо, где непонятного происхождения тусклый камень, держали, искусно сделанные, когтистые золотые лапы. Его он и купил. Камень был буро-зелёного цвета. Вернувшись домой, он принялся рассматривать кольцо под лампой, царапнул камень ножом и обнаружил, что под толстым слоем какого–то химического состава скрывался алмаз. По словам князя, когда он увидел «Чёрное сердце» у него самого сердце ёкнуло. Кольцо досталось ему практически даром – экономка не видела в малопривлекательном камне большой цены. Она думала, что это плохо обработанная яшма. А вот Орден держал ухо востро. Через некоторое время они разнюхали о счастливом приобретении болтливого русского князя и потребовали вернуть реликвию или продать им её. Они добавили, что он рискует жизнью родных, так как это кольцо убивает всех близких своего владельца. Князь им не поверил. Он считал, что Соньера убили его же собратья из Ордена и боялся той же участи, как свидетеля открывшихся сокровищ, лишь только он отдаст «Чёрное сердце». Но вскоре Пётр Григорьевич абсолютно уверовал в силу камня. Как только он вернулся в Париж с кольцом на пальце, так сразу получил известие из Москвы о внезапной смерти своей сестры. Недолго думая, князь отправился в Россию, как он сказал, спасать племянника – единственного оставшегося своего родственника. Князь страшно раскаивался в том, что связался с «Чёрным сердцем». Тогда я предложил ему продать кольцо. Он ответил, что этого не сделает, так как уже принёс в жертву свою сестру. А скоро и он умрёт, так как чувствует себя из рук вон плохо. У племянника никого нет и жениться он не собирается. Пусть это чёртово кольцо хоть ему послужит. Пока алмаз у Алексея на руке – с ним ничего плохого не случится. Это всё, что я услышал от князя. Скоро его не стало.
– Отчего он умер?
– Откуда мне знать, – пожал плечами Гольдштейн. – Когда мы с ним виделись, он имел нездоровый вид: всё время задыхался и хватался за сердце.
– Вы верите, что «Чёрное сердце» приносит владельцу удачу, например, в картах?
Еврей усмехнулся:
– Я в карты не играю – поэтому ничего сказать не могу. Но знаю, что господин Поливанов вечно торчал в Английском клубе. Он дружил со всеми заядлыми игроками и был в курсе всех карточных баталий, хотя, последнее время, не играл. С некоторых пор он легко ссужал крупными суммами неудачливых безусых юнцов и великовозрастных мотов – игроков под честное благородное слово, без записи. Кто-то из его должников сейчас ненадолго счастлив, что смог избежать платежа, а кто-то горюет потому, что негде взять в долг без процентов. Вот всё, что я могу сказать. Откуда у него были такие деньги – я не знаю. Может дядя много оставил, а может сам где-то заработал – мне неведомо.
Собакин покачал головой.
– Теперь скажите, если предположить, что кольцо украдено, трудно ли преступнику тайно сбыть такую вещь с рук?
– Тайно почти невозможно. По крайней мере, за настоящую цену. Такие сделки не осуществляют без ювелиров. Алмаз стоит больших денег, и покупатель захочет удостовериться, что оно не фальшивое. Правда, его можно распилить на несколько качественных камней и мелочь: сделать из них бриллианты. В Амстердаме, например.
– Сколько, по-вашему, стоит это кольцо?
– С ювелирной точки зрения, у камня большой дефект: включение или, как мы называем, порок, в виде объёмного пятна, из-за которого алмаз, и так мало ограненный, теряет свою яркость. Вот смотрите.
Ювелир открыл ящик стола и вынул из него коробочку, в которой лежал небольшой бриллиант. Гольдштейн взял его пинцетом и поднёс к лампе. В его руке вспыхнули разноцветные искры такой яркости, что заставили сыщиков на мгновение зажмуриться.
– Прозрачность камня даёт возможность свету беспрепятственно проникать внутрь, а бриллиантовая огранка, в данном случае – розой, позволяет этому свету отражаться от его многочисленных граней и рассеиваться разноцветными лучами. В «Чёрном сердце» этого не происходит: пятно мешает. Но, в нём есть одна особенность. Вне пятна он, как говорят ювелиры, очень чистой воды. Над его огранкой потрудился замечательный мастер. Он сумел сделать так, что включение почти не мешает отражению света. Даже его немногие грани расположены таким образом, что при повороте камня возникают очень эффектные вспышки света. Учитывая эту особенность и его предполагаемую биографию, я бы отдал за него тысяч тридцать.
– А продали?
Ювелир рассмеялся.
– За все сто. А может быть и не продал, а оставил себе. Редкостная вещь.
– Скажите, Соломон Давидович, а вы случайно ничего не знаете о местопребывании кольца? Может, слышали, что или ваша братия что-нибудь пронюхала? Вы меня знаете, я тайны хранить умею и за своего помощника тоже ручаюсь.
– Помилуйте, Вильям Яковлевич, я вам доверяю, но помочь не могу. Как только умер Поливанов, наши, конечно, засуетились. Интерес понятен: кто наследник и будет ли продавать драгоценность. Сунули «барашка» кому следует, а их и ошарашили: кольцо пропало. Нет, как не бывало. В нашем деле такое бывает. Соблазн всегда рядом с золотом и камешками держится. Кое-кто к уголовникам сунулся, те – разводят руками. К перекупщикам – ничего. Ювелиры всех оповестили: так, мол, и так, если вдруг алмаз объявится – милости просим к нам: возьмём за хорошие деньги. Но, до сих пор – молчок. Я думаю, что это дело рук господ почище, чем уголовники. А, значит, правду говорят, что гнильцой от Английского клуба тянет. Уж простите, за такие мысли.






