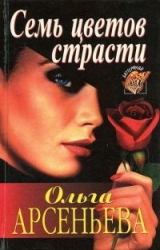
Текст книги "Семь цветов страсти"
Автор книги: Ольга Арсеньева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)
Я положила на черный камень свой летний букет, а Майкл, присев на корточки, полез в сумку. На свет была извлечена блеснувшая темным глянцем скрипка, осмотрена, приложена к плечу. Взлетел и замер в раздумье смычок.
– А что сыграть?
Я пожала плечами, обескураженная сюрпризом.
– Ну, ладно! – Майкл привычно тряхнул несуществующими кудрями и с налету тронул струны смычком. А потом нежно повел им, едва касаясь и сдвинув брови, словно это влияло на звук.
Мои детские бренчания на фортепиано не оставили в памяти ничего, кроме нескольких имен композиторов, соседствующих с воспоминаниями о не слишком увлекательных уроках. Последующие годы мало прибавили к моему музыкальному образованию. Названия популярных опер, личное знакомство с модными певцами и композиторами, несколько посещений симфонических концертов – вот, пожалуй, и все, чем я могла бы похвастаться. Мне вряд ли удалось бы отличить виртуоза от выпускника музыкальной школы, но здесь – в подвижной полутени старых деревьев, у торжественного обелиска, творилось что-то невероятное. Скрипка Майкла жила своей особой надрывающей душу жизнью.
«Ave, Maria». Мне всегда хотелось плакать от этих звуков, посланных в вышину или льющихся с неба – не разберешь… Но в такие моменты ощущаешь себя причастным к Вечности, крошечным, но очень важным ее составляющим. Не какой-то там «формой существования белковых тел». Любимым детищем. И прекрасным. Я засмотрелась на Майкла. Дорогой мой Микки, не зря охраняла бабушка твою мальчишескую жизнь от дворовых футболов, ребяческого резвого пустозвонства – ты стал великолепен, маленький затворник!
Звуки смолкли, и посыпались аплодисменты. Возле нас собралось человек десять случайных посетителей, среди которых была и краснолицая уборщица с каким-то ведьминым помелом, и пьяненький бродяжка, и знакомый нам бухгалтер. «Еще, еще!» – завопил пьяненький. А бухгалтер вежливо попросил: «Господин Артемьев, будьте любезны… Огласите… так сказать, скорбную обитель теней своим высоким искусством». (Это мне так показалось по выражению его круглого, светло улыбающегося лица.)
Майкл не упирался. Сыграл что-то очень печальное, плачущее, скорбно-прекрасное и кивнул мне.
– Это известный русский, вернее, советский композитор Шостакович. Музыка к кинофильму «Овод». А напоследок – оптимизм! – Развернувшись к памятнику, он произнес: – Когда вы были юнгой, дорогой капитан, вам не пришлось лазать на реи под эту музыку, вдыхать солоноватый воздух странствий, напоенный этими звуками. Но ведь музыка вечна. А значит, вы слышали ее своим храбрым сердцем, она звала и вдохновляла вас, уважаемый юнга Арсений Семенович.
Все это Майкл сказал для капитана и меня по-английски, но скрипку держал наготове, и «публика» не расходилась. Тогда он объявил: «Дунаевский. Увертюра к кинофильму «Дети капитана Гранта».
От свежего порыва этой дерзкой, рвущейся в неведомые дали к простору и счастью музыки у меня по спине побежали мурашки. Так реагирует моя кожа, когда душа прикасается к чему-то настоящему. То же, вероятно, чувствовали и другие. Уборщица прослезилась, горестно опершись на метлу, а когда Майкл оторвал от струн смычок и быстро поклонился, грянули аплодисменты.
Около нас собралась приличная толпа, не желавшая расходиться.
– Прошу прощения, я спешу. У нас еще один визит. – Майкл спрятал инструмент и, подхватив меня под руку, быстро увел в лабиринт тенистых аллей.
– А это предок барона фон Штоффена, советник по вопросам градостроительства при господине Лефорте. Замок… Вальдбрунн… на его капиталы построен, да и по его проекту. Он нам – Белую башню, а мы ему – шиш!
– Майкл, я опять забыла про свой чемодан. Тащи его сюда, только не урони. Уже в аэропорту намучилась – оформляла как особо ценный груз, ритуальный подарок.
– Так провозят бомбы.
– Тащи, тащи. Пора устроить фейерверк.
Я присела на каменную скамеечку у роскошного, но сильно обветшалого надгробия, изображавшего открытую книгу, где на мраморных страницах было что-то начертано готическим шрифтом. Из-под книги виднелся каменный свиток с планом и часть какого-то инструмента, очевидно, астролябии. Кружевная вязь букв на большой плите почти стерлась, и я нагнулась, чтобы разобрать даты. Ого! 1663–1718. Прекрасная карьера для сорока пяти лет жизни.
Майкл вернулся с чемоданом, нарочито изображая утомление. Я-то знаю точно – всего двадцать килограммов весил бронзовый венок, заказанный мной в художественной мастерской Пер-Лашез. На обвивающей лавры ленте выгравированы наши с Майклом имена и цитата из Библии. Что-то о вечной памяти и вечном покое.
– Здорово! Вот куда идет наше общее наследство. Этот веночек стоит, наверно, целое состояние.
– Неужели я выгляжу нищенкой?
– Ах, Дикси, правда, твой «сувенир» очень подходит к надгробию… Но ведь его стащат. Придется приковать цепью.
– Как это стащат? Украдут? С кладбища?
– Милая, милая моя! Покоящемуся здесь господину, к несчастью, так и не удалось внедрить немецкую щепетильность в душу русского народа.
– Ведь он прожил всего 45 лет! А если бы дотянул до восьмидесяти… как знать!
– Шустрый парень! Наверняка начал с восемнадцати. Хотелось бы пожать его крепкую руку: прибыть в Россию с почти что нравственной миссией. Строить каменные дома вместо курных изб… Спасибо, брат, отличный пример. Мы с Дикси не дадим погибнуть твоему лютиковому имению. Не распродадим, не спалим, не превратим в пристанище разврата, не бросим на растерзание взбунтовавшимся плебеям, если в Австрии случится коммунистический переворот.
– Будем отстреливаться. Я, кажется, приметила там пушку с горой во-от таких ядер.
Майкл вдруг обнял меня, но тут же отпустил. Не успело мое сердце рухнуть в пятки, а его спина уже удалялась по аллее, ведущей к выходу.
В гостиницу мы заезжать не стали – ведь на даче у праздничного стола нас ждала Натали, специалист по черной металлургии. Эта профессия прозвучала применительно к женщине, жене музыканта, так ужасно, что Майкл, заметив выражение моего лица, поспешил объяснить:
– Она проработала несколько лет в Министерстве черной металлургии, а потом ушла в детский сад – надо же было Сашку растить. Там и осталась. Заместитель заведующей.
Я уже целый день в России, но запутываюсь все больше и больше. Собственно, меня ничего не интересует, кроме выполненной, слава Богу, миссии и Майкла с его семейством. Лучше бы, конечно, без семейства. Но все же я стараюсь не удивляться. Например, «дачному поселку» в пригороде Москвы, где на маленьких участках догнивали деревянные дома послевоенной застройки с туалетами в виде… Ну, в общем, при том бароне, что работал у Лефорта, наверно, уже было что-то более цивилизованное.
Но цвели жасмин, огромные алые маки и ромашки, а стол, выставленный под яблони, ломился от еды, будто меня и впрямь принимало семейство баронов в своем венском поместье. При этом никакого этикета – сплошное радушие и свобода общения.
Наташа, Натали… Ах, как бы мне хотелось, чтобы ты выглядела похуже! Мой зоркий женский глаз уловил небольшие переборы в косметике, чересчур нарядный для садового приема фасон крепдешинового платья и не слишком ухоженные ноги в открытых туфлях. Но ямочки на щеках! Губки бантиком, чудная детская улыбка и соблазнительная пропорциональность невысокой подвижной фигурки.
Она радушно щебетала, заставляя мужа переводить, пододвигала мне блюда, прося отведать. Немыслимо – ведь все это приготовила она сама! А еще убрала в домике, сделала прическу и, наверно, уже на лету успела мазнуть короткие ногти перламутровым лаком. Мне захотелось сделать этой женщине что-то приятное, и я достала коробочку «Коко Шанель» и браслет с чеканными эмблемами парижских достопримечательностей. Интересно, я не думала о ней, покупая эту вещь, а любимые духи взяла на всякий случай, но теперь радовалась, глядя, как русская женщина ахала над моими незатейливыми подарками.
– А у вас, Натали, замечательный муж. Он, наверно, рассказывал про наши приключения… Это чудо, что мы оказались родственниками.
– Муж хороший. – Она погладила рыжую голову и на мгновение прижалась к сидящему рядом Майклу. И он нежно поцеловал ее в щеку. – Миша просто замечательный. Он очень талантливый и очень скромный.
– Я не буду переводить: жена меня хвалит. Так раньше дублировали у нас иностранное кино: «беседуют» или «ссорятся» в то время, как на экране проходил огромный диалог. Наташа – добрая и мужественная женщина. Чтобы иметь семью, наша женщина должна быть сильной и жертвенной. – Он посмотрел на жену и что-то сказал ей с улыбкой. Посмотрел преданно и ласково. Майкл гордился своей Натали. Я, наверно, заметно взгрустнула от вида семейных радостей, и чуткий Артемьев тут же изменил тон. – У нас есть такой анекдот: к русскому приходит в гости иностранец и восхищается: «У вас прекрасная горничная – дом в полном порядке». Они выходят в сад. «У вас отличный садовник», – говорит гость. Садятся за стол, и гость не удерживается от комплимента: «Великолепный повар!» «Да что вы, – вздыхает хозяин, – это все моя жена».
Я любезно засмеялась над этой жуткой шуткой, а Майкл что-то сказал Натали. Та тоже засмеялась и зашептала мужу на ухо, касаясь его губами. Он стал возражать.
Солнце садилось, и появились надоедливые комары. Майкл вынес из дома шерстяную кофту, набросил на плечи жены, задержав руки и слегка поглаживая ее плечи.
– Наташа хочет спеть русскую старинную песню. Но не решается. Знаете, Дикси, она действительно неплохо поет. Врожденный слух. Иначе бы я не позволил ей и рта открыть
Он подбодрил жену, и та запела что-то очень печальное, старательно выводя мелодию слабеньким, но приятным голоском. На втором куплете Майкл поддержал, и они стали петь в два голоса – тихо, слаженно и очень грустно.
– «Извела меня кручина, подколодная змея…» – процитировал Майкл и объяснил: одинокая крестьянка грустит в избе, за окном воет ветер. Кажется, имеется в виду ревность, гложущая ее сердце.
– Невесело, – заметила я коротко, заподозрив намек в словах кузена. – Но очень, очень музыкально.
Они потом немного поспорили и спели еще один романс – бурный, страстный. Это были, кажется, «Очи черные».
Мне показалось, что, если я исчезну, супруги Артемьевы и не заметят, будут сидеть здесь под темнеющими ветвями в обнимку и петь свои полные тоскующей страсти песни. Я поднялась, объясняя, что уже поздно и пора ехать в отель.
Майкл недоуменно посмотрел на меня.
– Что ты, Дикси? Я же немного выпил, за руль сесть не могу, телефона тут нет, такси тоже. У тебя безвыходное положение – ты примешь наше предложение переночевать здесь. Тем более Наташа заранее устроила тебе лучшее место на веранде. – Он вдруг усмехнулся. – Вместо душа могу предложить ведро холодной воды, а санузел в конце сада. Ты что? Хлебни нашей местной экзотики, раз уж отважилась посетить Россию, да к тому же имеешь туземных родственников. Будет чем пугать парижских снобов.
– Перестань. Мне приходилось жить в индийских джунглях. А там еще были кобры и скорпионы. – «И очень горячий любовник», – хотела добавить я, но постеснялась Наташи, которая все равно ничего не понимала.
Потом мы долго сидели в полутемной комнате под оранжевым абажуром над круглым столом. В углу белела деревенская печь, а по стенам висели букеты сухих трав. Наташа показывала старые фотографии, где был представлен маленький Саша, удравший в Москву, чтобы не мешать «приему» иностранки, а также Микки в коротеньких штанах, со скрипочкой и светлыми локонами на белом отороченном кружевом воротнике.
– Эту курточку мне бабушка из своего бархатного платья перешила. И воротничок крючком обвязала. А я плакал и сопротивлялся, потому что боялся быть похожим на девочку. Ой, как ненавидел я тогда эти кудряшки! Даже кусок ножницами выстриг и был выпорот.
– Тебя били? – спросила я просто так, чтобы не выдать, как мне понравился этот восьмилетний Паганини с голыми коленями над белыми гольфами, а еще то, что его костюм перешит из платья бабушки, как наверняка и бархатный пиджачок того испанского «тореадора».
Наташа что-то грустно сказала, обращаясь ко мне.
– «Неужели мы и вправду сможем жить в Австрии, да еще в собственном доме?» – плаксивым тоном дословно продублировал Майкл и добавил: – Натали нам завидует.
– Наташа, мы постараемся не упустить законного везения. Ведь мы не такие уж плохие, чтобы не заманить жар-птицу, – дипломатично успокоила я.
– Бывшие «совки» не верят в жар-птицу. И в лояльность своего законодательства относительно лиц, покидающих Родину, – объяснил Майкл жестко.
Наташа прижалась к мужу и стала успокаивать его, называя «Мишенька». А потом они разом засмеялись.
– Мы решили, что сделаем Сашу народным депутатом, он введет в законодательство титул барона и узаконит наше владение титулом и родовым поместьем. Фу, я устал дублировать. Да и гостья наверняка хочет спать, – положил конец нашим затянувшимся посиделкам Майкл.
Меня ждала чистенькая скрипучая постель у деревянной стенки, граничащей со «спальней». Звенели комары. Ужасно хотелось спать, но на душе было смутно и тревожно. Найти, что ли, в шкафу оставшееся вино и надраться? В темноте я нащупала в сумке таблетку снотворного и, не запивая, проглотила. Как хорошо, что всегда таскаю эту пакость с собой, как и кое-что другое, увы, здесь совсем не нужное!
За стеной тихо шептались. Я прислушалась. Чужой язык, совсем чужой. А интонации знакомые. Короткая переброска фразами, смешок. Еще – разливистей и призывней. Мычание и долгая пауза. Пауза поцелуя. Скрипнула кровать, женский голос ойкнул. Затихли и снова зашептались. Голос Майкла сказал что-то властно, по-мужски, Наташин проворковал нечто нежное, прерываемое хохотком. Разом взвизгнули все пружины в матрасе – и понеслось! Кровать скрипела все громче, отчаяннее, не заглушая коротких стонов. «Миша, Мишенька», – почти вскрикнула Наташа. Что-то стеклянное свалилось на пол, потекла вода, и все стихло.
Мое сердце колотилось в каждой клеточке тела, даже в кончиках пальцев, которыми я зажала уши. Не помню, чтобы когда-нибудь эротика производила на меня большее впечатление. Эх, Рут! Я села в кровати, нащупывая ногами туфли, тело пылало, хотелось в сад, окунуть лицо в бочку с водой, бежать босиком по колкому гравию… За окном прошуршали шаги. Я увидела огонек спички, на секунду осветивший знакомый профиль. И снова потемнело, а потом из черноты, в которую я вглядывалась до боли в глазах, выступила прозрачная, беззвездная синева, светлеющая к горизонту, а на ее фоне силуэт Майкла. Он курил, прислонившись спиной к дереву с задранным к небу лицом, – к единственной белевшей на нем низкой звезде. Наверно, такой же голый, как тогда на балконе Чак, и такой же победный. Неужели это осанка всех самцов после удачной схватки? Майкл, Микки… Что же мне надо от тебя, Мишенька?
Он на миг исчез и вновь появился – в руке смычок, к подбородку прильнула скрипка. Я сжалась в комок, узнав мелодию. Второй раз за сегодняшний день мне хотелось плакать. Увы, я уже давно не умела делать этого, и потому сердце разрывалось от боли – Майкл играл «Травиату», ее главную, прощальную тему. Выть, я же могла выть! Обняв плечи руками, я раскачивалась на кровати, тихонько подвывая скрипке и проклиная застрявшие в горле, не желающие проливаться слезы…
Утром у всех были виноватые лица. Потому что над городом и окрестностями нависли плотные, непроницаемые, накрапывающие дождем тучи. Мы пили кофе в комнате, обсуждая «культурную программу» на сегодняшний день. Вернее, обсуждали супруги Артемьевы, а я помалкивала, не требуя перевода.
– Где же ваша собака? Майкл говорил, что у вас живет симпатичный спаниель. Мне показалось, что ночью под верандой кто-то скулил, – попыталась я переменить тему.
– Эмма все лето живет у родителей Наташи в деревне. Никто не скулил – это я играл на скрипке, – коротко отрезал Майкл, даже не став переводить жене наш многозначительный диалог.
На прощание мы обнялись.
– Спасибо, Наташа, все было великолепно. Обязательно увидимся… Надеюсь, встретимся у нас, в… Вальдбрунне… – сказала я, целуя госпожу Артемьеву в щеку.
Еще вчера днем я была убеждена, что немедля приглашу их в Париж, в свою заново отделанную квартиру. Черта с два! Не видать вам, дорогой кузен, моей голубой «королевской» спальни!
– Что, нескладно вчера вышло? – спросил меня Майкл, когда мы выехали на шоссе. Не глядя и будто вскользь.
– Нормально. У вас хорошая семья.
– Ты точно знаешь, что номер забронирован в «Доме туриста»?
– Я улетаю домой. Сейчас же. Вспомнила о важном деле.
– Хорошо, – сразу согласился Майкл и круто развернул машину.
Мы молчали всю дорогу. А это очень длинный путь – по шоссе вокруг Москвы. Наверно, мы проехали Бельгию, Голландию и Люксембург вместе взятые. Майкл внимательно смотрел вперед, а я сочиняла обидную фразу. Чтобы сразу стало ясно, что он в подметки не годится моим дружкам, что я ни капли не поверила его трепу в Гринцинге про обреченность любить, что мне вовсе не было весело болтаться в мокрой резиновой лодке и подыгрывать его школьным шуточкам… Что весь этот месяц я прожила монашкой просто из лени. А его скрипка… его скрипка… А его скрипка хороша для семейных дуэтов. Может, и для концертов, только я в этом ни бельмеса не смыслю…
…Мне пришлось купить билет на брюссельский рейс, потому что он вылетал прямо через полчаса, и я решительно направилась к уже опустевшей стойке билетного контроля.
– Подожди! – Майкл схватил меня за плечи, оттаскивая в сторону от удивленной контролерши, и развернул к себе лицом. Но сказать ничего не мог, только губы дрожали, а в глазах металось отчаяние. Он разжал руки и пробормотал, словно диктуя себе смертный приговор: – Богатая, красивая, нежная… такая необходимая и чужая…
– А ты – большой и сильный. Безжалостный и счастливый. – Я повернулась, чтобы уйти.
– Дикси! Не сильный и очень несчастный, – прошептал его голос мне в спину. Но это было уже в прошлом. Изящно и уверенно Дикси Девизо удалялась в аэропортовские недра, к другой, теперь уж я точно знала, – к совсем другой жизни…
3
Хризантемы Рут еще стояли как ни в чем не бывало, а в жизни Дикси сменилась целая эпоха. Она в сердцах пнула ногой освобожденный от бремени бронзового венка чемодан и, не разбираясь, сунула в шкаф тщательно подобранные для поездки в Москву вещи. Платьица и белье, которыми намеревалась смущать Майкла: темный костюм для визита на кладбище, гипюровое вечернее платье для театра, «туристические» брючки и пуловеры и, конечно, небрежно-элегантный пеньюар, крайне необходимый в непредвиденных обстоятельствах.
«Что произошло с тобой, Дикси? Примчалась домой через Брюссель, будто удрала от Интерпола. В глазах – сплошное презрение, и патлы торчат, как после плохой «химии», – ни блеска, ни завитков. Что напугало тебя, бесшабашная искательница приключений?» – недоумевала она, рассматривая свое отражение в высоком зеркале холла. Из глубины замутненного временем стекла, видавшего еще юную хохотушку Сесиль, смотрела усталая рассерженная дама неопределенного возраста (это когда дают меньше, чем на самом деле, но больше, чем хотелось бы). Костюм в «гусиную лапку», классифицированный Майклом как «клетчатый голубой». «Сизый, дорогой мой, сизый». А блузку – этот легонький кусочек перламутрового шелка, – Майкл вообще не заметил, поскольку представляет она практически одно декольте, открывающее загорелую шею с тяжелой серебряной цепью, убегающей в «соблазнительную ложбинку» (как обычно выражаются беллетристы). «Соблазнительную»! Дикси хотела саркастически расхохотаться, но буквально скорчилась от жалости к себе: «Здорово же провели тебя, дуру!»
Рут сразу подняла трубку, очевидно, придерживая ее подбородком и облизывая пальцы.
– Ты уже в Париже, Дикси?! Что стряслось? – Она перестала слизывать крем. Где-то в глубине ее дома пел Джо Дассен.
– Что у тебя там происходит?
– Делаю торт с банановым суфле. У нас вечером гости и, конечно, потребуют мое коронное блюдо.
– Меню ты правильно рассчитала. А вот со мной ошиблась. Кроме демократии, Кремля и описанных тобой факторов, в России есть секс и тараканы. Причем их-то как раз больше всего. Тараканы мирно сосуществуют с людьми, имеющими библиотеку, рояль и портрет Бетховена, а люди постоянно трахаются. Причем не стесняясь гостей.
– Дикси, может, мне заехать? – Рут испугалась, уловив истерический звон в голосе подруги.
– Не надо. Я валюсь с ног от усталости. Постарела на десять лет. Как там у Александра Пушкина? «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей». Ладно, пока. Корми гостей.
Опустив трубку, Дикси решительно направилась к бару, но телефон тут же зазвонил вновь. По-видимому, Рут не на шутку обеспокоили бредовые заявления вернувшейся из Москвы путешественницы.
– Перестань паниковать. Все нормально, – заверила ее Дикси, откупоривая бутылку виски. – Не забудь полить суфле ликером. Я все вспомнила, это из «Евгения Онегина». «…И тем ее вернее губим средь обольстительных цепей». Правильно? По-моему, отличный перевод и очень точная мысль: чем меньше любим, тем больше нравимся! Это как раз про легковерных идиоток…
– Дикси! Ты готовишь новую роль? – В трубке звучал незнакомый мужской голос.
– Простите?
– Не узнаешь? Еще бы – лет пятнадцать не виделись. А это помнишь?.. – Он напел шлягер из «Берега мечты».
– Ал?! Не может быть! Ты где? Фу, до чего же я хочу тебя видеть! – прошептала Дикси охрипшим от волнения голосом.
– Послушай, детка, заехать сейчас не смогу – в страшном закруте. Я в Париже. У меня катастрофа, нужна твоя помощь. Не отказывай другу – график горит!
Опустившись с бокалом виски на пол у телефона, Дикси минут десять слушала историю Ала и в конце концов сказала: «Да».
После серии средненьких ролей «белокурого бестии», покоряющего пустыни, дебри, прерии, лошадей, женщин, сердца мирных жителей – работяг и воинственных дикарей, Алан Герт почувствовал интерес к «большому кино». Ему удалось найти продюсера для первого проблемного фильма, явно претендовавшего на элитарного зрителя. «Голодный холод» Алана Герта с треском провалился. Критики ехидно писали о том, что незадачливый режиссер застрял меж двух стульев – коммерческого плебейского вкуса и вымученной претенциозности, метя в номинацию «самый серьезный фильм года». Конечно, в фильме были подняты расовые проблемы, сняты индейские резервации, палестинские беженцы, арабские террористы, пухнущие от голода чернокожие дети и все то, что должно было, по убеждению Ала, заставить человечество схватиться за голову и взвыть от отчаяния. «Славный малый Герт» и в режиссуре остался прекраснодушным и не слишком мудреным «ковбоем». Хотя изо всех сил стремился в интеллектуалы.
Потом появились еще две ленты полудокументального плана, снятые в паре с хорошим документалистом. Их заметили, похвалили, поощрили какими-то призами, и Алан воспрянул. Теперь он снимал самостоятельно трехчасовой фильм о второй мировой войне, исходя из новых представлений о русско-американском союзничестве. Было в нем и французское Сопротивление, и концлагеря, и советские воины, гибнущие за Сталина.
Алан сгорал от нетерпения завершить последние части и был уверен, что на этот раз его фильм получит заслуженные лавры. Здесь, в Париже, среди прочих французских «хвостиков» он должен был доснять прощание русского офицера с женой. Герой второстепенный, жена и вовсе появляется на экране пару раз. Но именно этой почти бессловесной паре Герт придавал большое значение в концепции своего фильма, и финальная сцена, по его замыслу, имела символическое значение. В воспоминаниях Сергей и Дуся бродили светлой июньской ночью по Ленинграду, на фоне разводящихся мостов и мирно спящего города. Лишь окончившие школу десятиклассники нарушали ночную тишину, с шутками и песнями гуляя по родному городу на пороге большой счастливой жизни.
В роли Дуси снялась русская актриса, но для поездки в Париж ее виза почему-то задерживалась. Конечно, можно было бы отказаться от эпизода прощания влюбленных на вокзале осаждаемого фашистами города, снять какую-нибудь дублершу со спины, а впоследствии и вовсе выкинуть сцену из отснятого материала.
Но тут Алан вспомнил о Дикси: чем черт не шутит! Русская актриса Алферова сразу напомнила ему давнюю подружку, отлично сыгравшую в «Береге мечты». Правда, карьера ее не сложилась, но Ал пару раз видел Дикси в эпизодах и убедился, что она могла бы стать первоклассной актрисой, если бы, допустим, Старик Умберто не передумал снимать продолжение своей индийской притчи или нашелся бы какой-нибудь другой мастер, сумевший оценить и развить ее дарование. Конечно, прошли долгие годы, для иных женщин весьма губительные. «Какова теперь пылкая синеглазка? Поговаривали про нее всякое», – думал Алан, отыскивая парижский телефон «дикарки».
На третий день он наконец застал Дикси дома. Торопливо изложил свои проблемы, не упустив возможности прихвастнуть, и получил согласие.
Повесив трубку, Ал даже присвистнул – так тревожно сжалось у него сердце. Завтра он увидит ее и, возможно, пожалеет об этой встрече. Тот месяц в джунглях стал едва ли не лучшим временем в жизни Герта – блистательное начало актерской карьеры, сказочная партнерша, сочетающая полнейшую невинность и страстную готовность постичь все премудрости греха. Впрочем, тогда у них это был совсем и не грех, а святейшая мудрость матери-природы… Да, много воды утекло, и, может быть, не стоило омрачать печальными впечатлениями чудесные воспоминания юности.
Дикси согласилась на предложение Ала, смущенная лишь ранним вставанием – только нетерпеливый Герт мог назначить съемки в 6 утра. В 5.30 он уже ждал у подъезда ее дома. Они обнялись, а рассмотрев друг друга, хмыкнули – раннее утро не придало физиономиям свежести. Хотя накануне Дикси приняла все меры, чтобы не слишком разочаровать старого дружка, зеркало не порадовало – под глазами набрякли мешки, уголки губ поникли, а волосы вообще перестали виться. Такова уж их особенность – кудрявиться пропорционально подъему настроения.
– Ты еще хоть куда, детка! – слишком горячо для натурального восторга воскликнул Ал. Он еще не мог разобраться в своих личных впечатлениях от встречи с Дикси, но режиссерское чутье посылало настораживающие сигналы.
– А ты стал еще «рекламней». Только теперь для зубной пасты не годишься и даже для сигарет. Для выборной кампании в президенты разве что.
– Эх, Дикси! – Ал распахнул перед ней дверцу автомобиля. – Не той власти я стражду… не той! Вот погляди. – Он бросил на колени Дикси пакет с фотографиями. – Ну как, похожа?
– Поразительно! Такое впечатление, что я вижу родную сестру или собственные забытые фотопробы… Эта женщина снималась в экранизации Дюма?
– Что? Ах, да, в Москве. Я видел. Она очень красивая и сразу же потрясла меня сходством с тобой. Настоящая русская красавица! Представляешь, какая удача! Два дня звоню тебе – без толку. Решил использовать дублершу – снимать со спины: бежит за вагоном, машет платком, фигура выражает отчаяние… Но ведь хотелось крупный план! Слезы, синие глаза в мокрых ресницах, полные ужасного предчувствия… Они больше не увидятся. Сергей погибнет на фронте, и Дуся (она его безумно любит) это чувствует. Да ты все поймешь… Сергея играет американец – Джон Бредбери. Такой русак…
– Не знаю. Боюсь… я давно не снималась… И настроение поганое… Вчера прилетела из Москвы.
– Неужели? Вот это в точку! Вместо одной явилась другая. Черт, может, это какой-то знак?.. Ну ладно, потом поболтаем, иди к ребятам, мы начинаем через сорок минут. Видишь, молодцы, – свет уже поставили.
Ал подмигнул Дикси и подбадривающе сжал ее локоть. Всего пять минут назад, увидев отрешенно-печальное лицо молодой женщины, он плохо скрыл разочарование. Но уже сейчас точно знал, что будет снимать эпизод в первоначальном варианте – с долгой панорамой и крупным планом. Увы, Дикси уже не та, но именно такой – померкшей, едва скрывающей отчаяние и должна быть несчастная, теряющая любимого Дуся.
– Дик! – окликнул Ал направляющуюся к костюмерному фургончику Дикси. – Я знаю, ты должна была стать звездой. Жаль, что не вышло…
– Жаль… – Она улыбнулась ему одними глазами. – Многое не получилось. Но я давно уже разучилась плакать…
На съемочной площадке, на вокзале, несмотря на ранний час, кипела работа. У старательно замусоренной платформы стоял пригнанный из депо состав археологической ветхости в «гриме» славянских надписей. Толклись у своих приборов осветители, ассистенты давали последние указания массовке, обряженной в соответствии с исторической достоверностью в тряпье беженцев украинской национальности.
Поставив ногу в армейском сапоге на нижнюю ступеньку вагона, грустил высокий «русский офицер», покусывая травинку, – он явно «входил в образ».
Костюмерша испуганно ахнула, услышав парижскую речь Дикси, и все время потом кудахтала о невероятном сходстве дублерши с мадам Ириной. Гладко причесанная, с тугим пучком на затылке, в костюме из синего штапеля в белый горошек, Дикси с непривычным для нее волнением ждала начала съемки. В голове все смешалось: как же это произошло так сразу – сейчас она предстанет перед камерой, а режиссер – Алан Герт! Возможно, что-то подобное Дикси воображала тысячу раз, мечтая взять реванш у неблагодарной судьбы. И теперь, когда чудо и в самом деле явилось, все чувства пришли в смятение, как приборы на корабле, попавшем в Бермудский треугольник.
– Лицо мы не делали – ведь камера будет сзади, – объяснила гримерша зашедшему за Дикси Герту.
Алан, задумчиво посмотрев на подкашивающиеся ноги Дуси в туфлях на толстых каблуках, в белых хлопчатобумажных носочках, скомандовал: «Пора!» Он заметил, что Дикси на взводе, ведь недаром опытный Ал подбросил ей фразу о неудавшейся актерской карьере – теперь она либо взорвется, либо впадет в столбняк.
Дикси огляделась – на платформе все готово для съемок. Тележка с камерой стоит у среднего вагона, а рельсы от нее бегут вдоль всего состава – значит, придется бежать. Подозвав «Сергея», Алан представил его Дикси. Тот изумленно посмотрел на Ала.
– Ты не ослышался, Джон, – мадемуазель Девизо, француженка. Я же говорил, что у меня не бывает безвыходных ситуаций. Мы давно работаем с Дикси, она отлично справится… Значит, так: эпизод без текста, будет идти под фонограмму вокзальных шумов – гудки, крики беженцев – война. Немцы наступают. Вон там написано по-русски (он кивнул на фанерную выгородку, изображающую вокзальное строение), что это город Киев. Сергей уезжает на фронт. Вы много страдали и совсем недавно поженились. Два не очень молодых человека наконец нашли друг друга и теперь должны расстаться. Он шепчет: «Я вернусь, я обязательно вернусь». Но она знает, что видит его в последний раз. Чутье любящего сердца… Поезд гудит, трогается, они не могут оторваться друг от друга, просто стоят, держатся за руки и смотрят. Женщина медленно снимает с шеи вот этот платок (первый подарок мужа) и отдает ему. Поезд набирает скорость – они медленно расходятся, как льдины в океане, пальцы придерживают платок, потом уже концы платка… Мгновение – и связь рвется. Понимаете, здесь перекличка символов: те разводящиеся мосты в Питере, ваши руки, уходящий состав, уходящая жизнь… Дуся остается с вытянутой рукой. Сергей вспрыгивает на подножку последнего вагона, зажав в кулаке ее платок. Ты, Дикси, еще ковыляешь за поездом и остаешься одна. Все… Понятно?








