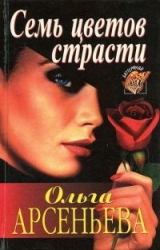
Текст книги "Семь цветов страсти"
Автор книги: Ольга Арсеньева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)
– Ах, ты же латышка! – обрадовалась Дикси. – У вас несовпадение характеров… Скажи лучше, этот герой у Бунина – хвастун и «лесоруб»?
– Пойди в библиотеку, возьми хороший перевод. У Бунина с сексом все было в порядке. Поэтому и эмигрировал в Париж еще в 20-м году. Писал высокохудожественно и очень трогательно. Правда, правда – несколько томов повестей о любви. Настоящей, бессмертной. Для общего знакомства с национальным характером не помешает. Неважно, что фамилии героев лишь созвучны. – Это характерный типаж художественной личности – с надрывом, тягой к возвышенному и трагическому, болезненной интеллигентностью, сумасшедшей способностью влюбляться «до гроба» и абсолютным неумением постоять за свое чувство…
– Вижу, подруга, пострадала ты от этих «героев», уж больно горячо выступаешь.
– А как же! Джанино подвернулся, когда мне все уже было до чертиков. Гляди. – Она засучила манжеты блузки, освободив запястья. Поперек синих жилок белели тонкие ниточки шрамов. – Память о таком вот господине Арсеньеве… Талантища Леонид был огромного… Затравлен, задирист, смел до безумия и труслив, как младшеклассник… Это только теперь его картины стали на Западе популярными… А тогда – подвал, портвешок, папироски тюремные и море амбиций… Ох, и боготворила же я его, и презирала!.. Девчонка была, в сущности, дура.
Дикси подвинула подруге полную рюмку ликера.
– Пей залпом, как лекарство, а то, смотрю, до слез дело дойдет. Ведь латышки не плачут?
– Нет. Веселиться и любить тоже не умеют. Темперамента не хватает.
– А меня, если честно, больше к Бунину этому тянет. Сплошной раздрызг какой-то. И в душе, и в мыслях. У меня ведь, оказывается, немного русской крови в жилах гуляет, наверно, той самой – темной.
– Ну, ясное дело, это как вирус ВИЧ. Капля дегтя в бочке меда. От этого вот все так и усложняешь, путаешь в своей жизни. Чего только один эксперимент со Скофилдом стоит, не говоря уже о Вилли…
– Не напоминай – с прошлым покончено. Ошибки молодости, дурное воспитание, скверный характер – ну, все что угодно, только не цинизм… Меня уж очень к возвышенному тянет.
– Это еще как-то можно понять, – согласилась Рут, гордившаяся своей лояльностью по отношению к человеческим слабостям. Она была одной из немногих, кто не упивался собственным великодушием, поддерживая связи с Дикси в эпоху «падения». «Завязывай ты с этим, – просто сказала она подруге. – Эпатаж хорош для двадцатилетних. Умным девочкам под тридцать он быстро надоедает, как и свалки с горячими жеребцами».
– Рут, скажи, ты была сильно влюблена в своего гения? – спросила вдруг Дикси.
– А как же! Все по законам «большого кино». Хотела убить себя, когда родители запретили встречаться с ним. «Роман с диссидентом!» – это же для тех лет криминал жуткий! Отцу кричали: «Партбилет на стол!»… Я вены вскрывала. Но как-то все замялось, травой поросло. Леонид в другой город уехал. А ко мне явился Джанино. Вот уж ясно солнышко – улыбка до ушей и душа нараспашку. Жаль только, что иностранец. Мы под венец собрались, а отцу опять: «Партбилет на стол!» Он плюнул и от всех их привилегий отказался. Выбыл из рядов КПСС, должность свою руководящую потерял – и прямо в пенсионеры. «Счастливого, говорит, пути тебе, доченька». Итальянчик мой новобрачную в охапку – и к себе, на капиталистическую родину… – Рут вздохнула и отбросила салфетку, из которой все время крутила какие-то жгуты.
– Выходит, брак по расчету? Я-то думала, у тебя с Джанино настоящий роман был.
– Был, да еще какой! Детское мое увлечение словно испарилось – будто в книжке прочла и забыла. А тут настоящей итальянской матроной стала – и страсть, и ревность, и прыть откуда-то взялись…
– Как же тогда у вас все это прошло? Ведь Джанино и после развода не терял надежды вернуть тебя.
– Джанино? И после развода, и после свадьбы, и до – он считал меня любимой. А знаешь, сколько при этом женщин он навещал на предмет «поиграться»? – Рут засмеялась. – Я все же думаю, они привирали, сговорившись досадить мне – тупой латышке. Пять. Джанино имел пять постоянных подружек. И при этом любил жену.
– Что значит тогда – «любил»?
– Ах, разве мы знаем что-то о явлении, которое слепо наделяем такой властью! Шаманство, Дикси, самогипноз, и не более. Чтобы придать осмысленность физиологии и «подкачать паров»: дать возможность каждому почувствовать свою исключительность, незаурядность. Так просто – чирк бритовкой, и ты героиня… – Рут, давно собравшаяся уходить, философствовала уже у порога. – Пока, дорогая. Квартирка получилась очень стильная. В следующий раз приду со своей картиной. Вон к той стене совершенно необходимо – ничем не занимай.
2
Записки Д. Д.
Я снова открыла свою тетрадь. Зачем? Ну не рассказывать же все Рут, Жаклин Женевьев или Лолле? Они, возможно, поймут. Только вот я не смогу удержаться, чтобы не приукрасить исповедь живописными дамскими детальками – охами, всхлипами, не поддать жару, не стушевать неловкость. И выйти из воды сухой. Ведь до смерти хочется выглядеть получше, даже когда перед тобой не Каннское жюри, а всего лишь слезливые глаза бывшей антиподши или насмешливая улыбочка Рут. И если даже отлично знаешь, что плевать им всем, по большому счету, на твои откровения, привирания, на то, что было, могло быть или придумано в пылу саморазоблачения… Чужая жизнь – потемки, и кому же охота в них блуждать? Психоаналитикам хорошо платят за терпеливое выслушивание абсолютно неинтересных им бредней. Но если даже легко изображать участие за деньги, то трудно забыть, что ты оплачиваешь проявленное к тебе внимание. В зависимости от потраченного на тебя времени, как в борделе.
Моя тетрадка и чернила обошлись совсем недорого. К тому же можно быть уверенной в неразглашении тайны, а также отсутствии всякого заигрывания со мной с их стороны. С такими условиями можно остаться самой собой – и запросто рассказать все как есть. А произошло вот что.
Майкл обещал встретить меня в аэропорту. За последние дни перед поездкой в Москву и даже непосредственно в самолете я успела так накачать себя относительно его персоны, что чувствовала почти влюбленность. Этому помогли «Тенистые аллеи» Бунина и кассета «Травиаты» с Френи и Пласидо Доминго, которую я постоянно слушала. Если точнее, русский родственник меня заинтриговал, в голову лезли воспоминания о посещении оперы и детских шалостях в Пратере. Но ведь говорят, что первое впечатление – самое верное, и я старательно вспоминала блеклого мятого господина неопределенных лет и наружности, упорно пытавшегося протиснуться вместе со мной в адвокатскую дверь.
Рассмотрев еще от таможенного отделения толпу встречающих, притиснувшихся к толстому стеклу, я заметила сразу нескольких мужчин, вполне могущих сойти за Майкла. Темные костюмы, галстуки, жеваные лица, ощущение зажатости и мрачной тоски.
Но, оказавшись в узком проходе между шеренгами, я поняла, что ошиблась: мои кандидаты скользнули по незнакомке весьма заинтересованным, но чужим взглядом. «Возьму такси и попытаюсь разыскать господина Артемьева по телефону, самой мне со здешними кладбищами не справиться», – решила я.
– Ну куда ты летишь! С таким багажом могут совладать только парижские тяжеловесы! – Майкл схватил меня одной рукой за локоть, придерживая другой тяжелую тележку с чемоданом и сумкой. – Что ты там везешь?
– Колбасу, крекеры и шпроты, – ответила я. – На пять дней.
Я секунду колебалась, уж не расцеловаться ли нам по-родственному? Боже, как он мне понравился – замявшийся в нерешительности и вдруг чмокнувший кузину в ухо. Мне показалось, что я знаю все его жесты и эту робость, сменяющуюся нарочитой напористостью. Будто мы знакомы давным-давно и не виделись целый год.
– Прошел ровно месяц, Дикси. Смотри, я даже не загнал на барахолке твой пуловер и специально надел, чтобы ты меня узнала издали.
– Я по привычке высматривала черный костюм. Но и в нем бы с трудом узнала тебя. Ты очень изменился, Микки.
Я только сейчас заметила, что у господина Артемьева невероятные губы – изысканно-изогнутого, аристократического рисунка, с капризной насмешкой, притаившейся в чуть приподнятых уголках. Губы Аполлона, изваянного Праксителем.
– Загорел на даче. У нас необыкновенно солнечное лето. Первое за последние три года. – Он повел шеей в строго застегнутом воротничке голубой рубашки.
– И оброс. Смешные завитки, как у пуделя. А цвет ирландского сеттера.
– Ты устроилась в жюри собачьих конкурсов? Туда любят приглашать кинозвезд… А это мой «кадиллак»!
Мы остановились у припаркованной на стоянке машины, способной украсить любую автомобильную свалку. Белая краска рябила коричневыми лишаями, одно крыло почему-то было черным, от левой фары свисали разноцветные проводки.
– Извини, я так старался успеть починить свой «москвич» и, главное, покрасить! Две недели на даче провозился – шпаклевал, заменил крыло… В общем, уже совсем успевал – а здесь срочная работа… Хотел кое-что подправить ночью – и уснул! Представляешь, в восемь вечера, сном праведника.
Я села рядом с Майклом, с любопытством оглядывая прикрытые старым гобеленом сиденья и справку с крупными цифрами 1994, приклеенную к ветровому стеклу.
– Это тебе из собственного сада. Камелии. – Майкл достал с заднего сиденья и бросил мне на колени букетик полевых цветов.
Я погрузила лицо в поникшие, нежные пестро-мелкие соцветия, слабо пахнущие медом.
– Спасибо. Очень редкий сорт.
Рука Майкла привычно засуетилась вокруг приборной доски, откручивая какие-то гайки, и наконец включила зажигание. Автомобиль задрожал, ворча и кашляя.
– Старичку двенадцать лет. Чудо, что еще держится при таком хозяине.
– Не думала, что ты любитель автомобильного хлама.
– Да я и сам не знал, пока не увлекся. Вот весь мой долг в соответствующей валюте. – Он протянул конверт.
– Обижаешь. – Я оттолкнула деньги и отвернулась к окну.
– Давай не будем больше об этом. – Майкл сунул конверт в цветы, и мы тронулись.
– Каковы наши дела? – официальным тоном осведомилась я, пряча деньги в сумочку.
– Отчитываюсь. Могилу нашел, с директрисой кладбища договорился. Ждут завтра.
– Сегодня. Ведь еще весь день впереди.
– А визит на Красную площадь, в Пушкинский музей?
– Вначале дела. Я получила все необходимые документы, доказывающие мое родство с баронессой.
– У меня немного сложнее. Знаешь, наши архивы относятся к объектам государственной важности. А в моей биографии не все чисто.
– Как это?
– Длинная история.
– Для беседы у камина?
– Или для вечера на даче. Слушай, излагаю разработанную мной программу визита дорогой гостьи. У нас впереди почти пять дней. Сашка сдает экзамены, он живет с Натальей дома. Но вчера по случаю уик-энда и с целью подготовки «усадьбы» к приему гостьи все уехали на дачу. Ты можешь жить у меня в Беляево.
– Коллегия Зипуша забронировала мне номер в «Доме туриста». Это не очень плохо?
– Напротив, совсем удачно – по пути на дачу. Мое имение расположено в южном направлении. Черт, я опять забыл язык!
– Нет, говоришь лихо. Или я уже привыкла к твоим ляпам. И к тому, что ты на меня ни разу еще не посмотрел.
– Сто раз. – Майкл внимательно следил за дорогой, не поворачиваясь ко мне. – Костюм в серо-голубую клетку. Юбка миди-плиссе. Блузка… блузка… в общем, – красивая, волосы заколоты, помада цвета «коралл».
– Мог бы сдать экзамен на детектива. Да… малопривлекательная у тебя спутница.
– Ну что вы, мадемуазель! Пока мы протискивались сквозь толпу в Шереметьево, меня один хмырь даже лягнул от зависти. Честное слово! А я не успел дать сдачи.
Я посмотрела на профиль Майкла и заметила, что, несмотря на шутливый тон, глаза у него жесткие и прищуренные, будто в тире пристреливается.
– Так вот. Идя навстречу вашему пожеланию, мисс Очевидец (это я даю перевод с латыни), сегодня после обеда – посещение мемориала наших общих родственников и дарителей. Вечером – семейный прием в моем поместье. Завтра – прогулка в Загорск, там у нас чудесная церковная архитектура, вечером – отдых, а послезавтра – концерт! Правда, без моего участия. Извини, Большой театр закрыт на ремонт, а в другом оперном – летние каникулы. Но я кое-что припас из самых что ни на есть новомодных театральных явлений… Так что и в Париж возвращаться не захочешь, милая моя… – Он впервые посмотрел на меня, пристально и внимательно. – Кстати, как твои творческие успехи?
– Изредка снимаюсь, работаю по договорам. В общем, – пустяки… Да мне, в сущности, пора писать мемуары: как я дружила с господином Артемьевым.
– …У которого тоже почти нет работы, – с мрачной иронией добавил Майкл.
– Куда мы едем? – Мне показалось, что архитектура, свидетельствующая о приближении к городскому центру, осталась позади.
С широкой набережной машина свернула на малопримечательную улицу.
– Экскурсия по Москве потом, раз уж мы спешим посетить милый сердцу прах. Это Ленинские горы, ранее Воробьевы. Вон тот «билдинг» – храм науки, Московский университет, построен еще при Сталине, со всеми подобающими тоталитарному классицизму бутафорскими атрибутами величия. А это смотровая площадка, отсюда принято наблюдать праздничные салюты, а новобрачным клясться в вечной любви.
– Останови, пожалуйста! Там свадьба! – высунула я в окно любопытную голову.
– Уже неудобно парковаться. Ну ладно, слегка нарушим. – Майкл приткнул «старичка» возле сквера, и мы вышли на свежий, пахнущий кленами и липами воздух.
Майкл направился вперед, упершись ладонями в поясницу и стараясь выгнуть спину.
– С этой машиной столько наломался… Обидно, черт, не успел!
– Мне кажется, ты не очень старался поразить меня.
– С чего ты взяла? Представление только начинается. Извольте видеть – вон там блестят купола Новодевичьего монастыря. Это – Дворец спорта, а в дымке плывут алые звезды Кремля!
– Чудесно, правда, здесь так красиво – ничуть не хуже, чем в Венском лесу.
– Я же говорил – все только начинается!
Как бы в подтверждение его слов к нам подошли подростки с предложением купить матроску, матрешек и какие-то военные фуражки. Майкл пресек мой покупательский раж.
– Тельняшка тебе будет мала, а фуражка капитана СА – не твой стиль. Полюбуйтесь-ка лучше, дорогая гостья, этими новобрачными! Между прочим, они только что вышли вон из той церквушки после обряда венчания. Теперь это можно. И очень модно. Редко бывает, когда модно то, что можно.
Я во все глаза рассматривала невесту и толпу молодежи, разливающую в стаканы шампанское. Девушка в большой шляпе, отделанной нейлоновым кружевом и цветами, – совсем как у моей парижской соседки. Жених худой, очень длинный и прыщеватый, изобразил под ритмичные выкрики друзей долгий поцелуй для щелкавших фотоаппаратов.
Новобрачная с деланным недовольством поправила измятые оборки и лихо выпила шампанское, откинув за спину стакан. Молодежь громко и отчаянно завопила веселую песню, пританцовывая вокруг героев торжества. Во мне шевельнулась зависть. У нас со Скофилдом была очень скромная свадьба. Я не польстилась на платье невесты, предпочтя светлый костюм, и никогда мне не приходилось даже примерять такую незатейливо радостную шляпку…
– Иди сюда, Дикси. Господин Ельцин заждался! – Майкл потянул меня к картонному изображению президента, шагающего навстречу с обаятельной улыбкой и вытянутой рукой. Я хотела отвертеться, но фотограф показал, где надо встать, и я послушно ответила на рукопожатие Ельцина. Во «втором дубле» мы снялись с Майклом. – Это для Зипуша, – шепнул он мне и повис на шее президента, в то время как я прильнула к фанерной щеке.
– Ein Moment! – попросил фотограф, копаясь в своем «Полароиде», и мы заполучили прелестные фотодокументы.
– Потом рассмотришь. – Майкл повел меня к машине.
– А деньги? – удивилась я.
– Это абсолютно бесплатно. Сервис демократии. Личный фонд президента, – глазом не моргнув, уверил кузен.
Да, Сол прав – даже на таком фото Майкл вышел забавным. Вот что значит – фотогеничная некрасивость. Я же получилась кое-как: розовая толстуха со смазанным лицом.
– Дикси, предупреждаю, у меня дома пустой холодильник. Давай забежим в магазин? Мне необходимо заскочить домой за документами для кладбищенского начальства, а в ресторан мы уже не успеем. Наталья ждет нас на даче с пельменями и борщом.
– Тогда никаких магазинов. Будем беречь аппетит.
Визит в пустую квартиру Артемьевых прошел в обстановке гнетущей напряженности. Майкл явно считал свое жилище убогим и стеснялся всего, что выдавало его личную жизнь. Тем более здесь не ждали гостей и, видимо, поспешно собирались.
Раковина в крошечной кухне забита немытой посудой, на веревке под потолком сушатся полотенца, спинку кресла в комнате прикрыл ситцевый халатик в линялых цветочках. По столу, дивану и полу разбросаны книги, бумаги, ноты и даже остатки еды.
– Это Санька делает вид, что усиленно готовится к экзаменам. Он учится в музыкальном училище и сидит в Москве, пока мы копаемся на даче. И, видно, до позднего вечера работает в фонотеке… Прости, вот чистое полотенце, – заметил Майкл мою свежевымытую физиономию.
В ванной, такой маленькой, что двоим просто не развернуться, были развешаны постиранные носки, какое-то белье, а из мыльницы нагло смотрел на меня крупный рыжий таракан, в то время как два его собрата помельче предпочли разбежаться.
Когда я вернулась в комнату, служившую гостиной, Майкл успел смахнуть со стола учебники и накрыть его кружевной пластиковой скатертью. Халатик жены он тоже куда-то сунул и церемонно пододвинул кресло: «Присаживайтесь, мадемуазель!»
Я плюхнулась на диван, далеко не новый, покрытый цветным ковром, и огляделась. Бог мой! Половину крошечной комнаты занимал кабинетный рояль, две стены – стеллажи с книгами, пластинками, альбомами нот. Над роялем висели фотографии, оправленные в рамки. С одной смотрел хрестоматийно известный композитор в белом пухлом парике, другая же запечатлела некоего отрока, поразительно похожего на господина в парике. Тот же поворот головы, упрямый взгляд, а главное – кудри! Только вместо войлочных буклей на плечи юноши падали темные блестящие локоны.
– Это Саня пошутил, – заметил мой взгляд Майкл. – Увеличил парадную фотографию: я как раз получил диплом на юношеском конкурсе скрипачей. Дело было еще в консерватории, до того, как я оттуда вылетел. Меня дразнили Бетховеном из-за волос. Моя бабушка – Анна Владимировна Бережковская была убеждена, что скрипачу надлежит иметь поэтическую шевелюру и пикантное имя Микки… Может, даже из-за волос и отдала меня в класс скрипки. Я-то мечтал о виолончели.
– А это отец? – кивнула я на маленькое, явно урезанное по краям фото, скромно темнеющее в соседстве с Бетховеном.
– Нет, Дикси. Это человек, сделавший меня… И музыкантом, и гражданином, а в общем-то, человеком. Мне жутко льстило, что из консерватории мы вылетели вместе – мастер с мировым именем и сопливый «приспешник диссидента», как меня называли в разгромной статье. Это было в 1973 году.
– Кем же были твои родители?
– К тому времени, когда я «порочил звание комсомольца», ведя «разнузданную антисоветскую пропаганду», их уже давно не было на свете. Мой отец – двоюродный брат Клавдии и твоей бабушки Сесиль, не пошел по стопам деда – музыковеда, историка искусств. Семен стал инженером-энергетиком и, женившись на некоей Софочке Гинзбург, между прочим, еврейке, в 1951 году произвел на свет сына Михаила… Ты улавливаешь, племянница?
– Вообще-то я не сильна в вопросах родства. Но выходит, что моя мать, сыновья Клавдии и ты – какие-то братья, то есть располагаетесь в одном «историческом пласте».
– Верно схватила мысль, Дикси. А сейчас вообще увидишь картину целиком. – Он достал большой лист бумаги с изображенным цветными фломастерами генеалогическим деревом.
На верхних ветках я сразу увидела двух птичек «Микки» и «Дикси», круглые лица которых были украшены длинным носом и синими глазами соответственно.
– Вот и я. Прямо сирена получилась. Ты хороший художник, Майкл.
– Не отвлекайся, зри в корень, Дикси. Я провозился пару вечеров, расчерчивая наше прошлое. Не все удалось восстановить, но главное определилось точно. Смотри: в самом низу Арсений Семенович Лаваль-Бережковский, исследователь Севера, прославленный ученый, скончавшийся еще до революции, а посему сохранивший в стране победившего пролетариата свое доброе имя и даже надгробный памятник, сооруженный на средства Российской Академии наук (к нему-то нас и отправляет Клавдия). Ученый имел сына Василия, ставшего генералом армии и произведшего на свет троих детей: Алексея – отца Клавдии, Маргариту – твою прабабушку, мать бабушки Сесиль, и Петра – моего деда. Судьбы детей сложились по-разному. Алексей – полковник царской армии, погиб в 1918-м на фронтах гражданской войны, в то время как его жена Вера Ивановна, уже сделавшая приличную вокальную карьеру, с дочерью Клавдией эмигрировала в Европу. Старшая, Маргарита, еще при царе вышла замуж за француза Телье, имевшего на Невском проспекте в Санкт-Петербурге знаменитый фотосалон. Синеглазая Маргарита настолько вдохновляла художественный пыл Жана Телье, что, став его фотомоделью, обеспечила мужу множество медалей на международных конкурсах (был даже представлен довольно смелый для тех лет снимок «Леда») и родила хорошенькую девочку Сесиль. Семейство Телье покинуло Россию еще в 1910-м в связи с тем, что Жан получил наследство скончавшегося отца. А трехлетняя Сесиль стала парижанкой, мечтая о том дне, когда появится на свет ее внучка Дикси.
Мой дед Петр Васильевич скончался в 45 лет, успев выпустить множество научных трудов по истории музыки и оставить своей жене – Анне Владимировне, неплохой, кстати, музыкантше, сына Семена. Уф! Трудно уложить историю четырех поколений в десятиминутный доклад… Мужайся, Дикси, я подхожу к финалу.
Семен, ты уже знаешь, женился на Софье Гинзбург, а в 1951 году у них родился я. В тюремной больнице города Харькова. Отца моего арестовали после войны «за содействие фашистским захватчикам на оккупированных территориях». Это уже потом посмертно реабилитированный Семен Петрович был признан партизаном, выполнявшим ответственное задание… Его расстреляли за три месяца до моего рождения… Мама, арестованная вместе с мужем, продержалась после его гибели и моего рождения недолго. В 25 лет она умерла от туберкулеза.
С шестимесячного возраста я рос на руках Анны Владимировны, помешанной на желании воплотить в тщедушном, болезненном внуке все нереализованные мечты нашей загубленной генеалогической ветви: вырастить достойного человека и выдающегося музыканта… Видишь, какой груз я тяну с самого рождения – ну просто обречен стать великим… Ан нет, Дикси! Это, наверно, у вас можно позволить себе роскошь остаться честным и «сделать карьеру». Я бредил музыкой, но стал «диссидентом». Просто иного выбора у меня не было… Мы выпустили самодельную газету, в которой выражали протест по поводу цензуры и «железного занавеса». Ох и поднялся же шум! Я вылетел как миленький из святилища музыкального искусства и таскал клеймо «инакомыслящего врага народа» еще очень долго – до седых кудрей. Да ладно, все в прошлом. Теперь я хожу в гражданских героях и признан как музыкант… Только об этом после… Ладно? – Он поморщился, как от зубной боли.
– А почему мы никогда не знали друг о друге?
– Я-то слышал от бабушки много разных историй про тетю Клаву, в основном о ее фантастическом замужестве. Только это было для меня как-то очень далеко – в другой жизни. Как и живущая в Париже тетя Сесиль, порвавшая родственные связи с семейством из-за погибшего дяди Алексея, брошенного женой в революционной России, а также двоюродного брата Семена, оказавшегося врагом народа в той же стране… Да как они могли разобраться во всем этом!.. Дети баронов Штоффенов погибают от рук фашистов, а коммунист Семен Петрович Бережковский – гитлеровский шпион… Я ведь и фамилию ношу бабушкину – Артемьев. Вроде отрекся от родителей. В шестимесячном возрасте…
– Боже, как же у вас тут все сложно!.. Сплошные исторические аномалии… А ведь не случись этих передряг, возможно, мы бы с тобой, дорогой «дядюшка», играли бы на семейных праздниках в прятки или дрались из-за рождественских подарков!
– Э, нет! Предупреждаю: я всегда оберегал бы и защищал тебя. Просто потому, что старше и всю детскую жизнь был влюблен в Мальвину. Это кукла с голубыми волосами из очень популярной у нас сказки. Я ее представлял и даже рисовал – огромные голубые глаза, а рядом себя – с длинным носом. Буратино… Ты ведь была в детстве куклой, Дикси?
– Да. Конфетным ребенком, как у нас говорят. И теперь понимаю, почему в пику моему отцу бабушка иногда звала меня Дашей. Ей хотелось зацепиться за что-то русское. И она предлагала совсем иное имя, когда я родилась.
– Дарья. Действительно красивое имя, и тебе подходит. Как, впрочем, наверно, и с десяток других. – Майкл посмотрел на меня внимательно, словно прикидывая новые имена.
– Только сейчас я мечтаю совсем о другом… – Я загадочно улыбнулась, значительно посмотрев ему в глаза (как учил Сол), и даже положила руку на плечо, которое вздрогнуло и тут же отстранилось от меня, как от ожога.
– Майкл, у тебя не остались еще крекеры и шпроты? В самолете у меня не было аппетита. Волновалась перед встречей с российской столицей и теперь умираю от голода.
– Не каждый день шпроты, голубушка. Это деликатес. Вот, кажется, «горбуша в собственном соку» и полбуханки бородинского хлеба. Почти не заплесневел. – Он принес из кухни баночку консервов и кусок очень темного хлеба с зеленоватыми пятнами по углам.
– Выглядит невероятно аппетитно, – сказала я, пожалев о своей просьбе.
– У вас же обожают сыр «Рокфор» и «Камамбер». И у нас тоже любят. И хлеб по тому же рецепту.
Хлеб оказался действительно вкусным, а кофе Майкл сварил отличный, подав к нему полную вазочку варенья.
– Доедай, пока я соберу все необходимое. – Он удалился в соседние апартаменты.
Я грустно, с ощущением неловкости рассматривала комнату: бумажные обои в крупных букетах, хрустальные вазочки в серванте, подсвечник, сделанный из деревянного корня. Мирно тикали круглые часы на полке, прижавшись к каталогу выставки «Москва – Париж», по бежевому вытертому паласу деловито проследовали от двери к роялю два разномастных таракана – черный и рыжий. Нотные альбомы растрепаны, а корешки книг, составлявших собрания сочинений, основательно захватаны. Их не берегли – ими пользовались, обогащая свой внутренний мир.
Вот здесь они живут, любят друг друга, рожают детей, принимают гостей, празднуют. Сюда он спешит после своих концертов и называет это место «домом», скучая о нем на чужбине…
– Ну что, в путь? Тебе ничего не надо достать из вещей? Чемоданы остались в багажнике. В гостиницу заедем на обратном пути. – Майкл щеголял все в тех же джинсах и прихватил купленную в Вене спортивную сумку.
– Ого! Ты что, собираешься расплачиваться наличными с кладбищенской администрацией? – покосилась я на разбухшую сумку.
– Не проведешь. Я знаю, что чек, оставленный Клавдией на оплату содержания могил, у тебя. Меня заверили, что сумеют обналичить его через Госбанк.
…До кладбища ехали довольно долго. По дороге я успела убедиться, что Москва – «город контрастов», где попадаются очень красивые районы и отдельные здания, соседствующие с какими-то заборами, фабриками, тюрьмами. И все очень грязно, неухожено. Будто хозяева сбежали давным-давно, предоставив власть нерадивой прислуге.
Мы остановились. Слева – ворота в кладбищенской стене, справа – деревянный сарай, торгующий цветами, а за ним клиника для рождения детей.
– Самый краткий путь от начала до конца, – кивнул Майкл на узенькую улочку, разделяющую роддом и кладбище. – Пойдем быстрее, пока контора не закрылась. Хорошо бы разделаться с формальными процедурами.
Мы вошли в облупленный розовый домик в виде склепа, в котором расположилась местная дирекция. Майкл подергал двери в закрытые комнаты, потом куда-то исчез и вернулся минут через десять с растерянным лицом.
– Я же договорился с директрисой, что мы прибудем завтра. Сегодня на месте только бухгалтер.
– Он-то нам и нужен.
Как раз в этот момент из-за обитой черным дерматином двери появился толстяк, придерживая поднятыми бровями словно приклеившиеся ко лбу очки. Увидев меня, он сразу начал улыбаться. Очки упали на переносицу. Толстяк, тоже, кстати, в джинсах и пестром свитере, пригласил нас к себе и предложил присесть. Майкл поработал переводчиком, в результате чего мой чек был вручен бухгалтеру, официально зарегистрирован в каком-то гроссбухе, и мы получили квитанцию о внесении денежного вклада. Она-то и должна была убедить господина Зипуша в том, что воля покойной выполнена.
Затем мы двинулись в глубь густо заросшего деревьями кладбища. Здесь так же, как и в Москве, абсолютно невозможно было сориентироваться ни географически, ни эстетически. Старинные надгробия соседствовали с новыми, ухоженные – с разрушенными, кресты – со звездами, а рядом с мраморными урнами в руках коленопреклоненного ангела стояли консервные банки с увядшими букетиками и старые веники.
– Цветы не купили. Здесь можно заказать венок? – спохватилась я. – К тому же надо залезть в мой чемодан.
Мы вернулись к цветочному магазинчику, не порадовавшему нас выбором. Венки, сплетенные из пластиковых выкрашенных в зеленый цвет листьев, были утыканы яркими бумажными цветами. Я жалобно посмотрела на Майкла.
– Пойдем, я заметил бабку у входа. Они торгуют и для посетителей роддома, и для кладбища. Смотри, прекрасные цветы!
У старушки, присевшей на ящик, торчал из клетчатой сумки целый ворох полевых васильков. Она явно оживилась, заметив нашу заинтересованность, и встряхнула букетик, что-то затараторив по-русски.
– Говорит, сегодня утром собирала. Берем?
– Все. – Я ткнула пальцем в сумку бабули, и она достала еще два перевязанных ниткой пучка на выбор.
– Все, все! – круглым жестом показала я и полезла за деньгами.
– Дикси, это очень дешево, а свои франки тебе придется поменять в отеле. Они здесь не пойдут.
Он протянул старухе купюру в обмен на огромную охапку чудесных, полем и летним днем пахнущих цветов. Я погрузила лицо в букет. Старушка закивала и заулыбалась беззубым ртом, шамкая непонятные слова.
– Она говорит, что тебе только в васильках и жить – настоящая деревенская красавица.
Пока мы разбирались в происхождении русского, английского и французского названия этих цветов, Майкл вывел меня к высокому обелиску из черного мрамора с выбитой пространной надписью. Земля за чугунной витой оградой с морскими якорями в центральных овалах была посыпана светлым песком, в кольце для букета красовались две свежие розы.
– «Исторический памятник… охраняется государством», – указал Майкл на табличку. – Вообще-то вчера здесь было несколько меньше признаков государственной заботы. Директриса постаралась. Слава Богу, спасибо всем, кто старается, по душе или в корысти, по страху или доброй воле… Спите спокойно, Арсений Семенович. Возможно, любимое вами Отечество все же выживет. А сейчас ваша неведомая прапраправнучка возложит цветы, а праправнук сыграет вам, как может.








