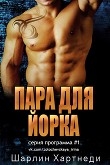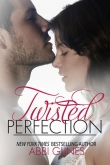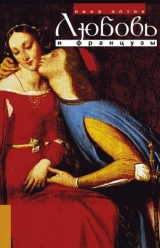
Текст книги "Любовь и французы"
Автор книги: Нина Эптон
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 32 страниц)
Глава 5. Дворяне и их бастарды
У сельских дворян в то время не было тяги к придворной жизни, которой суждено было появиться в следующем веке, и большинство из них состояли с крестьянами в приятельских отношениях. Были они, как нам представляется, людьми горластыми, веселыми и любили женщин. Из-за этого у них временами случались неприятности с законом. В Аженэ Луи де Перрекар, сеньор де Монтастрюк, «за обладание и сладострастное насилие над Гильометтой Бартольмен» был приговорен к смертной казни с конфискацией имущества, несмотря на то что он, прожив с девушкой три месяца, выдал ее замуж, дабы «уберечь от вступления на греховный путь». Этот сеньор, по-ви-димому, нажил себе среди местных жителей много врагов, однако в тогдашних прошениях о помиловании можно найти множество подобного рода сведений о сельских сеньорах. В 1541 году фермер по имени Лепаж пожаловался губернатору Мондидье, что Жак де Байо, сеньор де Сен-Мартен, изнасиловал его жену. После расследования Жак де Байо и его отец оказались за решеткой. Другой сеньор – Бертран де Пуальвери – увез к себе в замок местную девушку «с целью плотского сношения» и был за это казнен по приговору парламента Бордо.
Как и в средние века, внебрачные отпрыски росли бок о бок с законными наследниками, и никто ничего странного в этом не находил. Один сеньор, у которого жена и любовница разрешились от бремени одновременно, на два года отослал обоих детей к кормилице. Когда дети вернулись, жена жаловалась, что не может сказать, который же из них ее. «Знайте лишь,– отвечал ее супруг,– что один из них – ваш сын, а другой – его брат, сын вашего мужа. Если бы я не опасался, что вы с одним станете обращаться, как мать, а с другим – как мачеха, я давно бы сказал вам, кто из них кто». Должно быть, такая неопределенность была мучительна для жены, но, разумеется, для благополучия детей это решение было наилучшим.
Сеньор де Гомбервиль делил свое поместье Месниль-о-Валь с побочными сыном и дочерью своего отца и был в самых дружеских отношениях и с ними, и с внебрачными детьми своего дяди. Этот достойный дворянин и сам имел двух дочерей, рожденных вне брака, и принимал в их судьбе живейшее участие.
Это легкомыслие можно объяснить, по крайней мере частично, господствовавшими тогда теориями но поводу внебрачных детей. Считалось, что они немного превосходят обычных. Брантом писал: «Эти импровизированные дети, которым тайком дали жизнь, намного более доблестны, нежели те, кого произвели на свет скучно, через силу и от нечего делать», а Буше полагал, что бастарды умнее, чем законные дети, так как их зачинают во время жарких любовных схваток, когда женское семя хорошо перемешивается с мужским. «Бастарды всегда появляются на свет от семени горячего и сухого,– объяснял он,– а это способствует храбрости и уму».
Глава 6. Магия, ухаживание и деревенские свадьбы
Несмотря на то что духовенство начало бороться с некоторыми суевериями, многие сельские священники были столь же суеверны, как и их прихожане{88}, и изобретали свои собственные средства для разрушения колдовских чар. Свадьбы (и не только деревенские) часто справлялись ночью, когда, как полагали, слабее всего действуют наложенные завистливыми соседями заклятия. Также в большом ходу было «завязывание шнурков» с целью помешать браку свершиться. В 1591 году Фреми де Куайе был подвергнут пытке, оштрафован на двадцать луидоров и изгнан за то, что «завязывал шнурки, чтобы помешать производить потомство не только молодым мужчинам, но и псам, котам и прочей домашней живности».
Излюбленный способ противодействия колдовству такого рода, который часто отстаивали деревенские священники, состоял в том, что новоиспеченный муж должен был помочиться сквозь обручальное кольцо. До девятнадцатого века этот акробатический трюк был в большой моде. Немногие просвещенные умы, вроде Гийома Буше, сознавали, что одного лишь страха перед колдовством вполне достаточно, чтобы жених в брачную ночь «осрамился», но все дело при этом только в воображении, однако такая разумная теория была слишком прогрессивна для той суеверной эпохи, в какую они жили.
Вступать в брак в мае по-прежнему считалось дурной приметой, но в этом месяце существовал очаровательный обычай ухаживания, особенно в районе Пюизэ. Этот обычай, называвшийся la chalande (старофранцузское слово, означавшее «любовник» или «возлюбленный»), сохранялся, по утверждению ван Геннепа, примерно до 1830 года и принимал форму песенного диалога между страдающими от безнадежной любви пастухами и их подружками, чьи фермы обычно находились поблизости. Пастух влезал на самую верхушку дерева и принимался петь, высовываясь из листвы в конце каждого куплета или строфы. Пастушка, заслышав голос своего chalande, влезала на свое дерево, чтобы ему ответить. Несколько пар могли перекликаться так на закате, укрывшись среди цветущих ветвей, их жалобные голоса разносились на многие мили, и нельзя было вообразить себе ничего более милого и более похожего на пение птиц.
Не все крестьянские обычаи были столь очаровательны. Популярный aillade[101]101
соус, заправка для салата с чесноком
[Закрыть], доживший до двадцатого столетия и описанный мной в Долине Пирен, имел явно раблезианский характер: «После свадебного пиршества жених и невеста скрываются. Музыка играет все быстрее. Гармонист сидит в расстегнутой рубахе, и крупные капли пота блестят на его волосатой груди. (В эпоху Ренессанса играли на лютнях и скрипках.) “Они сбежали, они сбежали! Пора готовить ailladel” – орут самые внимательные из гостей. Все, испуская восторженные вопли, кидаются на кухню, чтобы помешать догорающие угли в камине. Ставят кипятить воду и, как только на ее поверхности появляются первые пузырьки, засыпают в нее пригоршни чеснока, соли и перца, за ними следуют самые зверские ингредиенты, до каких только могут додуматься парни и девушки: зола, сажа, даже паутина. Когда каждый гость добавит в aillade щепотку-другую своей излюбленной «пряности», ужасное варево объявляется готовым, и все пускаются на поиски новобрачных. Ищут долго-долго – на чердаке, в амбаре, в доме у соседей. Умнее всего поступают те пары, которые потихоньку удаляются в приготовленную для них спальню и, забаррикадировав дверь достаточно неплотно, чтобы она открылась от малейшего толчка, тихо забираются в большую двуспальную кровать, прислушиваясь к топоту гостей, бегающих по лестнице вверх и вниз, пока те, дико завывая от радости, наконец не откроют их убежища. Обычай предписывает жениху и невесте при виде aillade изображать удивление; когда им подносят полную миску этого зелья, они должны бодро улыбаться, выпить хотя бы один большой глоток и провозгласить, что тошнотворная бурда удалась лучше некуда. Невеста краснеет и прячет сияющее лицо меж простыней, пока хохочущая, разнузданная толпа не удаляется, затянув какую-нибудь непристойную песню вроде «Ya pas uno pallio al leit...» («Нет соломинки в этом тюфяке, которая не будет плясать, не будет плясать,– нет соломинки в тюфяке, которая не будет плясать всю эту ночь до зари»).
Другой нелепый обычай того времени, бытовавший не только в деревне, позволял гостям всю свадебную ночь подглядывать в окна и подслушивать под дверями спальни молодых. Иногда присутствие посторонних глаз и ушей так стесняло жениха и невесту, что они оказывались не в силах совершить соитие. Друзья жениха, несшие караул у окон и дверей, бурно аплодировали каждому скрипу кровати или вскрику невесты. Клеман Маро упоминает об этом смущающем обычае в своей Chant nuptial[102]102
«Свадебная песнь»
[Закрыть]; Брантом, разумеется, также не обходит его вниманием, принимаясь затем рассуждать об изобретенных лекарями способах скрыть прискорбный факт потери невестой невинности до свадьбы.
Глава 7. Тогдашние теории любви и секса
Маргарита Наваррская, как мы видели, развивала платонические теории любви, в то время как теоретики реалистической школы, такие как Буато, утверждали, что любовь суть патология, «душевная болезнь, характеризующаяся необычными проявлениями и истощающая кладовые жизненных сил. Пораженные этим недугом теряют свою индивидуальность, стенают, занимаются самоуничижением, их можно узнать по тому, как они бормочут слова вроде «коралл», «алебастр», «розы», «лилии»... Никто не знает, чем объяснить возникновение этой болезни; кто приписывает ее магнетизму, кто —микробам, кто – воздействию небесных светил...»
Писатели умеренных взглядов, подобно Этьену Паскье в его Colloques d’amour[103]103
«Беседы о любви»
[Закрыть], полагали, что «любовь несовершенна при отсутствии соединения тела и души», а Монтень добавлял: «Можем ли мы умолчать о том, что, пока мы томимся в земной тюрьме, в нас нет ничего, что было бы чисто духовным или только телесным?»
Эроэ в своей Parfaite Amie[104]104
«Прекрасная возлюбленная»
[Закрыть] излагал любопытную теорию гармонии, предопределенной Всевышним, которая соединяет те человеческие существа, чья чувственная привязанность служит для выполнения божественного плана на земле, а Агриппа, чей ум был наполнен того же рода платоническими и эзотерическими идеями, верил, что взгляды, подобно огню, способны проникать от глаз до сердца и обмен беглыми взглядами представляет собой род духовного соития.
Что касается Гийома Буше, то он утверждал, что «женщина есть величайший дар Господа мужчине, тем более что ее добродетель и сила позволяют душе достичь созерцательного состояния, которое со временем усиливает влечение к божественному. Благодаря женщине мужчина забывает свое я. Женщина ниспослана мужчине, чтобы испытать его и показать, что ждет его в небесной обители».
Однако большинство авторов-мужчин были более склонны полагать, что женщины заставляют человека забывать о благородных целях, и их должно признавать простой биологической необходимостью. «Когда я говорю о женщинах,– писал Рабле,– я подразумеваю пол столь слабый, столь изменчивый, который так легко растрогать, столь непостоянный, столь несовершенный...»
Несколько замысловатых псевдонаучных теорий секса выдвинул Гийом Буше в своих так называемых Послеобеденных спорах, или Siirues. Он объяснял, что у женщин не может быть такого глубокого ума, как у мужчин, что вызвано влагой в их теле, из-за которой страдает женский пол. (Это якобы частично вызвано скоплением менструальной крови в их внутренних органах.) Разница между полами становится еще более заметной при сравнении форм головы мужчины и женщины. У мужчин на голове видны швы, соединяющие различные части черепа, в их организме больше тепла, которое вызывает расширение этих швов. У женщин эти соединения, наоборот, более плотные, что препятствует испарению гуморов. Здесь кроется причина женского сумасбродства, упрямства и частых головных болей. Вследствие этого нет ничего удивительного в том, что мужья редко находят общий язык со своими женами. Ведь их головы абсолютно не похожи друг на друга.
Буше не переставал удивлять читателей, заявляя, что супружеская пара зачастую оказывается бездетной по вине мужа. «Бесплодие,– писал он,– часто бывает вызвано избытком жира, из-за которого у тела не остается сил на производство семени». Соль, считал Буше, разжигает желание и повышает плодовитость, отсюда и слово «похотливость»{89}. Он слышал о нескольких случаях, когда девушки меняли пол, превращаясь в мужчин (но о превращениях мужчины в женщину ему, по-видимому, слышать не доводилось). Буше объясняет этот феномен, указывая, что природа всегда стремится к совершенству, и поэтому половые органы женщины – такие же, как у мужчины, только обращенные внутрь – могут вырасти наружу, приложив значительные усилия. Принимая во внимание научную отсталость того времени, Буше можно назвать разумным и наблюдательным человеком. Он резко осуждал браки, заключавшиеся между детьми, и считал, что муж должен быть не более чем на десять лет старше жены, так как «слишком большая разница в возрасте и в образе жизни препятствует дружбе и разрушает супружеские отношения». Он также замечал, что женщины получают меньше удовольствия от занятия любовью, чем мужчины, но наслаждаются дольше, поскольку мужчины грубы и быстрее достигают пика наслаждения.
Глава 8. Лю6овь и звезды
Звезды предположительно играли в любовной жизни важную роль, и язык ухаживания изобиловал таинственными астрологическими намеками. Модные романы, которые читали придворные, очень подробно описывали технику составления гороскопов. Например, Жерар д’Эфрат рассказывал, как его герой, философ Альдено – Король Темного Острова,– по каждому серьезному поводу советовался со звездами: «Чтобы наблюдать за движением планет, ему приходилось подниматься на башню своей крепости и проводить там половину ночи. Он замечал противостояние Венеры Марсу, квадратуру Юпитера, соединение Марса и Сатурна и заход Солнца после Луны в знаке Скорпиона, что предвещало христианскому миру ужасные несчастья, и тому подобное». Его читателям был, несомненно, знаком и понятен этот язык.
Жизнерадостный ученый-монах Франсуа Рабле в Гаргантюа и Пантагрюэле{90} от души посмеялся над модой на предсказания судьбы и над тем, как его современники искали скрытый смысл в малопонятном языке, усвоенном важничавшими поэтами. Таинственная поэма-загадка найдена во время закладки фундамента знаменитого Телемского аббатства. Предлагаются различные ее толкования, затем монах восклицает: «Это стиль пророка Мерлина. Вы можете придавать этому все значения, серьезные или аллегорические, какие вам понравятся. Что до меня, то я здесь ничего не вижу, кроме изложенного странным языком описания игры в мяч».
Глава, в которой описано, как Панург, слуга Пантагрюэля, намеревается жениться, представляет собой пародийное обозрение всех принятых тогда способов предсказания судьбы. Панург твердо решил получить совет оракула по поводу того, должен ли он связывать себя брачным обетом? Сперва он гадает на Вергилии: бросает кости и в соответствии с числом выпавших очков находит нужный стих, который гласит: «Страх вселяет дрожь в его члены, и кровь стынет в его жилах».– «Это значит,– говорит Пантагрюэль,– что жена будет лупить тебя и по брюху, и по спине».– «Напротив,– говорит Панург,– предсказание относится ко мне и означает, что я буду бить ее, как тигр, если она меня рассердит».
Поскольку они не пришли к единому мнению относительно того, как следует толковать стих Вергилия, Пантагрюэль предлагает попробовать другой способ предсказания судьбы. «Какой?» – спрашивает Панург. «Гадание по снам,– отвечает Пантагрюэль,– старый, добрый, верный обычай». Он принимается серьезно объяснять, как люди додумались до этого: «Вам, наверное, приходилось видеть, что, когда дети вымыты, накормлены и напоены, они спят крепким сном, и кормилицы со спокойной совестью идут веселиться: они вольны делать все что им заблагорассудится, ибо их присутствие у колыбели в это время не нужно. Так же точно, пока наше тело спит и до пробуждения ни в чем нужды не испытывает, а пищеварение всюду приостановлено, душа наша преисполняется веселия и устремляется к своей отчизне, то есть – на небо. Там душа вновь обретает отличительный знак своего первоначального божественного происхождения и, приобщившись к созерцанию бесконечной духовной сферы, центр которой находится в любой точке вселенной, а окружность нигде (согласно учению Гермеса Трисмегиста, это и есть Бог),– сферы, где ничто не случается, ничто не проходит, ничто не гибнет, где все времена суть настоящие, отмечает не только те события, которые уже произошли в дольнем мире, но и события грядущие, и, принеся о них весть своему телу и через посредство чувств и телесных органов поведав о них тем, к кому она благосклонна, душа становится вещей и пророческой. Правда, весть, которую она приносит, не полностью совпадает с тем, что ей довелось видеть, и объясняется это несовершенством и хрупкостью телесных чувств: так луна, заимствуя свет у солнца, отдает его нам не таким ярким, чистым, сильным и ослепительным, каким она его получила...»[105]105
Перевод Н. Любимова.
[Закрыть] Убежденный Панург объявляет, что готов проделать этот эксперимент. Однако его беспокоит одна деталь. «Каким должен быть мой сегодняшний ужин – легким или сытным?» – «Лучше не ужинать вообще»,– отвечает Пантагрюэль. По этому поводу разгорается жаркая дискуссия, но в конце концов останавливаются на скудном фруктовом ужине из слив, груш и вишни. «Условия для меня довольно тяжелы,– замечает Панург.– Однако я настаиваю на том, чтобы мы позавтракали рано утром, сразу же после того, как покончим со сновидениями».– «Не следует ли,– спрашивает он Пантагрюэля немного позже,– положить под подушку несколько лавровых веточек?» – «В этом сейчас нет нужды. Это суеверие. О левом плече крокодила и хамелеона я бы сказал то же самое, если бы не мое уважение к старику Демокриту...»
Толкования снов оказываются не менее противоречивыми, поэтому герои решают наведаться к Сивилле – «старухе... отвратной на вид ... которая варила суп из капустных листьев, старой мозговой кости и желтой шкурки от свиной грудинки... Она отхлебнула из бутыли добрый глоток, вынула из бараньего кошелька три монеты, положила их в три ореховые скорлупы и бросила на дно горшка с перьями». Сложный магический обряд описан со множеством забавных подробностей, но он, так же как и другие способы предсказания, не позволяет сделать окончательный вывод. Больше всего Панург боится, как бы жена, в случае если он обзаведется таковой, не наставила ему рога, и, конечно же, все, кто дает ему советы, убеждают его, что рога и брак – понятия неразделимые. Печально известные своей неверностью ренессансные мужья были, похоже, одержимы этим страхом, который был легко объясним.
Другой реалист, Ноэль дю Фаюль, в своих очаровательных Propus rustiques[106]106
«Деревенские разговоры»
[Закрыть] смеется над крестьянином, который не прикоснется к плугу, не заглянув прежде в Эфемериды, чтобы узнать, что говорят звезды и «это старое пугало Сатурн». Женщин обвиняли в суеверии начиная с тринадцатого века, однако многие мужчины, сдается мне, были не менее доверчивы. Оба пола забавлялись популярной игрой в гадание с помощью книг вроде Dodechedron а или Jardin des pensues[107]107
«Сад размышлений»
[Закрыть] либо игральных костей. Даже врачи прибегали к советам небесных светил.
Бонавантюр Деперье{91} рассказывает о парижском докторе, который под каким-то туманным предлогом, связанным с астрологией, занимался любовью со своей женой только в дождливые ночи. В конце концов его выведенная из терпения супруга велела служанкам лить на крышу воду из лейки, так что для мужа каждую ночь шел дождь. Такая жизнь вскоре истощила силы доктора, и он умер. Красавица вдова получала множество предложений руки и сердца, и первые вопросы, которые она задавала мужчинам, были: «Не доктор ли вы?» и «Верите ли вы в астрологию?» Все претенденты, кроме одного, думая этим угодить ей, отвечали на второй вопрос утвердительно, но в конце концов женщина вышла замуж за человека, у которого хватило смелости и уверенности в себе, чтобы ответить: «Нет!»
Глава 9. Колдовство и проcтитуция
В ортодоксальном христианстве не было места массовому необузданному разврату, которому потакали языческие религии, но неукрощенные страсти по-прежнему кипели в душах людей, ища любую возможность прорваться наружу. Иногда в качестве предлога для этого использовалась вера: подсчитано, что после «великой чумы» во Франции было около восьмисот тысяч флагеллантов{92}. Когда же нельзя было долее призывать Всевышнего и эти бессознательные порывы стали ассоциироваться с чувством вины, более убедительно звучали призывы, обращенные к Его темному отражению – Люциферу. Это привело к стремительному развитию чародейства. Труазешель, приговоренный в 1571 году к сожжению, но помилованный после того, как выдал своих сообщников, сказал королю, что колдунов во Франции в то время было, вероятно, более трехсот тысяч.
Легальная проституция в 1560 году была запрещена – причиной тому стало как влияние Реформации, так и общее укрепление общественной нравственности, вызванное страхом перед венерическими заболеваниями, которые в то столетие (тогда впервые прозвучало слово «сифилис») распространялись, как лесной пожар. (Сифилисом звали пастуха, бывшего персонажем посвященной кардиналу Бинбо{93} поэмы Фраскатора.)
Если женщине в пылу гнева случалось обозвать соседку потаскухой, она была обязана заплатить штраф и, участвуя в позорной процессии, нести камень, именовавшийся «скандальным камнем»; оскорбленная ею женщина шла позади с палкой или острым предметом в руках и то и дело колола жертву в то место, «где спина утрачивает свое название».
Позорное наказание, предназначенное для проституток в провинции Тулузы, еще практиковалось на протяжении значительной части восемнадцатого столетия.{94} Называлось оно accabussade – проститутку вели в ратушу, где ей связывали руки за спиной, на платье пришпиливали позорный знак, а на голову надевали шляпу, похожую на сахарную голову. Оттуда процессия, сопровождаемая зубоскалившими горожанами, направлялась к берегу Гаронны. Бедняжку везли на лодке к скале, находившейся на середине реки. Там ее раздевали и сажали в специально изготовленную для этой цели железную клетку, которую трижды погружали в воду – с таким расчетом, чтобы не утопить женщину. Наконец ее, полу-утопленную, волокли в местную тюрьму, где она должна была провести остаток дней. Более чем вероятно, что многие из тех, кто пользовался услугами несчастной женщины, были в толпе, жестоко издевавшейся над ней, и что орали они громче, нежели их добродетельные соседи. Мужчины, похоже, до сих пор никак не могут взять в толк, что, не будь у проституток покупателей на их «товар», они бы своим ремеслом не занимались.
Любопытный обычай, пришедший, возможно, из Испании (или Италии), соблюдался раскаявшимися распутниками и набожными католиками, искавшими жен среди проституток с целью спасения заблудших душ. Браки заключались с теми девицами, которые полностью излечились от венерических болезней, они должны были иметь разрешение Главного госпиталя, а венчание происходило в примыкавшей к госпиталю часовне.
Даже в те далекие времена ушлые парижские девицы и «защищавшие» их сводники время от времени обчищали доверчивых иностранцев. Шарль Сорель в своем сатирическом романе Фран-сион рассказывает о злоключениях молодого шотландского лорда, приехавшего в шестнадцатом веке в Париж в надежде свести знакомство с прекрасными француженками, о которых ему так много рассказывали. Искать девушку на улице было неприлично, а знакомых у юного лорда не было. Наконец, лорд поделился своей незадачей с хозяином гостиницы. «Милорд, вам давно следовало сказать мне об этом. Позвольте мне вам услужить»,– сказал трактирщик и немедленно познакомил своего жильца с печально известным сводником, которого рекомендовал как человека из знатной семьи и кузена чрезвычайно привлекательной женщины. Она была difficile[108]108
здесь – разборчива (фр.)
[Закрыть], но время от времени удостаивала своей благосклонности титулованных господ. В данный момент ее любовником был ревнивец-маркиз, почти не выпускавший ее из дома. Юного шотландца привлек этот запретный плод. «Как я могу увидеться с ней?» – спросил он сводника. «Моя кузина питает слабость к бриллиантам – если вы будете так любезны, что сперва передадите ей небольшой подарок через меня, то, я уверен, это смягчит ее сердце!» На другой же день шотландец купил бриллиантовое украшение для волос, а вечером сводник дал ему возможность пройти под окном своей кузины и мельком, когда она показалась из-за занавесок, взглянуть на ее прелести. С такого расстояния, да к тому же в сумерках, дама выглядела весьма привлекательно и удостоила шотландца легкого, но грациозного кивка. Понадобилось еще несколько дорогих подарков, прежде чем было устроено настоящее свидание. Лорд разоделся в пух и прах; наибольшее восхищение вызывали его золотые галуны, поскольку во Франции тогда действовали законы против роскоши и французы не могли носить одежду с золотой или серебряной отделкой.
«Красавица», против его ожидания, оказалась не такой свежей и красивой, но после обильного ужина, запитого большим количеством вина, ее «чары» начали оказывать на него свое действие. Его познания во французском не были блестящими, но их оказалось достаточно, чтобы осведомиться о местонахождении ее спальни. «Сейчас, сейчас»,– говорила «красавица», снова наполняя бокал. Наконец, видя, что он теряет терпение и тянуть время больше нельзя, она повела его наверх. Француженкам – как лорд скоро начал понимать – требуется очень много времени, чтобы раздеться. В комнате было холодно, и молодой любовник нырнул под одеяла. Не прошло и двух минут, как внизу на улице послышались громкие голоса, а затем в парадную дверь постучали.
«Это, должно быть, лакеи маркиза – значит, он направляется сюда! Прячьтесь, прячьтесь скорее за полог!» —в панике вскричала «красавица». «Он уб-би-вв-ать м-ме-ня?» – ища свои штаны, спросил шотландец, у которого зуб на зуб не попадал. «Нет, если вы не попадетесь ему на глаза... Не беспокойтесь о вашей одежде, я ее спрячу»,– ответила «красавица», заталкивая лорда в шкаф; проделав это, она надела сорочку и бросилась в кровать. Тяжелые шаги на лестнице – властный стук в дверь спальни – и грубый голос спрашивает: «Мадемуазель, вы дома? Господин маркиз желает видеть вас». Прежде чем мадемуазель успела ответить, дверь распахнулась, и вразвалку вошли трое лакеев. «Я не могу сегодня увидеться с маркизом – скажите ему, что я больна – меня лихорадит,– возможно, это что-то заразное. Прошу вас, не оставайтесь здесь, чтобы не подцепить эту гадость. Доктор сказал, что это может быть опасно»,– слабым голосом проговорила мадемуазель.
«Ох,– вздохнула она, когда лакеи удалились восвояси, а перепуганный лорд снова забрался в постель.– Я должна быть осторожна, маркиз бывает таким вспыльчивым!» – «Вы совершенно уверены, что он не придет сюда, несмотря на то, что вы сказали лакеям?» – спросил шотландец на ломаном французском языке. «Нет, нет, он никогда не приходит, когда я больна,– обнадежила его женщина,– он мне верит».
Все эти страхи и волнения заметно поумерили любовный пыл шотландца, и прошло некоторое время, прежде чем он начал оттаивать. Не успел он почувствовать себя лучше, как мадемуазель, приподнявшись на постели, издала пронзительный вопль. «Что случилось на этот раз?» – спросил молодой человек. «Разве вы не слышите? Слушайте – я узнаю эти шаги – это полиция!»
«Полиция?» – «Да, полиция – если они нас найдут, то мы окажемся за решеткой». Снова шаги и стук в парадную дверь. «Мне спрятаться? Есть ли другие выходы из дома?» – допытывался шотландец, излечившийся от амурных наклонностей, по крайней мере, на эту ночь. «Да, есть черный ход, давайте скорее, я вам покажу».– «Но моя одежда!» – «Не беспокойтесь о вашем платье, вот плащ, в нем вы привлечете меньше внимания». Слишком поздно! Внизу у лестницы лорда поджидал здоровенный полицейский – тот, кому слишком хорошо была известна планировка дома. «Что вы делаете здесь в этот поздний час? Где ваши бумаги?» Недоученный французский язык шотландца превратился в нечто совершенно бессвязное. Но – какая удача! – здесь был кузен мадемуазель! Лорд даже не задумался о том, как тот мог оказаться поблизости; все, что он знал, это то, что перед ним человек, способный прийти ему на выручку. Что тот и сделал. Отвел полицейских в сторонку, переговорил с ними, сунул им несколько монет... «Пойдемте со мной, милорд, я провожу вас до гостиницы. Эти господа пообещали, что до утра вас не побеспокоят. Утром они вызовут вас, чтобы выяснить некоторые подробности... вы понимаете, это их долг». Когда они вышли на улицу, сводник шепнул на ухо шотландцу: «На вашем месте я не стал бы дожидаться утра. У вас есть время, чтобы уложить вещи и смотаться. Могут быть неприятности». Лорд с ним от души согласился. Он оставил свой лучший наряд и истратил немало денег,– но это было все-таки лучше, нежели публичный скандал, возможно даже дипломатический инцидент. Шотландец тепло поблагодарил своего приятеля и еще до рассвета покинул столицу Франции. Сводник и его «полицейские» долго смеялись над этим приключением, а мадемуазель хвалила их за то, что они так точно все рассчитали.
В 1581 году вышел в свет оригинальный научный труд Le Traitu de polygamic sacrue[109]109
«Трактат о священной полигамии»
[Закрыть], автор которого, предположительно, был протестантом. До этого никогда ничего подобного не публиковалось. Священная полигамия! Это был ядовитый и математически рассчитанный выпад против служителей церкви, от кардиналов до приходских священников, вышедший из-под пера одержимого цифрами автора. Этот труд – музейная редкость, антикварная вещь для коллекционеров. Трактат нашпигован статистическими таблицами. В них приводятся данные о числе наложниц на содержании у священнослужителей в главных французских городах, расходах на их содержание, количестве рожденных ими внебрачных детей. Например, по Лиону, где, по-видимому, священная полигамия цвела пышным цветом, автор приводит такие цифры: общее число служителей церкви – 65 230 человек, у них всего 67 888 сожительниц и 59 138 незаконных детей; в городе проживают 8839 сводней и 2083 содомита. Он утверждает, что у каждого кардинала в королевстве как минимум шесть любовниц. В итоге, по его расчетам, выходит, что за счет церкви кормятся 5 155 102 грешника, которые тратят по 84 596 089 франков в год. Насколько я знаю, личность составителя этих необыкновенных расчетов так и не была установлена.