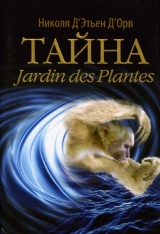
Текст книги "Тайна Jardin des Plantes"
Автор книги: Николя Д’Этьен Д’Орв
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц)
Глава 10
– За тебя, голова баранья!
У Любена были довольно варварские представления об алкогольных коктейлях и, в частности, о пропорциях: к половине стакана воды он добавлял столько же анисового ликера. Это была уже третья порция.
Когда Сильвен наконец выбрался из колодца, старик облачил его в потертый лиловый халат и угостил своим «коктейлем». Сейчас молодой мужчина снова сидел на диване, чувствуя, как сознание понемногу затуманивается. Он уже не думал о том, насколько необычна данная ситуация: древняя хижина в центре города, спуск в подземный колодец, средневековая обстановка, свободная от нынешних условностей, – все это казалось ему совершенно нормальным. Сейчас для сорбоннского профессора, уважаемого всеми своими коллегами, в том числе и старшими, не было более близкого человека, чем этот раскрасневшийся от спиртного тощий старик, который в очередной раз отхлебнул из стакана и, фыркнув, сказал:
– На самом деле, ничто не сравнится с парижскими катакомбами!
При этих словах Сильвен насторожился. В ученике немедленно проснулся ученый.
– Ты хочешь сказать карьерами? Тебе же никогда не нравилось слово «катакомбы»…
Любен удовлетворенно взглянул на гостя. Старик всегда отказывался от любых должностей, какие бы ему ни предлагали, – он желал сохранить за собой лишь пост старшего смотрителя зоопарка. Его огромные познания в истории Парижа были всего лишь личной страстью, причудой. Он ни разу в жизни не прочел ни одной лекции на эту тему где бы то ни было. Но сегодня вечером, побитый на своем же поле, он, видимо, почувствовал, что обязан исправить ошибку.
– Ты совершенно прав, – признал он, смешивая себе четвертую порцию «коктейля». – Под Парижем прорыто множество карьеров общей протяженностью около трехсот километров.
«Да, Любен, – мысленно согласился молодой профессор, почти растроганный этой переменой ролей. – Это ты мне рассказал: гипсовые карьеры на правом берегу, известняковые – на левом. Карьеры, вырытые еще во времена римской оккупации для строительства тех загадочных сооружений, обломки которых – и призраки – встречаются до сих пор…»
Дальше он уже не слушал. Словно сквозь пелену – алкоголь туманил голову – он видел перед собой древний Париж: римский форум на месте современного Пантеона, некрополя великих людей Франции; императорский театр, место которого сейчас занимает знаменитая библиотека имени Жозефа Жибера на бульваре Сен-Мишель; арены для гладиаторских боев, недалеко от своего нынешнего жилища; термы – древнеримские общественные бани, на месте которых сейчас какой-нибудь «Макдоналдс»… Одним словом, нынешний Латинский квартал не случайно получил свое название.
Париж: огромный многослойный пирог, где каждый слой – целая эпоха, целое завоевание, целый исчезнувший мир…
– Катакомбы возникли относительно недавно, – продолжал тем временем Любен, сидя на своей разобранной кровати и уже не обращая внимания, слушает его Сильвен или нет. – Несколько километров подземных карьеров на рубеже восемнадцатого и девятнадцатого веков были преобразованы в оссуарии, чтобы малость разгрузить парижские кладбища… О, это было апокалипсическое зрелище!..
«Да, в самом деле, картина была впечатляющая», – думал Сильвен, который знал эти рассказы наизусть. Целых тридцать лет, от Людовика Шестнадцатого до Наполеона, каждый день с наступлением темноты эксгумированные трупы – свежие или давно истлевшие – грузились на повозки, затянутые черными полотнищами, и в сопровождении священников, поющих погребальные псалмы, перевозились с кладбищ в подземные хранилища останков – оссуарии. Там, в этих мрачных каменных лабиринтах, скелеты постепенно рассыпались, образуя жуткие пирамиды из черепов и берцовых костей, которые стали главной достопримечательностью парижских катакомб – это слово благодаря им и появилось. Вплоть до недавних терактов толпы туристов устремлялись к подземному спуску на площади Данфер-Рошро, чтобы попасть в «королевство мертвых»…
– Шесть миллионов трупов! – продолжал Любен. – Тридцать поколений парижан, сваленных вповалку! И среди них Лафонтен, Рабле, Робеспьер, Шарль Перро, Фуке, Кольбер, Рамо…
Любен медленно вращал перед глазами свой стакан в свете масляной лампы, словно это был бриллиант.
– Может быть, как раз из-за этого у моей «настойки на костях» такой неподражаемый вкус. Концентрированный интеллект. Гений в розлив…
Юмор старика становился черным. Сильвен подумал, что надо бы идти домой – завтра лекция.
– Сегодня в твою настойку, должно быть, попал прах висельника, – сказал он, усмехнувшись. – И кажется, мы уже много выпили…
Любен в самом деле утратил свою обычную веселость.
– Сильвен, тебе уже тридцать три года, мамочка не будет тебя ругать. Да и чья бы корова мычала… Наша патронесса и сама не дура выпить!
Сильвен вздохнул. Старик был неисправим. К тому же Сильвен собирался уходить вовсе не из-за того, что боялся получить от матери выговор, – он просто устал. Да и намеки на «алкоголизм» Жервезы были ему неприятны.
– Не мешай все в одну кучу, – сказал он. – У меня завтра лекция. – И после некоторого колебания уже серьезным тоном прибавил: – И потом, нет особого повода напиваться – обезьяны сбежали из зоопарка и сейчас, может быть, разоряют мечеть…
– И что ты собираешься делать? – с иронией спросил Любен, раздраженно хмурясь. – Пойти против мамочкиного запрета и сообщить в полицию?
– Ты ведь прекрасно знаешь, что вправить ей мозги ни одному из нас не под силу, – через некоторое время добавил он презрительным и одновременно жалким тоном.
Утратив все свое прежнее добродушие, он встал и направился к Сильвену с таким видом, словно им предстояло сражаться на дуэли. Выпив восемь стаканов своего «коктейля», старик пришел в мрачное расположение духа. Еще одно зрелище, которого Сильвен не любил. И впрямь пора уходить!
– Твоя мать собирается геройствовать в одиночку? – спросил он. – Вот и пусть одна выбирается из болота! Она привыкла считать, что все остальные ни на что не годны! А когда в Ботаническом саду и впрямь будет теракт, когда эти проклятые террористы и в самом деле взорвут Галерею эволюции, вот тогда она запаникует! Тогда пусть проклинает книгу Маркомира сколько влезет – будет уже поздно!..
Любен замолчал. Вид у него был смущенный, как у человека, который сболтнул лишнее. Но если лицо старика было красным от вина и смущения, то взгляд оставался прежним – яростным и решительным. Сейчас Любен пристально смотрел на мутное окно, сквозь которое едва просачивался лунный свет. Однако Сильвен чувствовал, что к гневу старика примешивается и кое-что другое. Беспокойство. Как будто исчезновение белых обезьян и странное поведение Жервезы его не столько удивили, сколько встревожили.
– Ты, кажется, боишься, – все же рискнул произнести Сильвен.
Несмотря на всю свою интуицию, он не мог заранее угадать, как Любен отреагирует.
– Ну и что? – сказал смотритель зоопарка, на этот раз без всякого возмущения. – Страх – проявление инстинкта самосохранения, так ведь? Ты не меньше меня знаешь о животных.
После этого, уже с немалым трудом, он смешал себе новую порцию «коктейля».
«Да, но ты-то не животное… совсем наоборот!» – подумал все более заинтригованный Сильвен, а вслух сказал:
– Мама, кстати, рассказывала о покушении на тебя…
Любен опустил голову, как провинившийся школьник.
Вчера за обедом Жервеза действительно рассказала сыну о недавнем событии, которое обсуждали все сотрудники зоопарка: Любен, гроза зверей, был атакован свиньей-пекари, которая его укусила. По выражению лица старика Сильвен понял, что это правда. Старший смотритель, проработавший в зоопарке пятьдесят лет, укушен какой-то паршивой южноамериканской свиньей!.. Да, еще бы не обидно…
Глядя в сторону, Любен притворно-небрежным тоном произнес:
– Жервеза тебе рассказала о пекари, да? Ну что ж, я ведь старею – ты в курсе? И животные это чувствуют. Они понимают, что мне недолго осталось… Вот и показывают норов…
Сильвен расхохотался:
– Ну не говори глупости! Всего полчала назад ты утверждал, что никогда не болеешь и вообще в отличной форме!
– Да, и что я вас всех переживу. Твоя мать мне все время это говорит.
– Ты на нее за что-то сердишься, да?
После недолгого молчания Любен обреченно махнул рукой:
– Стар я уже – мотать нервы по пустякам… Только весь этот бардак меня бесит!..
Подобные тирады Сильвен тоже знал наизусть, поэтому, не дожидаясь окончания, спросил:
– Ты все еще думаешь, что мать хочет видеть меня наследником своих владений? Ботанического сада, я имею в виду?
Любен одним глотком опустошил свой стакан и поморщился.
– Я только думаю, – ответил он, – что твоя мать всегда держала нас на расстоянии от многих вещей… Важных вещей.
Сильвен понимал, куда старик клонит. Это была еще одна из его «вечных тем» – наиболее скрытая сторона жизни Жервезы.
– Ты имеешь в виду ее клуб? Всех этих людей, с которыми она встречается раз в месяц в «Баскском трактире»? «Общество любителей карьеров»?
Любен кивнул. Потом, слегка пригнувшись и втянув голову в плечи, прошипел тоном заправского конспиратора:
– Она ведь, по сути, ничего тебе о нем не рассказывала?
Это была правда, и втайне Сильвен был уязвлен такой скрытностью матери. Он нехотя кивнул:
– Она обещала, что когда-нибудь «представит» меня членам ОЛК, – но каждый раз, когда я ей об этом напоминаю, она меняет тему разговора.
И в самом деле, вот уже много лет Жервеза каждую неделю посещала таинственные собрания ОЛК, замаскированные под обычные дружеские встречи за обедом.
Чем же занималось это общество? Сильвену так и не удалось ничего об этом узнать.
– Только не думай, что мы строим заговоры, стремясь захватить мировое господство! – обычно отшучивалась Жервеза, когда Сильвен пытался узнать подробности. – Мы всего лишь несколько пожилых любителей парижских подземелий…
– Но все-таки, мама, – настаивал Сильвен, который и сам провел в парижских подземельях много часов, вместе с Любеном и Габриэллой. – Ты же знаешь, что это и моя страсть! Почему бы тебе хоть раз не взять меня с собой на вашу встречу? Я ведь хорошо знаком с темой – как-никак, я ее преподаю!
Но на эту просьбу всегда следовал один и тот же ответ:
– Твое время еще придет, котенок.
Больше ничего…
ОЛК. Таинственное сокращение, о котором Сильвен в конце концов перестал думать – так мы изгоняем из своих мыслей воспоминания о детских унижениях, о не самых красивых поступках… Иногда он спрашивал себя: а существует ли на самом деле это общество? Или это лишь предлог, который Жервеза использует, чтобы скрыть встречи с любовником? Но насколько он знал, у нее не было никаких романов после смерти мужа, его отца.
Нет, все же ОЛК не могло быть полной выдумкой. Любен, осушив до дна очередной стакан, теперь обвинял этот «клуб» чуть ли не во всех бедствиях планеты!
– Не удивлюсь, если окажется, что именно они украли белых обезьян, – сказал он неожиданно.
При этих словах спящий на подушке кот поднял голову и недовольно уставился на собеседников.
– О, кажется, мы разбудили спящего тигра… Характер у этого кота примерно такой же добрый, как у Жервезы…
Сильвен взглянул на старого кота с невольной неприязнью. Любен поднялся и, подойдя к коту, опустился рядом с ним на корточки. Поглаживая кота, который не сопротивлялся, лишь порой недовольно мяукал, смотритель зоопарка продолжал:
– В сущности, твоя мать и я похожи на старую семейную чету. Она тридцать пять лет работает в музее, я – пятьдесят один год в зоопарке. Хотя между нами никогда ничего такого не было, мы знаем друг друга почти так же хорошо, как муж и жена. Притом что она всегда обращалась со мной как с лакеем. – Взгляд его вспыхнул. – Тогда как без меня…
И вдруг Любен прикусил язык.
Что же он хотел сказать?
– Тогда как без тебя… что?
Погладив кота столь энергично, словно желая его расплющить, смотритель втянул голову в плечи, как черепаха, прячущаяся в свой панцирь.
– А… неважно… Это старая история…
Сильвен, уже не в силах скрывать раздражение, отреагировал абсолютно по-детски.
– Да черт возьми! – закричал он, одним прыжком вскакивая с дивана. – Ты точь-в-точь как она: вечно что-то от меня скрываешь, обращаешься со мной как с ребенком!.. Тогда как без меня ты был бы один как перст! Кто еще разговаривал бы с тобой? Кто еще навещал бы тебя? С тех пор как Габриэлла уехала, кто еще позаботился бы о тебе? С тех пор…
Сильвен остановился.
Он понял, что и сам наговорил лишнего.
Любен очень медленно поднялся, взял кота за загривок и швырнул его через всю комнату. Кот приземлился у подножия стены, успев спружинить лапами.
Глаза смотрителя зоопарка пылали от гнева. Вся его тревожная недавняя нерешительность улетучилась. Сейчас он был грозен, как один из всадников Апокалипсиса.
– Полегче, Сильвен…
Так же медленно он приблизился к молодому мужчине и, положив руку ему на лоб, слегка провел ладонью по его волосам.
– Или тебе напомнить, что именно от тебя Габриэлла уехала?
Сильвен нервно усмехнулся, пытаясь остановить непрошеные воспоминания. Любен сказал правду, но сегодняшний вечер и без того выдался достаточно тяжелым, чтобы вытерпеть еще и это. Но его уже захлестнул поток бессвязных воспоминаний. Воспоминания детства… Образы, которые он даже не мог четко идентифицировать – звуки, запахи, краски наслаивались друг на друга… Это было какое-то странное, очень сильное и очень необычное ощущение. Настолько сильное, что по всему его телу прошла судорога. Любен, словно почувствовав его состояние, неожиданно успокоился:
– Э… извини, Сильвен. Что-то я увлекся… Ты был прав: от этих подземных карьеров одно расстройство… Давай-ка лучше на боковую…
Но когда Сильвен, сбросив халат, наспех переодевался в свой костюм, старик приблизился к нему и, положив руки ему на плечи, серьезным тоном произнес:
– Все-таки я тебя по-своему люблю. Как сына. Это чтоб ты знал…
Было ли это искреннее признание или новая ложь?..
Глава 11
Силуэты Любена и Сильвена, словно два персонажа театра теней, показались на пороге хижины.
– Ты ко мне не заходил, договорились? – произнес смотритель зоопарка. – Попрощался с матерью и сразу пошел домой.
Сильвен кивнул, чувствуя, как ветер вздымает его волосы, еще не до конца высохшие после «бассейна».
– Посмотрим, куда подует ветер, прежде чем ставить парус, – пробормотал старик, стоя на пороге и глядя вслед удаляющемуся гостю.
Оказалось, что недостаточно просто покинуть это словно застывшее во времени необычное место, чтобы попасть в привычный мир: все вокруг казалось Сильвену изменившимся, каким-то слишком большим и шумным. Так, пустая и тихая улица Бюффона произвела на него впечатление оживленной автострады – хотя сейчас на ней не было вообще ни одного автомобиля! Одного лишь асфальтового покрытия было достаточно, чтобы собственные шаги казались Сильвену оглушительными. Он едва ли не с ужасом устремил взор на единственного дежурящего здесь полицейского, замерев, словно лис, выскочивший прямо на охотника.
– Здесь нельзя задерживаться, месье, – пробормотал полицейский с некоторым смущением.
Но Сильвен уже тронулся с места. Идя по спящему Парижу, он пытался хоть немного собраться с мыслями.
«Что же на самом деле произошло сегодня вечером? – спрашивал он себя, шагая по улице Ласепед. – Еще до того, как выяснилось, что обезьяны исчезли, мама была какая-то странная… и эти ее тирады против Маркомира… Чем же его роман ее так встревожил? Чего она боится?»
Все эти вопросы оставались без ответа.
Он едва не упал, споткнувшись о велосипедную шину на углу улицы Наварры, но не обратил на это внимания.
«Да еще опустевшая обезьянья клетка… И этот жуткий концерт остальных животных…»
Это воспоминание, смешавшись с алкогольными парами, резко атаковало мозг молодого профессора, который даже вынужден был на пару секунд прислониться к балюстраде у станции метро «Площадь Монж».
– К счастью, я уже почти пришел, – пробормотал он, снова продолжив путь.
Несколько минут спустя, миновав отель «Арена» – скромную трехзвездочную гостиницу, где иногда завтракал, – Сильвен уже набирал код на входе в подъезд своего дома – номер 47 по улице Монж.
По правде говоря, он не слишком любил эту улицу, одну из главных артерий Пятого округа, неизящно окаймлявшую холм Святой Женевьевы. Эта широкая улица, с богато украшенными каменной резьбой, но при этом совершенно однообразными фасадами домов, наглядно демонстрировала, как исказился облик старой Лютеции в эпоху Наполеона III. Архитекторы как будто хотели, чтобы через эти широкие проспекты из города полностью выветрился старый дух, что отвечало урбанистским склонностям барона Османа, главного вдохновителя реконструкции того времени, и общей грубоматериальной атмосфере девятнадцатого века. Лишь бургундский геометр Гаспар Монж получил от этого явное преимущество – его имя сохранилось для последующих поколений в названии улицы. Что же касается остальных…
Но вот уже десять лет Сильвен жил в этом доме. Окно его квартиры, к счастью, выходило не на улицу.
Он вошел в подъезд тихо, словно заговорщик.
Один этаж… два этажа… три этажа.
Каждый лестничный пролет давался ему со все большим трудом.
Преодолевая их, Сильвен ворчал вполголоса, потому что это придавало ему сил. Все-таки, наверно, не стоило лезть в колодец… По телу до сих пор пробегал озноб от ледяной воды подземелья. К этому добавились усталость и воспоминания о сегодняшнем вечере.
– Ладно, завтра будет видно, – выдохнул он, добравшись наконец до своей квартиры на пятом этаже и неловко всовывая ключ в замочную скважину.
Старая, пожелтевшая от времени дверь тихо заскрипела.
– Home, sweet home, – иронически пробормотал Сильвен, бросая пиджак на спинку кресла, заваленного разноцветными папками.
Всякий раз, приходя домой, молодой профессор испытывал одновременно облегчение и некоторый душевный дискомфорт. Облегчение – оттого, что наконец попадал в свое привычное отшельническое убежище; дискомфорт – оттого, что оказывался наедине со своими внутренними противоречиями, сомнениями и проблемами. Обычно он, войдя, не сразу зажигал свет, как если бы хотел приручить таившиеся в комнатах тени. Особенно – тени книжных шкафов. Вездесущие, всепоглощающие, они обитали в темноте, и их очертания напоминали спящих драконов.
Единственной точкой света был красный огонек автоответчика.
Осторожно ступая, Сильвен приблизился к телефону. Удивительно, что в нынешний век эсэмэсок еще кто-то пользуется таким архаичным способом связи…
«– Привет, это снова Оливье. Я по поводу твоего романа…»
Сильвен пожал плечами и снова коснулся кнопки автоответчика.
«Сообщение стерто».
Легкомысленное отношение к нему издателя – вот еще одна вещь, о которой он старался не думать, особенно после реакции матери на известие о том, что он пишет роман.
«Но разве я не заслуживаю такого отношения?» – спросил себя Сильвен, одну за другой зажигая лампы в комнатах. Несмотря на то что они давали мягкий свет, приглушенный абажурами, вид квартиры показался ему невыносимым. Повсюду заставленные книгами ряды стеллажей из ИКЕА – до самой ванной комнаты.
«В один прекрасный день я закончу так же, как композитор Алькан, – раздавленный грудой собственных книг», – поморщившись, подумал Сильвен.
В самом деле, многие стеллажи опасно накренились, поскольку книги стояли и лежали на полках в несколько рядов.
– Ну и хаос! – пробормотал он, случайно задев тяжелый «Атлас подземного Парижа», который рухнул на пол, подняв облако мелкой сероватой пыли.
Вид папки, лежавшей на низком журнальном столике, напротив камина с неубранной золой, вызвал у него чувство вины. Это была большая красная папка, толстая и тяжелая, содержимое которой едва умещалось внутри, а несколько густо исписанных листков выскользнули на пол.
Сильвен Массон, «Великая тайна Парижа», роман.
Профессор с досадой покусывал губы, чувствуя усталость при одной только мысли о том, чтобы наклониться и поднять выпавшие листки.
Он отвернулся, но тут же ему бросились в глаза десятки томов с похожими названиями – вроде «Загадки и тайны Парижа: мифологическая география», – которые словно поджидали нового «родственника».
Сколько времени прошло с тех пор, как Сильвен последний раз притрагивался к своей рукописи? Сколько сообщений оставил ему Оливье, его старый приятель и бывший однокурсник? А ведь он знал, что Оливье готов был оплатить издание его книги из своего кармана, поскольку не мог рисковать деньгами своих акционеров…
«Но ведь не думает же он, что книга пишется так же быстро, как статья?» – лицемерно оправдывался профессор перед самим собой, прекрасно сознавая иллюзорность этой отговорки. Лишь одобрение со стороны матери могло бы подхлестнуть его вдохновение, хотя Сильвен и понимал, что это полный абсурд. Да, неудачный старт у его первого романа…
– Что за каша у тебя в голове! – раздраженно пробормотал он в свой адрес, наливая себе стакан «легкой» кока-колы.
Газированный напиток вызвал у него легкую отрыжку.
– И почему я пью эту дрянь? – проворчал он.
Однако ему надо было избавиться от привкуса анисового ликера во рту, а вместе с ним прогнать ощущение глубокой усталости и беспомощности. Столько всего произошло сегодня вечером… Столько воспоминаний осталось после каких-то нескольких часов!..
Чувствуя подступающую к горлу тошноту, Сильвен подошел к окну и распахнул его настежь.
Свежий воздух слегка взбодрил его и одновременно успокоил. Тем более что вид из окна был сказочный.
Его дом, при всех своих архитектурных недостатках типично османовского стиля, был построен в очень необычном месте – возле древнего амфитеатра, возведенного в те времена, когда Париж еще назывался Лютецией, и восстановленного в период с 1869 по 1916 год. Правда, перед этим велась бурная полемика о его судьбе – подрядчики строительства из «Компании омнибусов», предшественницы нынешней RATP, посматривали недобрым глазом на это археологическое открытие, из-за которого они рисковали потерять немало денег. Понадобилось множество петиций, подписанных известными деятелями культуры (в том числе Виктором Гюго), чтобы амфитеатр второго века не стал жертвой «воинствующего урбанизма» Третьей республики.
«Какая удача!» – в который раз подумал Сильвен, перегибаясь через подоконник и склоняясь над жардиньеркой, заросшей травой.
И хотя площадь амфитеатра сократилась примерно на треть по сравнению с изначальной, на его широком пространстве отдыхал взор профессора, когда он, утомленный книгами и выписками или, как сегодня, усталостью, смотрел на этот круг песка, окаймленный тройным кольцом древних каменных ступеней, деревьев и домов. В этом почти не посещаемом туристами городском саду, окруженном огромными домами, старики играли в петанк, молодежь гоняла мяч. Другие посетители читали газеты, флиртовали, отдыхали – там, где некогда их предки смотрели на гладиаторские бои. Иногда немногочисленные группы актеров-любителей разыгрывали здесь отрывки из пьес Мольера или Мюссе. Летом городской муниципалитет даже организовывал в амфитеатре кинопросмотры под открытым небом. В прошлом году Сильвен, не покидая квартиры, смотрел из окна исторические ленты Сашá Гитри, из которых больше всего ему понравился увлекательный, хотя и чересчур насыщенный вымыслами, кинофильм «Если бы нам рассказали о Париже».
«Но все это было до терактов», – подумал Сильвен, невольно представляя себе взрыв бомбы прямо в центре амфитеатра… После все изменилось. С тех пор как произошла страшная трагедия в «Конкор-Лафайетт», парк с амфитеатром закрывали уже в пять часов вечера. И лишь немногие счастливчики, подобные Сильвену, могли любоваться им сколько угодно в любое время дня и ночи.
Еще дальше высунувшись в окно, так что вся верхняя половина тела оказалась снаружи, Сильвен полностью погрузился в созерцание окруженного деревьями строения.
«За каждой закрытой дверью, за оградой каждого сквера, под корнями каждого дерева скрывается истинный Париж», – говорил ему Любен, когда они вместе кормили хищных зверей, чистили виварий или вычесывали белых обезьян.
Вот почему Сильвен, очень чуткий к существованию города под городом, руин под современностью, изначального под старинным, леса под сквером, так часто повторял слова Андре Арделле: «Я – последний охотник таинственных больших городов». Может, и не бог весть какое важное занятие – но Сильвен горячо отстаивал свое право на него перед Габриэллой.
Однако потом они выросли. И Габриэлла уехала…
Сиьвен снова почувствовал легкую дурноту и с силой тряхнул головой.
– Подумай о чем-нибудь другом, идиот! – выдохнул он и, резко выпрямившись, отступил назад, вглубь квартиры, словно вырываясь из рук старой городской сумасшедшей.
Среда, 17 мая, 06.00
Как всегда, мой будильник звонит ровно в шесть (привычка рано вставать перешла ко мне от отца). «Бип-бип» этого часового механизма, сделанного в виде Пресвятой Девы Лурдской (совершенно абсурдный подарок матери), вырывает меня из сна, в каждом уголке которого присутствует тот силуэт…
– Да, силуэт, – произношу я хриплым после сна голосом и вскакиваю с постели.
За окном уже рассветает. Зеленые кроны деревьев, окружающих «Замок королевы Бланш», кажутся мне какими-то слишком яркими, даже кричащими, – у меня болит голова. Осторожно ступая, я впотьмах добираюсь до маминой ванной комнаты, где полным-полно лекарств.
Среди армии флакончиков с транквилизаторами я нахожу упаковку долипрана. Набираю немного воды в стаканчик из-под зубной щетки, и – хоп! Две белые таблетки исчезают в моем желудке, и несколько минут я стою неподвижно, надеясь, что мигрень исчезнет.
А вот силуэт не исчезает. Тот силуэт, который я видела в сцене похищения ребенка. Силуэт, который схватил на руки маленького Пьера Шовье… и который снился мне всю ночь.
Не выпуская из рук стаканчика, я иду в «машинный зал».
Прошло шесть часов с момента моего открытия, но такое ощущение, что комната по-прежнему буквально источает страх.
Редкая штука: вчера перед сном я выключила ВСЕ мониторы. Как будто боялась того, что могла на них увидеть. И вот сейчас мне не хочется их включать.
«Это просто смешно, Тринитэ!» – сурово говорю я сама себе, подражая отцовскому тону.
Однако, включив машины, я не активирую систему наблюдения и ограничиваюсь тем, что захожу в Интернет.
– Да, они не теряли времени даром…
Впрочем, я об этом догадывалась. Дело о киднеппинге уже попало в топ новостей:
«Пять грудных детей похищены в Париже».
«Похищено пять малолетних детей в Пятом и Тринадцатом округах столицы».
«Жертвами серийного похитителя становятся младенцы!»
Еще вчера я колебалась, не позвонить ли комиссару Паразиа – уходя, он оставил свою визитку на консоли у входа, под картиной Гойи.
– На всякий случай, если вдруг захочешь мне что-то рассказать, – объяснил он.
«Морис Паразиа. Полицейская префектура Парижа, набережная Орфевр, 36. Телефон 06 23 56 89 56».
«Я должна показать ему эту запись», – говорю я себе, надевая розовый халат (еще один кошмар, приобретенный мамой в дьюти-фри в аэропорту Дубая).
В шесть двадцать пять, проглотив завтрак, приготовленный Эмилией (консьержка из соседнего дома, которая приходит дважды в неделю убираться, а также готовит мне еду на два-три дня, которую оставляет в холодильнике), я выхожу из квартиры.
«В конце концов, на набережной Орфевр тоже люди!» – говорю я себе, спускаясь по старой лестнице с дубовыми перилами, облицованной терракотовыми шестиугольными плитками.
Оказывается, в холле полно народу.
Человек десять или больше оживленно что-то обсуждают – в полный голос, как будто на улице день.
«Эх, надо было подождать…»
Однако, стиснув зубы, я продолжаю спускаться.
В центре собравшейся толпы – Жан и Надя Шовье, красные, растрепанные, оба вне себя от беспокойства. Они что-то рассказывают остальным, те с явным сочувствием слушают. Других я тоже сразу узнаю: месье Уэрво, одинокий вдовец в бессменном халате; мадемуазель Гарнье, старая учительница музыки; Иван и Бернар, пожилая чета гомосексуалистов.
Заметив меня, все замолкают, кроме месье Уэрво, который говорит:
– Осторожно, вот эта обезьянка!..
Остальные смотрят на меня, как стадо оленей, увидевшее охотника.
Поскольку именно кем-то подобным я для них всегда и была – чужаком, даже врагом.
Жильцы смотрят на меня пристально и без всякой жалости. Примерно с такими же застывшими гримасами отвращения они смотрят на меня, когда я с ними случайно где-нибудь сталкиваюсь, – потому что все они знают, чем я занимаюсь большую часть свободного времени.
Я стою на самой нижней ступеньке лестницы. Они, собравшись у двери, которая ведет в мощенный каменными плитами внутренний двор, откуда есть выход на улицу Гюстава Жеффруа, не двигаются с мест.
Вдруг, стряхнув оцепенение, Надя Шовье бросается прямо ко мне:
– Тринитэ, нам нужна твоя помощь! Я уверена, что ты что-нибудь видела!..
От удивления я замираю с открытым ртом, не в силах произнести ни слова. Я ожидала чего угодно, но только не этого!
Но Надя, судя по выражению ее лица, говорит совершенно искренне. Страх, который я ощутила вчера, увидев на экране странный силуэт, словно воплощается перед моими глазами, принимая очертания той самой расплывчатой, нечеткой фигуры. Да, я видела, как это существо похитило ребенка Нади… Интересно, мои родители испытывали бы в подобной ситуации такое же горе, такое же чувство «разреза по живому»?.. Да, наверно, испытывали бы, но только не по отношению ко мне; на это указывает слишком многое: их манера поведения со мной, их постоянное отсутствие, по сути, их бегство… Но не думай об этом, Тринитэ! Смотри лучше, какая боль в глазах этой матери! Во что превратится жизнь этой женщины, если ей не вернут ребенка?
Внезапно меня охватывает чувство ответственности, словно я и впрямь могу им помочь – я, которая никогда не могла помочь своим родителям!
– Тринитэ, я тебя умоляю! – говорит Надя. – Скажи, ты что-нибудь видела?
– Надя, оставь ее в покое, – обращается к ней муж, избегая смотреть на меня, – она всего лишь ребенок…
– Маленькая извращенка, – произносит Иван с презрительной гримасой.
– Вуайеристка, вы хотите сказать, – поправляет его месье Уэрво, машинально затягивая сильнее пояс своего халата. – Точная копия своего отца: те же ввалившиеся глаза, тот же вздернутый нос… не лицо, а лисья морда!
Я краснею, как всякий раз, когда мне напоминают, что у меня нет ничего общего с идеалом красоты. Да, я похожа на отца… а мама такая красивая…
– Такая же извращенная, такая же порочная, как ее отец, – прибавляет месье Уэрво.
Привыкшая к подобным нападкам, я лишь молча сглатываю слюну и пытаюсь выдержать их взгляды. Редко я встречаю такое открытое презрение. Ну что ж, по крайней мере, все карты открыты.
И тут я вздрагиваю, ощутив легкое, нежное прикосновение к своему лицу.
Надя прижимает к моим щекам свои дрожащие ладони.
– Тринитэ, если ты что-то знаешь, если ты что-то видела, помоги нам, пожалуйста! Мы все должны помочь полиции…
Я бормочу:
– Да, кажется, я и в самом деле…
И не могу продолжить – она крепко обнимает меня, как будто я ее ребенок.
Ее возвращенный ребенок…
Я рывком высвобождаюсь и, не отрывая глаз от Нади, говорю:
– Я сделаю что смогу. Обещаю вам!
И, под устремленными на меня заплаканными глазами Нади и враждебными взглядами остальных жильцов, под прицелом всех камер, установленных в холле, устремляюсь к выходу, спеша на набережную Орфевр.








