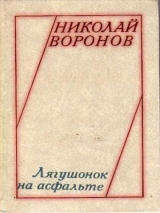
Текст книги "Лягушонок на асфальте (сборник)"
Автор книги: Николай Воронов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)
воображение: лишь бы вдоволь поспать, набродиться по улицам и растерять
ощущение, что ты гонима беспощадной, мстящей за медлительность силой.
Здесь же, у отца, где Маша часто оставалась одна и где Лиза все сама делала по
дому, а ей ничего не поручала и не разрешала делать, она неожиданно поняла,
что если не будет теребить свое воображение, то проведет свое гощение
довольно кисло. С Владькой было бы занятно дружить, но с ним покончено.
Надумала пробраться в грузовой порт – и пробралась: сплавала на буксире,
который отволок туда баржу с подъемным краном. Целый день толкалась на
аэродроме. Наблюдала взлеты и посадки самолетов. Выпросила у
бортпроводницы значок с изображением лайнера Ил-18. Побывала в
диспетчерской и в комнате синоптиков. И все это под видом внучки, приехавшей
встречать ленинградского деда, позабывшего указать в телеграмме («Ничего не
поделаешь – склеротик») час прибытия.
Прознавши, что Леночку, дочь Сергея и Киры, необходимо привезти с
детсадовской дачи на вступительный экзамен в музыкальную школу, она
вызвалась съездить за ней и проводить ее на экзамены, чтобы не обременять
этой заботой перемогающуюся от повышенного давления Галину Евгеньевну.
Ее осенило на даче, что она могла бы быть хорошей воспитательницей, а в
музыкальной школе, когда Леночку проверяли на ритм и на слух, догадалась,
что в семь лет сумела бы воспроизвести сложный стук пальцем по корпусу
пианино и повторить извилистую мелодию: почему-то тогда она крепко
запоминала фортепьянные вещи.
Леночка хорошо, но неточно выстукала то, что простучал председатель
приемной комиссии. В коридоре Маша показала, как стучал председатель и как
стучала Леночка. Девчурка повторила этот стук, и Маша пообещала Леночке,
что ее примут в музыкальную школу.
Когда они выходили из классного коридора, с лестницы к ним бросилась
Кира: не утерпела и на часок отпросилась из лаборатории.
Маша успокоила Киру, и они отвели девочку, пожелавшую переночевать в
городе, к бабушке.
Кире нужно было возвращаться в цех, и Маша поехала с ней, когда узнала,
что в заводской проходной дежурит жена Коли Колича. Давно было стыдно
Маше: выросла в металлургическом городе, а на мартене, у доменных печей, на
коксохиме ни разу не бывала. Этот завод хоть и меньше тамошнего, зато почти
новый и в чем-то, должно быть, гораздо интересней. И, главное, здесь работает
ее отец и сейчас его смена.
До проходных ворот металлургического комбината ехали на трамвае.
Охранница рассияла, увидев Машу, и гребанула рукой в сторону завода,
прерывая объяснения Киры.
– Доченьку Константина Васильевича завсегда пущу.
У себя в родном Железнодольске, хоть и со стороны, Маша все равно
неплохо знала, где что находится на комбинате. Даже зимней ночью сквозь
туман могла угадать расположение цехов: три скобы алых небесных огней -
копровый цех, там газовыми огненными струями полосуют сталь; скаканье
высотных сполохов – мартеновский; оранжеватое зарево – доменный.
Тут она сразу определила, где прокат, а где мартен, отличив их по трубам:
над прокатом трубы пониже, пореже и не дымят.
Однажды Маша видела в киножурнале опущенный на дно океана батискаф.
Вблизи домны напоминали батискафы, а воздухонагреватели – тупомакушечные
ракеты, приготовленные для запуска. Сходство дополнялось тем, что атмосфера,
окружавшая их, была сумрачно-зеленоватая, и в ней мерцали пластинки
графита, будто косячки каких-нибудь блескучих глубоководных мальков.
У Киры в химической лаборатории, наверно, строгий начальник. Так быстро
она шла по заводу, что Маша еле-еле поспевала за ней. Через залик проскочила,
лишь на мгновение задержавшись возле длинношеей женщины. И в памяти
Маши только и скользнул стальной цилиндр нейтрализатора да толстенные
коленья – вытяжная вентиляция.
– Тетя Кира, что за специальность у дежурной по установке?
– Аппаратчица.
– А дети у нее есть?
– Сын.
– Искусственник?
– Искусственник.
– Значит, предупредили, когда она устраивалась аппаратчицей?
– Предупредили.
– Отчим говорит – не предупреждают. Он сам на пиридиновой установке
работает.
– Думается, обязательно предупреждают и в отделе кадров и в отделе по
технике безопасности.
– Хмырь... отчим доказывает: предупреждать – без аппаратчиц останешься.
Позже им сообщают, когда они привыкнут к месту.
– Не должно быть.
– Неужели ничего нельзя сделать?
– Установки герметизируют, чтобы не выделялись пары пиридина.
– Тогда почему ее сын искусственник?
– Предосторожность. Кормила бы грудью... а вдруг бы ребенок умер?
– Почему пиридин именно в груди скапливается?
– Такая у него особенность.
– Раз вредная установка – женщин не принимать.
– Пиридин вреден и для мужчин.
– Закрыть установку.
– Следуя твоей логике, нужно прикрыть весь коксохим... Необходимость,
Машенька! Без пиридина не обойтись ни фармацевтам, ни медикам, ни
химикам.
– А нельзя ли и здоровье и коксохим?
– Задача прекрасная. Учись. Решай.
– Почему я «решай»? А вы?
– Мы, в смысле наше поколение, решаем. Вы присоединитесь. Новое
поколение хорошо тем, что ему кажется: до него туго понималось и медленно
нейтрализуется зло сопутствующее промышленным энергиям, сырью, без
которого не выплавишь первостепенных металлов, не запустишь двигателей, не
совершишь открытий. В школе почему-то не принято затрагивать эту тему. В
понятие прогресс вкладывается лишь положительный смысл. Дескать, издержек
прогресса нет, и люди зачастую трудятся на вредных и опасных производствах
только по сознательности, а не по необходимости и потому, что другого выбора
не было.
– Вы не совсем правильно... Историк нам много всего объяснял. У него
девиз: в правде – движение. Татьяна Петровна, по-английскому. . У нее обо всем
спрашивай, и она откровенно ответит. Мы и сами с усами: между собой чего-
чего не обсуждаем.
– Рада.
– Тетя Кира, почему маленькими все умные?
– Достоинства проверяются в сгорании, если рассматривать человека, как
уголь. В сгорании обнаруживаются его прежние свойства и создаются новые.
Грубое уподобление: дети – уголь, общество – печь, взрослые – коксовики. В
определенных условиях, по определенным нормам, схемам, разработкам
взрослые и общество «спекают» из детей граждан. Потом, способствуя
производству духовного и материального продукта, эти граждане выявляют свои
первичные и вторичные свойства. Пластичность. Калорийность. Нет, заменим
калорийность на пользу, пользотворную способность. Почность. Зольность...
«Здорово я ее завела!» – восторженно подумала Маша.
– Вы интересно... Но я не совсем про то. Я заметила: маленькие все умные.
Нормальные маленькие. Станут первашами – некоторые, смотришь, тупы.
Дальше, дальше. Смотришь, приглупленные выявились. В одних яслях со мной
были Миша Моховой и Нинка Нагайцева. И в детсадик вместе попали, и в
школу. Старухи говорят: «Что не боле, то дурней». Так и Миша с Нинкой. В этом
году меня как стукнуло в голову: «А Моховой-то дундук»; «А Нагайцева-то
глупындра». Вы не рассердитесь, тетя Кира. Но больше дураков, чем среди
взрослых, нигде нет. Мы иногда придумаем шкодный вопрос и задаем учителям.
Раз с Митькой Калгановым придумали. Физичка Екатерина Тимуровна пришла в
класс. Митька встает и спрашивает: «Екатерина Тимуровна, ни Михайло
Иванович Ломоносов, ни Майкл Фарадей не учили этому, однако я спрошу: все
рождаются равными, а откуда берутся валютчики и бюрократы?» А еще Митька
при встрече со своими родителями выдает коронную фразочку: «Взрослые?
Взрослые любят критику. И самокритику тоже».
– Вы не без яду!
– Какой там яд, тетя Кира? Мы покорные существа. Слегка поострим, на том
наши обличения и закончились.
Кира шла в тени, Маша – на солнцепеке. Их разделяли стволы тополей. Едва
мимо них проехал кургузый автопогрузчик, Кира перевела Машу через шоссе.
Вступив в прохладу турмы – угольной башни, Маша покачнулась: так резок
был переход из упругости зноя в невесомость тени.
Турма громоздилась под облаком, окутываемая дымом. От нижней части
турмы вправо и влево простирались батареи коксовых печей. Все сооружение:
угольная башня и коксовые печи – напоминало перевернутую букву «Т»; оно
ничем не отличалось от того, которое Маша видела издали в Железнодольске.
Она знала от Хмыря, что вдоль одной стороны катаются
коксовыталкиватели, а вдоль другой – двересъемные машины.
Какой-то неуклюжий громадный красный агрегат стоял на рельсах. На его
высокий мостик выскочил человек в толстой суконной робе и войлочной шляпе,
задержался у круглых железных перил, взглянув на огненный квадрат, и нырнул
обратно в кабину.
Маша заинтересовалась этим огненным квадратом и чуть не ахнула, подойдя
к агрегату поближе: то был не квадрат, а полая, вертикальная кирпичная камера,
ее бока, раскаленные, гладкие, источали золотисто-розовое марево, и сквозь это
марево чернела неподалеку «глава» домны и виднелись барашки – распадался в
небе след реактивного самолета. Кира подошла к ней и объяснила, что
обыкновенный коксовыталкиватель выдавил из камеры коксовый пирог. Камеру
сейчас наглухо закроют стальными огнеупорными дверями и наполнят шихтой,
и за неполную смену из шихты получится кокс.
В стеклянной будочке Кира подошла к тучному мужчине. Она назвала
мужчину товарищ Трайно. Он наливал в стакан газировку. Пока вода
пузырилась из крана, Кира успела объяснить, кто Маша такая и к кому ее надо
отвести. А пока он, разжимая на резиновой пипетке зажим, капал в воду соляной
раствор, Кира ушла. Поднимаясь за Трайно по лестнице, Маша сановно
полузапрокинула голову, приспустила веки и тяжело ступала, свесив руки. Если
бы он оглянулся, то обозлился бы: так похоже она копировала его.
Он вывел ее на ветер и солнце. Это был верх коксовых печей – кирпичное
поле, на котором, пожалуй, можно играть в лапту, а может, и в футбол.
Они остановились возле вентилятора. Воздушные вихри, посылаемые
качающимся пропеллером, докручивались до спины рабочего. Рабочий стоял на
раздвижной лестнице, что-то скалывая железной лопаточкой в горловине трубы;
волосы на затылке поблескивали, как влажное стекло; сукно куртки мерцало
солью в ложбине спины.
Из угловой будочки, находившейся в конце поля, вышел приземистый
человек и весь засверкал в полдневном светопаде. И лишь только взмахнул
руками, над ним вспыхнули радуги.
– Кто это?
– Старший люковой Семерля.
– Мокрый.
– Окунулся.
– Как?
– Под холодный душ лазил. Ф-фу.
– Прямо в спецовке?
– Прямо в спецовке. Ох, жара!
– А где папа?
– Вон загрузочный вагон. – В той стороне, откуда шел Семерля и куда
протянулись рельсовые полосы, темнел диковинный для Маши вагон,
состоящий из колес и каких-то конусов, в просветы между которыми мог пройти
крупный дядька, вроде Трайно. – Там должен быть твой батька. Между прочим, я
врио начальника...
Маша засмеялась.
– Как вы себя назвали? Врун начальника?
– Ох, невежество. Временно исполняющий обязанности начальника.
– Спасибо за разъяснение.
– Я к чему о своей роли сказал? По обязанности и по личному интересу я
вникаю, как работники блока ведут себя в семьях. Есть еще у нас... Жинку
кулаком угостит. Запьянцовские встречаются.
– Страдают пережитками прошлого?
– Оно. Детей не контролируют, не беседуют.
– А кто будет в козла стучать? Я про мужчин. Придут со смены, отдохнут, во
двор. И дубасят костяшками, кто громче. Железом столы пооббили. Заспорят -
до драки...
– Оно. Точно балакаешь. Не все отцы ответственно воспитывают детей.
– А по-моему, нашим воспитанием в основном занимаются матери.
– Ошибочный вывод. Статистика проблемы лично мною изучена. Я
поправил, ты запомни. Насчет матерей... Тебя бросил отец. И у тебя вывод
создается насчет отцов. Хороших отцов надо иметь.
– Их выбирают матери.
– Не принципиально выбирают. Не советуются. В старинку дивчина
собирается замуж – к пастырю.
– Мы-то ведь в бога не верим.
– Зато верим в идею. И пастыри теперь не хуже.
– А я читала фельетон про попа...
– Я имею руководство в виду, ибо мы пасем подчиненных, направляя их в
духовном плане. И с нами надо советоваться. Раньше никуда без совета...
– И жили? Никаких разводов? Никаких домино? Дети боялись родителей?
Контролировали детей родители и, если что, – крепко воспитывали?
– А ты дивчина с юмором! Мне докладывали в порядке информации.
Корабельников мурцевал жинку с дочкой. Мурцевал, кинул, кажуть, и
неаккуратно платил алименты.
– Кинул – верно. В остальном – неправда.
– Мне говорил проверенный товарищ.
– Мама от меня ничего не скрывает.
– Семейную политику соблюдала. Не все, чего можно знать старшим, нужно
знать детям.
– Спасибо. Я девять классов закончила и так не просветилась. Я хотела
спросить: «Все рождаются равными, а откуда берутся валютчики и бюрократы?»
– Валютчики? Пишут о них в газетах... Насчет бюрократив?.. Тоже есть. Но
тут, в нас, в городи, я не бачив бюрократив. Мне докладывали, что твой батька
делився... Вин водил тебя в ресторан.
– Почему-то вам все докладывают про папу. Для какой цели вы
интересуетесь его жизнью?
– Для воспитания треба. Зря ты пошла в ресторан. Какой положительный
пример дает ресторан девушке? В театр поведи, в кино, побеседуй... Что и
указывает. .
– Из ресторана замечательный вид. И вкусно кормят. Я ведь погостить
приехала.
– Приучивать к роскоши... Буржуазия пусть приучивает. Я смекаю так:
рестораны тоже пережитки прошлого. Их давно бы позакрыли, кабы не
раскидывали на них план. Недавно на активе спрашивали председателя
горисполкома: «Почему не закроют автомат-закусочную на центральной
площади?» Развел руками: «План». Будем, каже, стараться перекинуть план на
кино або на дворцы культуры. Добре побалакали с тобой. Сдается мне – ты
толковая дивчина.
Трайно подозвал люкового, который прямо в спецовке лазил под душ и
теперь, отряхиваясь, топтался возле загрузочного вагона.
Еще издали было слышно, как в его чунях хлюпает вода. Оказалось, что
Семерля – славнейший Коля Колич. На вопрос Трайно, там ли еще, в кабине
загрузочного вагона, Корабельников или уже спустился в угольную башню, Коля
Колич ответил, что Константин Васильевич минут пятнадцать как уже в турме.
– Опять нырнул за длинным рублем?
– Попробуй повкалывай в турме, другое запоешь. Аль в чужом кулаке
завсегда больше огурец?
– Не груби.
– Буду грубить, потому как у тебя зуб на рабочий рубль. Дай тебе волю, ты
так обкорнаешь, комолый будет.
– Кончай демагогию.
– Ярлык-то пестрый, а я вострый.
– Пораз-з-болтались!
Лестница. Бетонный холодок. Коля Колич поднимается впереди. С робы
перестала стекать вода – забухло сукно.
Маша сказала, что никак не может разобраться, почему в нашем обществе
встречаются такие субъекты. Англичанка Татьяна Петровна дала этому
объяснение: одни люди зависят от других, а Митька Калганов (конечно, со слов
своего папы, крупного начальника) не шибко высокой культуры руководства:
она, дескать, складывалась под влиянием прошлого.
Что ж, и в том и в другом, на разумение Коли Колича, собака зарыта. У него,
Коли Колича, есть и дополнительные соображения на этот счет. Не пора ли
перестать оглядываться далеко назад, на пережитки, и ими выгораживаться?
Этак бревна перестанешь замечать в собственных глазах. О прошлом
мордогнутии он только по слухам знает, а вот на то, как всякие наши Трайно
морду гнут, ему давно тошно смотреть. Тот же Трайно: я, мол, шишка на ровном
месте. И притом незапятнанный человек. В вытрезвителе не купан. С женой не
разводился. С инстанциями в ладу. Усвоил – за предосторожность аль за
превышение власти не накажут. В крайнем случае, выговоришко. На днях, к
примеру, стенную газету вывесили, а он ее взял и снял. Со мной, мол, не
посоветовались. Везде написано про коллективность, а он единоличное
самовластие оказал.
– Дядя Коля, а мы в школе сами стенгазету выпускаем. Классному
руководителю дадим проверить. Допустили синтаксическую ошибку или
орфографическую, она исправит, и мы выпустим.
– Вы, молодежь, вы молодцы.
Похвала Коли Колича была подпреснена снисходительностью. Коля Колич
заговорщицки веселым кивком позвал ее за собой и растворил дверь на
каменный балкон, пышно запорошенный угольной мукой, коксовой крошкой,
блестками графита.
Неожиданным был для Маши простор неба. Почудилось, будто ее
захлестнуло синью. Когда глаза привыкли к высоте и яркости, различила: свет
прозрачен, как протертые нашатырем окна в зеркальном гастрономе, а синь -
небосвод, где вертикально восходят серебряные истребители. Приблизились к
балюстраде. И снова испытала оторопь: простор земли, выбросившийся из-под
балкона, притягивал, заманивал. Раскинешь руки, бросишься в стеклянность, и
понесется на тебя зелено-голубая с коричневой опушкой береговая куга, к
которой подступил коксохим, море с вытянутыми пятнами песчаных островов,
далекая белая церковь, чеканящаяся на грозовом стыке просторов: верхнего и
нижнего.
Коля Колич повернул и наклонил голову Маши.
И Маша посмотрела вниз, на плоскость коксовых печей, источающую
жаркие алмазно-белые миражи. Метнула взгляд от огненных колодцев до
ворончатого вагона. Обрадовалась красивой какой-то геометричности: по
кирпичной равнине – катаная зеркальность рельсов, и пуговицами стальные
круги и кружочки, как бы вмурованные в кладку.
Зал. Потолок высоко. Воздух мореный, отдающий цементом, преснятиной, а
в нем виснет цепь лебедки. А через него наклонно листы солнца. А на дне зала
лежат и смотрят в квадратный лаз Сергей Торопчин и паренек – веснушки на
ушах. А со скобы, что на краю лаза, падает в глубину пеньковый канат.
Коля Колич, когда к нему поворачиваются золото-планочные очки Сергея
Торопчина, указывает своим длинным подбородком на Машу и уходит, чиркая
чунями по цементной глади. Улыбка пробивает сосредоточенность на лице
Сергея Торопчина.
– Там, – говорит он и свешивает голову над лазом, прижимая к скобе канат,
который витком пущен по его руке, придавившей локтем новые, сухие
пеньковые кольца.
Маша ложится на бумажный мешок, заглядывает в турму. Далеко внизу,
словно в кратере вулкана, отец. Он беззащитный, малюсенький в пороховом
сумраке, в огромности башни.
– Ничего себе погребок!
Маша хотела взбодрить себя, но невольный страх вдруг так усилился, что у
нее зажало дыхание.
А отцу, наверно, совсем не боязно. В углу скипелась глыба угольной шихты.
В руках у него длинный-предлинный черенок, на черенке – штык лопаты, так
отполировавшийся, что бликует даже оттуда, из полутьмы. Вот эту-то лопату и
мечет он в глыбу, а глыба не поддается, лишь отколупывается на куски и стекает
черное крошево. Он подступает ближе к углу, всаживает лопату уже обеими
руками.
Сергей Торопчин волнуется, кричит в яму:
– Осторожно!
Его голос, на мгновение потерявшийся в пустоте ямы возникает у
железобетонных стен, зычно гремит.
Отец как оглох: вгоняет и вгоняет в уголь светлый штык лопаты. Когда,
надавив на черенок, Корабельников выдергивает лопату из угля, глыба отстает и
начинает крениться. Маша не успевает пискнуть от страха, как отец хватается за
канат и, скорчившись, летит над шихтой. Головной обломок глыбы скачет за
ним, задевает по ногам. Будто бумажный мячик на резинке, который пнули,
Корабельников подпрыгивает в воздухе, но уловчается выставить сапоги, чтоб
не шмякнуло об стену. Обратно он летит быстрей – резко оттолкнулся.
Дурачится, как клоун в цирке: держась за канат одной рукой и дрыгаясь. На боку
колотится сумка, схожая с противогазной.
Он прыгает. До колен всаживается в уголь.
– Па-па.
–Ау?
– Не ушибло?
– Нет, дочка.
– Не балуйся там. Опасно.
– Ла-адно.
Маша отодвинулась от лаза. Паренек – веснушчатые уши стоял на коленях,
держа наготове моток веревочной лестницы. Сергей Федорович унимал
дыхание; лоб зернист от пота.
– Отчаянный у тебя отец.
– Я тоже.
Сергей Федорович потыкался лбом в рукав пиджака.
– Весельчаки вы, Корабельниковы.
– У нас в Железнодольске есть в гастрономе сторож Чебурахтин. Он бы
ответил вам, Сергей Федорович: «Шё унывать, шё? Умрешь – фшё, не
оштанетшя нишё». Сергей Федорович, а я бы подошла жить во Франции?
– Ты видела круглые крышки над коксовыми печами?
– Да.
– Они подходят для закрывания люков, да пропускают газ. Для этого мы
зачеканиваем их по краям, иначе кокс спечется бракованный. Система проста:
печь, люк, крышка. А жизнь – сложнейшая система, тем более жизнь чужой
страны. И чтобы подойти к чужой жизни, условно говоря, необходимы тысячи
зачеканок. Притирка к миру Франции стоила, например, моему отцу больших
страданий. И это при том, что он знал ее язык, культуру и бывал раньше в
стране. Правда, я из России на месте правительства тебя бы не отпустил.
– Смейтесь, смейтесь, я... Сергей Федорович, мы с дачи ехали... Ваша дочка
сказала, вы участвовали во французском Сопротивлении.
– Было.
– Много убили фашистов?
– Я подростком пришел в маки. Важные сведения принес. Меня посылали в
города.
– Разузнавать специальные данные для разведки?
– Пожалуй.
– Здорово-то!
– Не так здорово, как необходимо.
– А правда, что ваш дедушка был попом в Берлине? И когда немцы напали на
нас, выступил в церкви против Гитлера?
– Он был не просто попом. Он был главой русской православной
эмигрантской церкви.
– Он был за царизм?
– Он был монархистом. Но он любил Россию и предал проклятию Гитлера.
Дед был умен и не мог пренебречь судьбой своей нации. Дед, дед... Он не
благоволил, Маруся, к нашей семье. Моей маме, своей дочери, не помогал. Но
его анафемой против немецких фашистов я горжусь.
– Его расстреляли?
– Забрали в гестапо. Мучили. Эмигранты в разных странах подняли шум.
Выпустили. Через неделю умер. Был глубокий старик, да пытки...
– Сергей Федорович, вы счастливы?
– Счастлив,
– Совсем-совсемочки?
– Покажи мне того, кто утверждает, что он достиг полного счастья. Разве я
могу не горевать, что отец не дотянул до возвращения на Родину? И о брате
тоскую, о сестре, о Жэфе.
– Вы сразу в Жэфе поселились?
– Что ты! Нет, родителям пришлось поскитаться. Сначала они под Парижем
жили. В замке. Отец работал садовником, он с детства увлекался цветами.
Потом был вокзальным грузчиком, уже в Париже. Русские грузчиками были,
итальянцы и негр из Португальской Гвинеи. С негром отец подружился.
Итальянцы удивлялись, что русские прекрасно хором поют. Арии, песенки, а
чтоб хором – итальянцы не умели. Позже отец работал на заводе Рено. Кстати, в
эту пору там же работал, кажется, слесарем анархист Махно. Французы все
потешались над ним: «Батько Махно, батько Махно...»
– А интересно... Сергей Федорович! Вы хотели бы быть миллионером?
– Я бы хотел равного распределения богатств между людьми.
– А я хотела бы иметь столько денег. . Целую турму, битком набитую!
Заболел кто, нет на лекарство – получи. Аварийная жилплощадь – строй дом.
Несправедливость любишь устранять – насыпай из башни хоть десять вагонов.
Ну и, конечно, я поплыла бы через океан на плоту. Из других стран плавают, а из
нашей нет.
Сергей Торопчин всматривался в глубину турмы. Осведомился у
Корабельникова, не кружится ли голова, не поташнивает ли. Тот чувствовал себя
отлично.
Наверно, в турме можно отравиться? Беспамятная. Проходили ведь по
химии, что в кучах уголь способен окисляться и выделять угарный газ... А еще
как отец выдерживает раскаты, от которых, наверно, трескается железобетон,
как он дышит в черной пыли да притом еще играючи орудует лопатой?
Неподалеку от отца сильно просел уголь, образовалась воронка. Шихта
хлынула в нее. Маша вздрогнула. Вообразилось, что папку стянуло туда: завалит
и через люк выбросит в загрузочный вагон?
– Сергей Федорович, были случаи, когда люди из турмы падали в
загрузочный вагон?
– Не у нас.
– А из вагона в печь?
– Чего только не случалось с людьми.
– Па-а-па! Па-а-па! Папа-а-а-а!
Она звала отца, когда в башне раздавались вулканические взрывы воздуха.
Корабельников не услышал дочь, но заметил, как, разворачиваясь, падала
брошенная ею белая веревочная лестница.
Из зала он виделся Маше силачом, для которого работа в турме чуть-чуть
риск, чуть-чуть забава, а больше разминка в свое удовольствие.
Наверху, в зале, затопленном солнцем, он увиделся ей другим: на угольном
сыром лице также заметны, как белки глаз, фуксиново-красные веки; дыханье
надсадное; кисти рук, похожие на темных, растопыривших короткие ноги
крабов, присмирело свисали, касаясь штанов, прилипших к бедрам.
Сергей Торопчин расстегнул на Корабельникове набрякший потом
широченный брезентовый пояс, бросил на пол. Клацнули цепи, к ним был
привязан канат.
Маша и Сергей оглянулись на подкованную поступь Трайно, который,
подойдя, спросил Корабельникова:
– Закончил?
– Больно ты борзый. Угольная башня тебе что, печка? В той пошуровал
кочергой – и порядок. А здесь ведь вручную нужно много тонн разрыхлить.
– Зарываешься ты, Константин Васильевич. Кому ты делаешь пояснение?
Сдается, не я начальник, а ты?
– Ты будешь нам глотки перестригать... Не будет у меня с тобой масленого
разговора.
– Я веду руководящую линию.
Маша растерялась. Почему Трайно оскорбил отца?
– Дядя Трайно!
Сбился с шага, но не остановился.
– Дядя Трайно!
Встал. Спина насторожилась.
– Дядя, вы великан. Спуститесь в турму. Папа утомился.
– Не моя обязанность.
– И не его. Он ведь машинист загрузочного вагона.
– Мы его не заставляем лезть в турму. Он добровольно.
Трайно вышел. Корабельников укорил дочь: зачем-то унижалась и его, отца,
унизила: никакому Трайно не заменить его в угольной башне. Сергей, еще
хмурый, разлепил в улыбке губы и подмигнул девчонке сразу обоими
лучистыми за стеклами очков глазами.
– Не Талейран твой папа. Да, Маруся?
– Вкровь надоело с такими дипломатничать.
– Я не про это. Дочку ты не понял.
– Вполне. Живем поврозь. Останется жить у меня, с полслова научусь
понимать. Мне все казалось – ты такая маленькая.
Он было положил руку ей на плечо, но отдернул: застеснялся, и рука в
угольной пыли.
– Ты не бойся, папа. Запросто отмою. В мамином гастрономе замажусь чем-
нибудь жирным, и то раз-два и отстираю или выведу. «Эра» не берет – эфиром,
эфир не возьмет – уксусом...
Корабельников пожаловался, что у него щемит в сердце, и лег на цементный
пол и закрыл глаза. Сначала он лег на спину, но потом, почувствовав, что на него
смотрят, повернулся на бок и прикрыл лицо локтем. Сергей Торопчин
предложил ему валидол, но Корабельников отказался – не признает лекарств.
Маша встала возле отца на колени. Ей хотелось погладить его по волосам,
влажным, свалявшимся, да мешал стыд. Раньше, как сказал Сергей Торопчин,
Константина Васильевича никогда не подводило сердце. Вполне возможно, что
так отозвалась на отцовском сердце ее ночевка у Торопчиных. Думала узнать
тайну пусть и важную для собственной души, но не подумала, что заставит
переживать вместе с отцом Лизу и брата Игорешку, Владьку и всех Торопчиных.
Никогда не была мстительной, и вдруг загорелось – мстить. Мстить по злому
присловию Хмыревой матери: «Невестке – на отместку!» Вот, оказывается, на
что она способна. А ведь ее чудесно приняли! И столько удивительного
открылось! Как простачка думала о заводе: работают там и работают,
продукцию выдают – и все. Обыденщина. Ну, тяжелые специальности на
здоровье отражаются, как получилось у ее матери Клавдии Ананьевны. А в
общем, и не за что особенно-то поклоняться заводским и не во что вникать в
такое, чтоб распахнулась сложность труда и жизни. А выходит: вон оно как!
Отец шевельнулся. Из-под локтя сверкнул зеленый глаз, затем прижмурился
и весело подмигнул.
Отец было хотел бодро вскочить, да его повело в сторону и опять прилег.
Сергей Торопчин запретил ему спускаться в турму. Через полчаса вместе с
дочерью Корабельников спустился на верх печей, где попил газировки, постоял
перед качающимся вентилятором и поднялся в кабину загрузочного вагона.
Пока он рассказывал Маше, как устроен вагон, она старалась понять то
новое впечатление, которое сегодня вызвал в ней отец. Он замолчал,
догадавшись, что она не слушает.
– Папа, – застенчиво промолвила она, – а ведь ты герой!
– Почему это?
– По всему.
– У меня вагон тугоухий. Тише, засмеет. То ты негодуешь на меня и,
вероятно, презираешь, то я у тебя герой.
– Не сбивай с толку. Почему ты бросил нас – ты все равно скажешь. Но
сейчас мы это пропустим. Сейчас я додумалась: ты – герой.
– Просто я трудяга. Корабельниковы испокон веку труженики. Герои, дочка,
дерзкие люди, всесторонней храбрости, и у них исключительное чувство чести.
Трайно бы с героем не связался. Где Трайно самостийничает и мозги вправляет,
там герои не ночевали.
– Ты не прав, папа. Когда ты воевал, наверно, встречал всяких командиров,
тоже и таких – надутых, которые считают, раз они начальники, значит, умней и
правильней солдат.
– И все-таки герои – редкость. Отчаянных принимают за героев. Герой всегда
смел, то есть живет смело и достойнейшим образом. А то, что ради этого он в
любой час может потерять голову, конечно, само собой разумеется. Потерять
жизнь – не штука. Штука сохранять ее и работать на пользу обществу.
– Ты и живешь смело. Хмырь говорил – у нас на коксохиме сильная
текучесть рабочей силы. Наверно, из-за газа, из-за высоких температур?
– Причины различные. Ладно, доча. Коля Колич подал знак. Ты домой топай,
а я поеду под угольную башню. Надо испробовать, как шихта насыпается, в печи
грузить.
Спохватилась, что не написала матери, когда принесли письмо от нее.
Мать лежала в больнице. Тащила ящик сливочного масла, поскользнулась на
огуречной шкурке, упала. Выпишут не раньше чем через месяц. Повредила
позвоночник. Температурит. Нервы сдают. Все вибрационка. Конечности опять
побелели. До вибрационки сроду нервной не была. Но и до работы на
пневматических молотках серьезно переутомлялась. Поклейми-ка целую смену
блюмы в потоке! Кабы холодные, а то раскаленные, скрасна-белые, скрасна-
желтые, скрасна-малиновые. Тысячу раз потом изойдешь. Глаза кровью
нальются. Щеки до того обстрекает жаром – совсем отутовеют. Ну да... завейся,
горе, веревочкой, затмись, давняя жизнь. О Маше она соскучилась. «Вроде
недавно прощались, а почему-то блазнит – давнехонько. Ничего. Отдыхай,
укрепляйся здоровьем. За меня не страдай. Уход в больнице хороший, кормежка
справная, лечение старательное!»
Чего-чего, а того, что мать попадет в больницу, Маша не ожидала. Она знала
– мать часто перемогается, но не идет в поликлинику, не позволяет себе
отдыхать. И потому привилась ее чувствам спокойная вера в то, что мать
пересилит на ногах свои болезни и что вообще с нею ничего не случится. И вот
мать в больнице. Как могла она не заметить огуречную шкурку? В пол ведь
глядела? Была бы Маша в гастрономе, уберегла бы мать.
Ее воображение начало вертеться вокруг того, как мать прилаживала спину
под ящик, как зачастила ногами к дверям склада, как она, Маша, пристроилась






