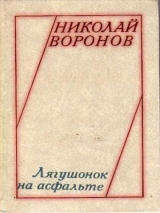
Текст книги "Лягушонок на асфальте (сборник)"
Автор книги: Николай Воронов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц)
Внизу ходил по глине дикобраз. Страшновато прыгать. Говорят, дикобраз
стреляет своими иглами. Струсит, когда Гека шмякнется на землю, и метнет
стаю иголок.
На краю крыши встал во весь рост. Перед вольером дикобраза стояли
девчонки. Публика колыхалась возле клеток обезьян, хищных зверей и перед
канатом, замыкавшим площадку Гоги.
Прыгнул. Приземлился на ноги, упал и с боку на бок. Директор, озиравший
зверинец с крыльца персонального автофургона, углядел, как что-то
промелькнуло в воздухе.
Подняли Геку девчонки. Они же предупредили:
– Поймает.
Оказалось, что приближается японским шагом сам крикун.
Гога уже заметил Геку, веселым похрюкиванием звал к себе. Гека пробил
толпу. Нырнул под канат. И слону под брюхо. Директор, стукаясь об стену
публики, забегал у каната.
Под животом слона жарко, как под топкой паровоза.
Гека потолкался головой в Гогин живот. Мягкий. А еще на нем длинный
пушок.
И справа и слева, если раскосить глаза, торчат соски. Удивительно смешно.
– Гека, – позвал тонкий голос Миши Бакаева. – Вылазь. Начальник ушел.
Мальчик пробрался меж стволами слоновых ног.
Гога не то нюхал его, не то щекотал уголками хобота, а мальчик поглаживал
волнистый, дующий зноем хобот.
В ужасе ахали тетеньки, улыбались дяденьки, смеялись пацаны во главе с
Мишей Бакаевым.
Среди зевак замелькала кудрявая шевелюра Аркадия. Когда он подлазил под
канат, то подмигнул Геке. Стоя вместе с ним возле слона, который нежно
притрагивался то к одному из них, то к другому, он сказал:
– Непорядок, малыш. Ты лучше приходи до открытия и после закрытия.
Посмотри, каша получается.
Аркадий поднял Геку над собой. Все люди, пришедшие в зверинец, сбились
вокруг площадки слона.
– С директором я договорился.
– Ладно. Я согласен. Только я сейчас останусь. На немножечко.
– За канатом?
– Ладно.
Геке приходилось нарушать слово, когда ему подавали бублик, французскую
булку, ромовую бабу и просили передать слону. Он передавал, лихорадочно
проводя маленькой ладошкой по хоботу.
9
Рано утром и на закате солнца Геку пускали в зверинец. Директор избегал с
ним встреч: заметит – свернет к какой-нибудь клетке, как будто туда и спешил.
Гека радовался, и не только потому, что кормил и купал Гогу, точно
служитель, а еще и потому, что научился ловить красноперок, перескакивать
через костры, не обжигая ног и не решетя штанов.
От игры в футбол, хотя ребята и уговаривали, отказался. Хотелось гонять
мяч – не принимали, теперь почему-то расхотелось.
Но недолго он был счастлив. Отец взял отпуск и увез с собой в башкирскую
деревню Кулкасово. Тут жили их знакомые Нурпеисовы. В горнице
Нурпеисовых отец с Гекой и поселились.
Здесь было красиво: горы; на скалах лиственницы, прозрачны, нежноиглы;
по-над Кизилом, галдящим на камнях ртутно-белой водой, роща вязов, где и в
августе были соловьи – звук раскатывался такой, словно кто-то привязал к
дереву длинную никелевую проволоку, натянул ее и встряхивал, дергал, крутил;
на быстринах клевали ельцы, в омутах с затонувшими корчами – голавли; ягоды
у реки лопай, какие по вкусу – малину, черемуху, смородину, костянику.
Прошлым летом Гека мечтал погостить в Кулкасове, да его не пустили -
денег не было: мать, отец и Алевтина Александровна ездили на родину, под
Пензу, и сильно израсходовались на подарки.
А теперь тянуло в город. Все очень быстро опостылело. Где бы ни ходил, все
мерещился Гога. Кривой сизый сук мелькнет в кроне вяза – хобот. Валун торчит
на стрежне – слон, спасаясь от жары, вошел по лоб в кизил.
Отцу что: улыбка отлилась на щеках. И никто не мерещится, даже Шура,
Сашенька, Александровна. Только и знает:
– Воздух-то! Воздух! Как дыня воздух: режь, кусай, сок с бороды облизывай.
Зарядили дожди. Похолодало. В доме да в доме. Тоска.
– Отсыпайся, сынок. Скоро в школу.
И не подумает отец, сколотили навес для слона или он топчется под
открытым небом. Может, дрожит Гога и плачет по Африке.
Чуть подсохли дороги, потянули лесовозы из-за хребтов. Отец ушел пастись
– ягоды есть. Гека оставил ему записку. И на дорогу.
Взяли на лесовоз, в кабине которого пели три пьяных мужика. Сидел верхом
на шершавой сырой сосне.
Перед совхозом «Красная Башкирия» Геку ссадили: кабы автоинспекция не
застукала. До города брел пешком. По городу зайцем на трамвае.
Слона увидел от цветников горного института. Забор был разобран и свален
на глину. Ничего от зверинца не осталось, кроме Гоги (навес, под которым он
мог укрываться в ненастье, все-таки протянули) и директорского автофургона.
Плохо слушались ноги, но побежал. Спотыкался. Ломило зачугуневшие
пятки.
Услышал горн. Трубил, наверно, мальчик не больше его, Геки. Получалось
натужно, глухо, хрипловато.
Нет, горнит не маленький – взрослый. Над площадью пронесся звук,
похожий призывностью, блеском, длиной на тот, который раздается над
просторами пионерского лагеря, когда трубят на линейку.
Кто же горнит? Никого не видать. Ой, да ведь это Гога трубит.
Гека подпрыгнул, обхватил хобот руками-ногами, зажмурился. Слон
танцевал, качая его, как маятник.
Открыв глаза, Гека увидел неровно обпиленный бивень. Неожиданно по-над
бивнем всплыло лицо директора. Ты смотри, обрадовался. А, хитрит. Ничего не
выйдет. Не сведешь в милицию.
– Мальчик, вот хорошо-то, что ты приехал!
«Притвора».
– Я уже не чаял увезти слона раньше, чем через неделю. Выручишь?
Выручишь. Ты славный.
«Прет чепуху. Еще не научился обдуривать».
– Мы уже всех зверей погрузили. За слоном дело стало. Некому отвести на
станцию.
«Будто и некому?!»
– Из персонала слон одного Аркадия признает, а он в больнице. Взял
мотоцикл в магазине проката и поехал с твоей сестрой за город. Природу хотел
порисовать. Разогнал на всю железку. Тут ямка. И вышибло их. Аннушке
повезло. Ссадинами отделалась, ушибами. У Аркадия перелом берцовой кости.
Аннушка пока тоже в больнице. Я к вам на квартиру ходил. Просил сказать, где
ты. Мать у тебя принципиальная. Отказалась сказать, где ты.
– Обманываешь?
– Незачем.
– Поклянись.
– Честное партийное.
10
Подъехал мотороллер с кузовом. Привез в бачках еду для Гоги. Директор,
чтобы расположить к себе слона, все старался делать вместе с Гекой: ссыпал в
корыто пареный овес, ставил корыто на настил, таскал в бадье воду.
В свободное время он заставлял Геку стоять рядом с собой, держал на его
плече ладонь; на указательном и среднем пальцах табачная смолка.
Мальчик не только не таил обиды на директора – он был горд, что сам
начальник зверинца стал относиться к нему уважительно.
Всем он был доволен и ничего не желал: ни вишневого сока, ни конфет
«Ласточка», ни ацидофилина, ни грецких орехов. Разве что чуть-чуть хотелось,
чтобы пришел Миша Бакаев с ребятами и они бы посмотрели, как он сидит на
слоне наподобие какого-нибудь магараджи.
Вечером не было отбоя от зевак. Директор искричался, увещевая их не
приближаться к слону; животное дикое («Никакое не дикое», – думал Гека);
разнервничается, если беспокоить, и начнет крушить все, что ни подвернется.
Последним, уже в темноте, навестил Гогу пьяный. Покачался на одном
месте, как примагниченный, сказал слону:
– Правильно делаешь, что водку не пьешь, – рассмеялся и заковылял к
скверу.
Директор принес из гастронома сырковой массы с изюмом, колбасы,
бутылку сливок и плитку шоколада.
Поужинали в фургоне. Долго сидели на крыльце. Гога сошел с настила,
чтобы смотреть на Геку и стоять поближе к нему. Он вздыхал. В темноте его
голова казалась гранитной, глаза мерцали черным блеском, точно вода в
безлунье.
Никогда мальчик не видел столько звезд, сколько проступило на небе в ту
ночь. Куда ни ткнется взглядом – звезды.
– Дядь, Ковшик есть названье у звезд. Еще как?
Директор, наверно, не слышал, что сказал Гека, потому и спросил:
– Знаешь, каким я был человеком?!
– Каким?
– Под моим началом было много-много людей. Ездил на двух машинах.
– Дядь, вон три звездочки вдоль, три поперек. Как называются? Грабли?
– Пост так пост занимал! Другому во сне не приснится. Не веришь? Не
веришь. Одет я, как заведующий пивной палаткой. Опростился. Ума убыло...
Реки бывают: весной море, осенью – ручеек. Совсем вроде бы не я.
– Дядь, веришь: есть звезды крупней солнца?
– Ты счастливчик. Ты еще не знаешь, что такое занимать важное кресло и
вдруг оказаться вышибленным из него. То много мог, и вдруг – ничего не
можешь.
– Дядь, ну скажи: есть на свете солнце больше нашего солнца?
11
Спал Гека на топчане Аркадия. Подушка пахла зверями. Просыпался то от
тревожного хорканья Гоги, то от шелеста афиш: их задевал директор, вращаясь
на своем топчане.
Встали на восходе. Директор отомкнул замчище, на который была закрыта
цепь. Саму цепь выдернули из ушка жгута (внутри стальные тросики),
облегавшего низ Гогиной ноги.
Накормили слона, и Гека повел его на станцию, держась за крюк хобота.
Директор шагал рядом. Он радовался, что на проспектном шоссе, тянувшемся к
вокзалу, ни транспорта, ни пешеходов.
Когда впереди, на тротуаре, появлялся сторож, охранявший магазин,
директор резко махал рукой: не маячь, прижмись к стене, и тот замирал возле
витрины или двери, спрятав под шубу ружье.
Гека грустно улыбался. При нем слон ничего и никого бы не тронул, хоть
если бы на шоссе была автомобильная теснота, а тротуары запружены народом.
Вагоны, занятые зверинцем, загнали на тупиковый путь. Для Гоги
приготовили теплушку. За порог зацеплены сходни. Низом они уткнулись в
щебень.
Сходни крякали от тяжелой поступи слона. В су-теми теплушки белели
ясли, пахнувшие березовым соком. Из яслей торчало сено.
Гека высвободил из хобота занемелую руку, шевелил пальцами, слушал, как
Гога шелестит сухими травами.
Директор уехал на грузовике. Грузовик доставит остатки заборных панелей,
а директор приведет и загонит на платформу автофургон.
Неподалеку застрекотали сороки. Мальчик бросился к дверному проему, и
тут раздалось протестующее Гогино хрюканье.
«Погоди», – мысленно сказал Гека.
В сахарном мареве, трепещущем над пустошью, вертелись сороки, догоняя
ворону, которая тащила в клюве что-то темно-красное, похожее на мясной
ошметок.
Гека загадал: сороки не отберут у вороны добычу. Но проверить этого не
смог: слон взял его за руку и потянул к яслям. Возле яслей отпустил и стал
делать кольцевые движения хоботом над его головой и дул при этом, и волосы
мальчика завихривались, как железная рудная пыль, над которой крутят магнит.
«Ладно, Гога, успокойся. Постараюсь реже отходить от тебя».
Он сел на угол яслей, весело застукотил пятками.
Чуть не свалился на пол: будто оборвалось сердце, едва подумал, решится ли
директор взять его в Челябинск. И не трус, а какой-то чересчур осторожный.
Может не решиться. Да и слон начинает его признавать. И кормить себя,
наверно, позволит, и увезти с челябинского вокзала. Так что директор, пожалуй,
попробует вытурить Геку из теплушки до отхода поезда. Жалко, нет Аркадия.
Аркадий бы заступился и взял в Челябинск. Сам бы не додумался взять,
Аннушка бы намекнула. Сестру Гека сумел бы упросить.
Хруст щебня. Шаги на сходнях. Директор. Черный в розовом квадрате неба.
Скинул с плеча цепь. Служитель, надсадно кашляя, опустил стальную сваю с
ушком. И вон из вагона. Притащил бадью с корытом. И снова ни на минуту не
задержался. Бояка.
Бедный Гога. Завтра-послезавтра опять станет каторжной его левая нога.
– Дядь, поеду?
– Поедешь.
– Тра-да-да, тра-да-да, тра-да-дадушки, тра-да-да.
– Только отпросись у матери. Покуда Аркадия лечат, будешь за него. Денег
тебе дадим.
– Мамка не отпустит. Я без спросу.
– Нельзя. Ты маленький. Десять, одиннадцатый. Не больше. Так мне за тебя
попадет, свету невзвижу.
Говоря, директор подошел к Геке и, косясь на слона, сел на ясли рядом с
мальчиком. Гога понюхал директора, неприязненно фыркнул.
– Верно: не отпустит тебя мать. Тем более со зверинцем. Парнишка ты
ловкий. Побоится, руку тебе откусят или совсем разорвут.
– Поеду, дядь? Хоть в милиции скажу: меня не брали, тайком залез и уехал.
– Сейчас так говоришь. На допросе другое запоешь.
– Нет, дядь. Бьют, я и то молчу.
– Худо будет без тебя. Даже и не знаю, что будет. Коварная скотинка этот
слон.
Директор замолк, посидел, насупясь. Ушел в станционный буфет. Принес
Геке лимонный напиток, связку баранок, бутерброды с ветчиной, пяток яиц,
сваренных вкрутую, кулечек конфет – арахис, облитый шоколадом. Сам убежал
добывать тепловоз.
Гека разложил еду на деревянном лежаке, приткнутом к стене,
противоположной той, у которой стоял Гога. Слон притопал к лежаку, и они
вместе позавтракали.
По суматошной беготне служителей вдоль эшелона, по тому, что они
втолкнули в теплушку лиственничные сходни, и по тому, что вагоны начали
чокаться от вкрадчиво далекого толчка, Гека определил, что скоро объявят по
радио отправление и поезд тронется.
Прибежал директор. На багровых зализах сеево пота. В груди хрип.
– Ма-альчик, отъезжаем. Ты-ы ко мне в а-авто-фургон. Слона закроем. Жи-
во!
– Я с Гогой останусь.
– Брось глупить.
Директор подпрыгнул, зацепился брюхом за порог и, пыхтя, влез в теплушку,
но, увидев, что мальчик забрался в ясли под защиту слона, сиганул на насыпь,
задвинул легко катившуюся дверь, побежал по гремучему щебню.
Свисток тепловоза. Тронулись. Свет в теплушку попадал только в
маленькое, зарешеченное, под самой крышей оконце. Не останавливаясь,
проезжали станцию за станцией: мелькали тополевые ветки, заваленные
грачиными гнездами, алые стены кирпичных вокзалов, фонари, чугунные краны
для заливки воды в паровозные тендеры.
Из дремы Геку выхватило солнышко. Оно застряло в оконце перед самой
решеткой и слепило алюминиевым пламенем.
Тишина. Значит, стоянка. Хруст. Кто-то идет по угольному шлаку. Встал.
Лязг. Отодвигается дверь. Ее колесики свистят сверчками.
Появился служитель в тельняшке, положил на порог постель.
– Шкетик, ты где? Возьми-ка вот постель.
Мальчик затаился в яслях. Но так как лицо служителя, когда возникло, над
порогом, было ждущее, веселое, Гека унял в себе чувство осторожности,
прополз под хоботом и спрыгнул на пол.
Служитель приподнял скатку постели, будто собирался подать. И едва Гека
прикоснулся к ней, схватил его за руку и выдернул из вагона. В следующий миг
он затолкнул постель в теплушку и задвинул дверь.
Гека был ошеломлен. Он заревел лишь тогда, когда служитель дотащил его
до женщины в малиновой фуражке и она взяла его в охапку.
– Отправь пацана обратно.
Из-за слез Гека не видел, как уходил поезд. Он только слышал, как звенели
колеса, как этот звон раскалывали удары чего-то большого обо что-то твердое и
как, пугаясь, женщина сказала:
– Да кто же там бьет, аж вагон качается!
12
В город Геку доставили на дрезине. Вечером он пришел домой. Через
несколько дней мать взяла отпуск и увезла его в горы.
Вскоре няня прислала Геке письмо. Почтальон отдал ему письмо возле
ворот. Няня писала, что была с Аннушкой в больнице у Аркадия. И Аркадий
сказал им, что «твой слон умер по дороге в Челябинск».
Гека упал под круглокронной ветлой.
Плакал.
Его разыскали отец с матерью. Пытались узнать, что с ним. Он молчал. А
когда они стали сердиться, крикнул:
– Вас не касается, не касается!
1964-1965
СМЯТЕНИЕ
Повесть
Маша Корабельникова бежала в зеркальный гастроном, где ее мать работала
грузчицей. Маша тревожилась, что не застанет мать – заместительша любит
возить ее с собой по продуктовым базам, – поэтому загадала, что заместительша
крутит у себя в кабинете ручку арифмометра, а мать стоит перед железными
дверями, которые ведут в подвал магазина. На ней темный, словно свинцом
затертый халат, покрытый шрамиками штопки, пятнами ржавчины и масла. Она
держит в кулаках концы косынки и греет на солнце лоб. Болит он у нее. Когда
Хмырь дерется, то метит ударить по голове. Хмырь – Машин отчим, Евгений
Лаврентьевич. Трезвый он молчун, пьян – вредина, вот и прозвала его Хмырем,
хотя и сама не знает, что такое хмырь.
Она бежала по бульвару между кустами облепихи, покрытыми резинисто-
серебристой листвой. И едва аллея кончилась, увидела огромные, зеленоватые
на просвет витринные стекла, вставленные в чугунные рамы.
В гастроном она наведывалась чуть ли не каждый день: нигде не
чувствовала себя проще и вольготней, чем здесь. Продавщицы ей радовались, а
мать с восторженным лицом ходила за нею по пятам. Все давно знали, кем
приходится Маша Клавдии Ананьевне, однако она говорила:
– Дочка пришла! Скучает по мне.
Если она попадалась на глаза директору Стефану Ивановичу,
вдалбливавшему подчиненным, чтобы их домашние и родственники не смели
заходить в магазин со стороны склада, он, неулыба, растягивал запачканные
никотином губы:
– Расти быстрей, Марья, заместительшей возьму.
– Скажете, Стефан Иванович. До заместительш дойти – нужно сперва лет
десять весам покланяться. Правда, моя Маша все на лету схватывает?
– Верно.
Тут бы матери уняться: погордилась – хватит. Не может, вытягивает из
человека похвалы.
– Согласны, Стефан Иваныч, дочка у меня хорошая?
– Куда уж лучше, Клавдия Ананьевна!
Маша помогала матери.
Они сгружали с машин корзины с карпами и серебристым рипусом, ящики с
тбилисским «беломором», при виде которого курильщики бранились, алые
головки голландского сыра, который брали нарасхват, несмотря на то, что он пах
овчиной.
Переделав материны дела, Маша брала в кабинете заместительши один из
чистых, наглаженных до сахарного блеска халатов, приготовленных на случай
прихода рабочего контроля, шла из отдела в отдел, спрашивая продавщиц
голосом сторожа Чебурахтина:
– Не пособить ли шего, девошьки?
Продавщицы смеялись, давали ей какое-нибудь поручение и, принимая чеки
и отпуская товар, интересовались тем, как она учится, какое «кажут» кино,
ухаживают ли за ней мальчики, не собирается ли она после десятилетки
податься в торговую школу.
Отвечая продавщицам, Маша насмешничала и над ними, и над тем, о чем
они спрашивали, и над собой.
Они угощали ее конфетами, халвой, черносливом, грецкими орехами, а то и
чем-нибудь на редкость лакомым: гранатами, атлантической селедкой из
огромных банок, лососем, куриной печеночной колбасой.
Было время, когда Маша редко заходила в гастроном и стыдилась того, что
ее мать грузчица, и однажды из-за этого сильно опозорилась перед англичанкой
Татьяной Петровной. Англичанка была классной руководительницей Маши и
жила в их доме, в том же подъезде и на той же лестничной площадке.
Клавдия Ананьевна и Татьяна Петровна даже как бы немножко дружили.
Клавдия Ананьевна сообщала ей через Машу, когда выкинут гречку, копченую
колбасу, исландское филе из трески или что-нибудь деликатесное, вроде
апельсинов, консервированной налимьей печени, арахиса, маковок и трюфелей.
Англичанка не оставалась в долгу перед Клавдией Ананьевной. Мирила ее со
свекровью и окорачивала Хмыря. При ней он становился смирненьким.
Образованная, что ли? А может, потому, что ее муж работал в газете.
Татьяне Петровне почему-то вздумалось, чтоб каждый ученик написал по-
английски, кем работают его мать и отец.
Маша надеялась, что дадут звонок на перемену, покамест дойдет до нее
очередь говорить. Но Татьяна Петровна вдруг решила спрашивать третий ряд и
начала с последней парты, где сидели Митька Калганов и Маша. Митьке что? У
него отец начальник монтажного управления в тресте «Уралстальконструкция»,
а мать солистка хоровой капеллы.
– У меня отца нет, – сказала Маша по-русски. – Верней, есть. Но он в другом
городе. – И по-английски: – Май фазер из э машинист. – И снова по-русски: – Он
машинист загрузочного вагона на коксохиме. Отчим тоже работает на
коксохиме. Я, правда, не знаю кем. Знаю только – в каком-то фенольном
отделении. И что работа там вредная.
– А кто твоя мать, Корабельникова?
– Если у тетеньки из фенольного родится ребенок и она будет его кормить
грудью, то он умрет к шести месяцам. Поэтому почти у всех тетенек из
фенольного дети растут искусственниками. Кормилицу ведь не найдешь.
Кормилицы были только при царизме.
Маша знала, что у нее удивительные волосы. На свету они пепельно-
серебристые, в сумерках голубые, в темноте синеют, как морская волна (это по
словам Митьки Калганова, ездившего в Керчь).
Она наклонила голову так, чтобы волосы закрыли левую половину лица,
чуточку постояла, предполагая, что класс и англичанка любуются ее волосами, и
села.
– Что же ты не сказала, кем работает твоя мама?
– Вы же знаете.
– Чувство меры, Корабельникова!
– Май мазер из эн экаунтэнт.
– Кто, кто?
– И всегда-то, Татьяна Петровна, вы меня переспрашиваете. Не буду
повторять.
– А, ты стыдишься, что твоя мама грузчица. Сегодня ты стыдишься, что она
грузчица, завтра будешь стыдиться родства с ней. Древнегреческий поэт Гесиод
сказал: «Труд никакой не позорен. Праздность позорна одна». Почти три тысячи
лет прошло впустую для таких, как ты.
Мать таскала в рогожных кулях вилки белокочанной капусты. Маше не
терпелось, чтобы мать быстрей прочитала письмо, которое она получила от
отца. Она не дала матери взять очередной куль и сама подладила под него плечо,
сунув ей в карман конверт, с которого глядел улыбчивый космонавт Попович.
В подвале, куда Маша, дрожа от натуги, притащила куль и где задержалась,
унимая дыхание, мать подошла к ней и заплакала. Обиделась, наверно, что
Маша рада отцовскому приглашению приехать на каникулы? В прошлом,
позапрошлом и позапозапрошлом году, когда Маша не поехала в гости к отцу,
мать внушала ей, что она должна его простить и навещать, несмотря на то, что
он ни с того ни с сего оставил их и сбежал. На этот раз она стала укорять ее в
неблагодарности.
– Он тебя только на ножки поставил, а я тебя вон какую лесину выходила!
Маша расплакалась, порвала письмо, кинулась из подвала вверх по бетонной
лестнице. На душе было почти так же бессолнечно, как зимой, когда сидела в
кузове грузовика возле гроба маминого брата. Он был зоотехником, заблудился в
буран и погиб вместе с конем. Дядя был умным и добрым: видя нехватки в их
семье, сам покупал Маше одежду. Тогда, в гремучем грузовике, ей казалось, что
все радости позади. И теперь что-то похожее. Счастье? У кого-то будет, у нее -
нет. Желания? Лучше ничего не желать.
Из магазина Клавдия Ананьевна пришла в сумерках. Маша играла в
бадминтон с Митькой Калгановым. Играла, как он сказал, индифферентно. Ну и
что – индифферентно? Все равно. Бадминтон? Бессмыслица. Проигрыш и
выигрыш – тоже.
– Доченька.
– Митьк, бей.
– Матушка тебя зовет.
– Бей!
«Матушка». Идет. Станет ластиться. Безразлично, что она будет
нашептывать и чем оправдываться. И совсем не жалко, что она усталая.
– Дочура, я отбила телеграмму. Пришлет на дорогу, сразу и поедешь. Деньги
просила на главпочту. Скажем отчиму: ты едешь в Юхнов к моей маме. Мол,
городишко там уютный. Заводов нету. Кругом леса и реки. Да смотри не
проговорись. А то Евгений Лаврентьевич... кто его знает, как он на это поглядит.
– Мать побрела к парадному.
До чего же она умаивается за день, милая мамка! До чего же стары на ней
тапочки! Треснули в запятниках, прошмыгались на подошве.
Маша бросила Митьке Калганову ракетку. Догнала в подъезде мать.
Целовала так долго, что та даже рассердилась.
– Вот лань. Голова закружилась.
Когда она стала учиться в школе, то послала бабушке письмо: просила
прислать карточку отца.
Бабушкино письмо вытащил из почтового ящика Хмырь. Он вышагнул в
прихожую, где Маша, скинувшая пальто, расправляла банты на косичках, и
поднес к ее лицу фотографию.
– Видела?
И его рука – на тарантула походила в тот момент – сломала и скомкала
карточку.
Девочка запомнила башню танка, букет цветов, рядом с ним – волнистый
толстый шлем. А того, на ком был шлем, совсем не запомнила.
Маша расспрашивала мать, какой он из себя, папка. Высокий! Значит,
ростом удалась в него. Ямочки на щеках! Досадно, что не передались. Широк в
плечах? К счастью, у нее маленькие плечи. Каштановые волосы?! Так чьи же
передались ей? Глаза зеленые? И у нее точь-в-точь такие.
До Москвы Маша летела на самолете. Была болтанка. Все травили, кроме
нее и двух молодых военных летчиков. В Домодедово, когда сходили по трапу на
поле аэродрома, один из летчиков обернулся к Маше:
– У тебя, девушка, идеальный вестибулярный аппарат. Подавайся-ка после
школы в авиацию.
С вокзала перед посадкой на поезд она послала Калганову открытку:
«Митьк, у меня идеальный вестибулярный аппарат. Торжествуй, а также вырази
благодарность моей маме».
На вокзале в городе отца ее никто не встречал. Она должна была «отбить» из
Москвы телеграмму, но не отбила. Пресно это, когда человек выходит из поезда,
его встречают, везут к накрытому столу, во всем предупредительны, и никаких
неожиданностей и приключений. Как разыскать улицу Верещагина, Маша не
стала спрашивать. День большой, до вечера разыщет. Пошла по обочине шоссе.
Оно было булыжниковое, лоснилось, пропадало из виду в голубом проломе
березовой рощи.
В сторону вокзала промчался на красном мотоцикле мужчина в берете. Не
отец ли? Может, каждое утро приезжает к поезду, а сегодня немного запоздал.
Нет, наверно, все-таки не отец. Он металлург и навряд ли будет носить берет. У
них, в Железнодольске, почти все металлурги носят фуражки.
В пышечную, где автомат спек для Маши воздушно-мягкое кольцо, вошел
мужчина с мальчиком. Он был не брит, часто вздыхал. Он не ел, только, сидя на
корточках, дул на кофе и давал мальчику откусывать от пышки. Мальчик может
оказаться Игорешкой – ее родным братом, а мужчина – отцом.
Она хотела подойти к ним, заговорить, но сдержалась: сколько будет
удивления и восторгов, если после, в доме по улице Верещагина, они узнают
друг друга.
Неподалеку от рощи ее захватил дождь. Он быстро заштриховал воздух. На
бегу Маша запрокинула лицо и видела, как за сверканьем ливня выгибается под
солнцем радуга.
На краю рощи, чуть особняком, стояла могучая береза. Крона стогом. Под
эту березу и бросилась Маша с мостовой. И были для нее чудом, как и штрихи-
дождины, как и радуга под солнцем, – черные ромбы по белой коре. Сюда же,
под березу, прибежали с шоссе велосипедисты. Велосипеды они тащили,
поддевши раму плечом. И Маша, прижавшаяся спиной к теплому стволу,
очутилась в двойном кольце: внутреннее кольцо – велосипедисты, внешнее -
велосипеды.
Смутилась: сразу столько незнакомых мальчишек – и ощипала мокрое на
груди платье.
Они, улыбаясь, глядели на Машу, она посматривала сквозь слипающиеся
ресницы на тех из них, кто был в поле ее зрения, и все равно в минуту
рассмотрела этих мальчишек и начала про себя подтрунивать над тем, что они
держат фасон, а все под одну гребенку: в кедах, шортах, зеленых майках и в
каскетках с голубым целлулоидным козырьком.
Сивый мальчишка, который стоял напротив нее, вдруг крикнул с шутливым
изумлением:
– Ребятишки, эврика! Я открыл путешественницу.
Велосипедисты загалдели, нарочито удивляясь тому, что будто бы сами не
заметили ее. Когда они умолкли, Маша сказала:
– А путешественница открыла штампованных мальчишек.
– Ба, да она наблюдательная!
– Если у вас и мысли одинаковые, то путешественнице надо возвращаться на
вокзал.
– Явление! – опять изумился сивый.
И все снова весело загалдели.
Их дружелюбие не понравилось Маше. Какие-то задорные мамсики.
Подначила их, а они, как говорит Митька, мирно отреагировали.
– Ты не теряйся, девушка.
– Перед кем теряться-то?
– Ершистые в вашей местности девчонки. Что за местность, не скажешь?
– Урал.
– Владька, твоя землячка.
Паренек с черной челкой, которого сивый назвал Владькой, кивнул головой.
– Деревня? Город?
– Железнодольск.
– Владька, слышишь? Из твоего города.
Губы Владьки дрогнули, но не отворились. Подумала: «Странный или
задавака».
– Он пришел в мир, чтобы стать новым Галуа. Ты не удивляйся, что он не
сразу обрадовался землячке. У него не человеческое направление ума, а
математическое.
Владька шевельнул уголком рта. То ли возмутился, то ли улыбнулся. Руль
его велосипеда был обмотан синей изоляцией. Владька сжал рога руля и как бы
навинчивал кулаки на них, пригоняя изоляцию.
Больше Маше не захотелось дерзить, но в душе она не удержалась от
насмешки над Владькой: «Занятное ты существо!» – и над сивым: «Ты, наверно,
общественный организатор с ясельного возраста?»
Облако, полившее рощу, двигалось на город, оно напоминало, таща
скособоченные волокна дождя, медузу. Это заметил сивый. Он же
полюбопытствовал, к кому путешественница приехала, однако она не ответила и
спросила, куда они держат путь. Они ехали на пристань. Маша сказала, что и ей
туда. Сивый предложил довезти ее на раме. Она ездила на раме со знакомыми
мальчишками. Прямо отказаться не посмела: если бы на багажнике, то поехала
бы. Багажник только на Владькином велосипеде. Понятно, что Владька лишь
шевельнет губами, и пойми его, согласен везти или не согласен.
– Мне не привыкать, – неожиданно заговорил Владька. – Дома приходилось
сестру в музыкальную школу возить.
За рощей начинался город. Он был старинный, рубленый, резной. Тротуары
дощатые. Она удивилась и едва не свалила велосипед, заметив, как меж
прогнувшимися плахами фыркнула рыжая вода на ноги толстой гордой даме.
Фыркнула вода, потом Маша фыркнула, и Владьке чудом удалось удержать
равновесие.
С холма, от обколупанной церкви, из колокольни которой высунулась, будто
храбрящаяся девчонка, перистая рябина, Маша увидела горизонт,
хромированный зноем, перед горизонтом – синие наплывы хвойных лесов.
Велосипед понесся вниз. Открывались, стремительно переходя в близь, дали:
осинники, голубень льнов, картофельные поля, пресное море; при впадении в
море перекрещивались две реки.
У берега стояли какие-то дворцы. Самый большой дворец был зеленый,
средний – розовый, маленький – голубой. Наверно, дворцы водного спорта?
Зеленый для взрослых, розовый для молодежи, голубой для детей. Ох нет, это не
дворцы водного спорта. Возле зеленого – баржа. На барже – кран. Напоминает
австралийскую птицу киви. Возле розового – теплоход. Возле голубого -
суденышки, похожие на перевернутых жуков. Буксиры, что ли?
Владька, конечно, знает, что за строения – зеленое, розовое, голубое.
– Дебаркадеры.
– Не слыхала. Может, дебаркатеры? Они ведь на плаву.
– Повторяю по слогам. Де-бар-ка-де-ры. Проще – плавучие пристани.
– Усвоено.
Сивый впритык подъехал к перилам широкого настила, проложенного на
борт зеленого дебаркадера, и уперся ногой в землю, подколеньем другой ноги
прихватил раму велосипеда. То же сделала ватага, лишь Владьке пришлось
соскочить и пробежать, останавливая велосипед.
Не меняя картинных поз, мальчишки глядели, как высыпали, трусили,
шагали, брели на пристань пассажиры. Едва людской поток схлынул, сивый
сказал, что как земляк Владька обязан сопровождать девушку в прогулке по
берегу, а к вечеру должен доставить на квартиру ее родственников.






